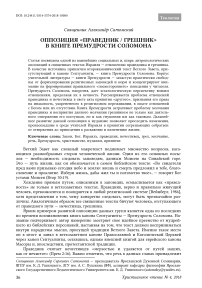Оппозиция "праведник / грешник" в книге премудрости Соломона
Автор: Сатомский Александр Сергеевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 4 (81), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена одной из важнейших социальных и, шире, антропологических оппозиций в священных текстах Израиля - отношению праведника и грешника. В качестве источника привлечен второканонический текст Ветхого Завета, присутствующий в каноне Септуагинты, - книга Премудрости Соломона. Корпус учительной литературы - книги Премудрости - зачастую практически свободны от формулирования религиозных заповедей и норм и концентрируют внимание на формировании правильного «посюстороннего» поведения у читателя. Премудрость Соломона, напротив, дает эсхатологическую перспективу всяким отношениям, продолжая их в вечность. Рассматривается проблема отношений праведника и нечестивца в свете акта принятия «другого», признания его права на инаковость, укорененного в религиозном переживании, в опыте отношений с Богом или их отсутствия. Книга Премудрости затрагивает проблему молчания праведника и восприятия данного молчания грешником не только как деятельного отвержения его поступков, но и как гнушения им как таковым. Дальнейшее развитие данной оппозиции в иудаизме позволяет проследить изменения, произошедшие в среде учителей Израиля в принятии согрешающих собратьев: от отвержения до приведения к раскаянию и изменению жизни
Закон, бог, израиль, праведник, нечестивец, грех, молчание, речь, премудрость, христианство, иудаизм, принятие
Короткий адрес: https://sciup.org/140246610
IDR: 140246610 | DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10080
Текст научной статьи Оппозиция "праведник / грешник" в книге премудрости Соломона
Ветхий Завет как сложный макротекст поднимает множество вопросов, касающихся разнообразных сторон человеческой жизни. Один из его основных посылов — необходимость следовать заповедям, данным Моисею на Синайской горе. Это — путь жизни, как он обозначается в самом библейском тексте: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое», — говорит Бог устами Моисея (Втор 30:19).
Хождение прямым путем, описанным в заповедях, осмысливается как «праведность» не только в ветхозаветных текстах. Праведник, верно и правильно живущий человек, превозносится и поощряется в любой религиозной системе [Вейнберг, 1986], хотя представления о том, чему конкретно следовать, могут быть чрезвычайно различны. Аналогичным образом все священные тексты бичуют человека, отступающего от праведного пути — нечестивца, грешника.
Ярким примером развитой оппозиции данных групп является одна из последних по времени возникновения книга канона Септуагинты — Премудрость Соломона. Название подчеркивает: автор намеренно заостряет свое идейное преемство от мудрейшего из библейских персонажей, настаивая на том, что текст должен восприниматься внутри парадигмы мысли, присущей традиции Ветхого Завета. Именно такое место он в итоге и занял в ветхозаветном каноне Православной и Католической Церквей через канон Септуагинты, оставшись, однако внешней книгой для еврейского канона Масоры и, впоследствии, протестантской традиции.
Праведник считает нечестивцев «мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот» (Прем 2:16). Важно отме тить, что речь в данных главах принадлежит
исключительно нечестивым. Праведник представлен в молчании, главной его категорией является упование, т. е. надежда. Он не высказан, не экстраполирован в мир.
Оппозиция «речь/молчание» представлена и в иных библейских текстах. Классическим примером станет здесь Отрок Господень, о котором упоминает Исайя (Ис 49–55). Он — образ праведника, напрямую связанного с конечными судьбами мира. Он кроток, подобно ягненку, никто не услышит его голоса, он уничижен более многих злодеев, хотя не говорили лжи уста его (Ис 53:7–9). Необходимо отметить, что и в иудаизме, и в христианстве данный образ в итоге был рассмотрен экзегетами как образ осмысленного страдания или, вернее сказать, как конкретный и конечный вариант самого осмысленного принятия страдания.
Для иудаизма в лице таких его лидеров, как РаШИ и РаДаК, страдающий Отрок Господень — сам Израиль как народ, несущий миру откровение о Едином Боге и уязвляемый в мировой истории. При этом в самой среде иудейских экзегетов данное мнение не получило однозначной поддержки, так как наиболее древние тексты, такие как Таргум Ионафана и трактат «Сангедрин» Вавилонского Талмуда, видят здесь однозначное упоминание Мессии Израиля. Текст Таргума, приписываемый традицией ученику рабби Гиллеля Йонатану бен-Уззиелю, говорит: «Вот, раб Мой, Мессия, будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как дом Израилев смотрел на него через многие дни, потому что потемнел лик их среди народов, и вид их паче сынов человеческих» [Гольдштейн].
В христианской традиции, начиная непосредственно с новозаветных текстов 1 Пет 2:24–25, 1 Кор 15:3 и далее, — во всей классической христианской экзегезе рассматриваемые главы Исайи однозначно воспринимаются как «ветхозаветное Евангелие», то есть профетическое повествование об Иисусе Христе.
Образы слышания и видения являются одними из основных в библейской традиции, описывающими взаимоотношения человека и Бога. Лучшим объяснением, почему праведник безмолвствует, является талмудическое толкование [Тора, 1998, 146] пассажа из книги Бытия.
Лия, будучи нелюбимой, старается приобрести любовь мужа через чадородие (Быт 29). Подряд Бог дает ей сыновей — Рувима и Симеона. Еврейский толкователь обращает внимание на деталь: почему в первом случае, благодаря Бога, Лия говорит, что Он «призрел на мое бедствие» (Быт 29:32), а во втором: «Господь услышал, что я нелюбима» (Быт 29:33), почему и называет ребенка «Симон» — ִׁש ְמעוֹן — «услышанный», от еврейского ְׁש ַמע — «слушай».
В первом случае Сам Творец обращает внимание на объективный факт — нелюбовь Иакова к первой жене, и вмешивается в ситуацию, исправляя ее. Во втором — по милосердию Он склоняет Свой слух к молитвам Лии, все еще не уверенной в том, что ее положение в браке укрепилось, хотя это так. Таким образом, праведник молчит, потому что знает — Бог видит его реальное положение.
Ввиду того, что нормативный образ страдающего праведника в христианстве — Христос, меняется и отношение к нечестивцу как таковому. Сам Иисус на кресте обращается к Отцу словами 21-го псалма: «Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?» (Пс 21:1), но Сам при этом ранее говорит о распинающих Его и соучаствующих: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк 23:34). При том что Псалтирь содержит множество откровенно бичующих и полных проклятия текстов для противников праведника (ср. Пс 108), Христос избирает для врагов прощение, для Отца же — вопрошание. Отсюда, равно как и из учительных бесед Христа (Мф 5:44), христианская традиция рассматривает нечестивца и грешника как заблуждающегося человека, нуждающегося не в отвержении, а в просвещении. Необходимо отметить, что описываемый Танахом тип взаимоотношений между праведником и грешником принципиально изменился не только в христианстве, но, впоследствии, и в ряде раввинистических школ иудаизма.
Ортодоксальный иудаизм прошел длительный путь от радикальной позиции шаммаитов по отношению к согрешающим против закона до хасидских праведников, плачущих и сетующих о чужих грехах как о своих. Яркий пример — рабби Зуся из Ан-нополя. Ему принадлежит блок высказываний и майс — притчевых историй, ярко раскрывающих хасидское миропонимание.
Мартин Бубер приводит случай посещения рабби Зусей трактира, где он остановился на ночлег. Хозяин решил незаметно понаблюдать за странным посетителем, а Зуся всю ночь проплакал о множестве грехов трактирщика: «посреди пения псалмов его охватила внезапная дрожь, и Зуся зарыдал, восклицая: „Зуся, Зуся! Грешник ты, Зуся! Что ты наделал! Если бы не был ты преисполнен лжи, то не совершил бы ни одного из преступлений, в которых замешан. Зуся, глупый, заблудший человек, когда же ты перестанешь грешить?“» [Бубер, 2006, 276]. После этих слов хозяин трактира раскаялся, чего и хотел Зуся. Налицо не отвержение грешника, а сострадание и желание привлечь его к покаянию.
Возможно, страдающий праведник книги Премудрости не столь исполнен негативного отношения к грешникам, как предполагают его оппоненты. Главным оскорбительным вовне-действием праведника является, с точки зрения нечестивцев, обличение их грехов против закона. Эта позиция праведника еще более роднит текст с диаспоральной средой, в которой отступления от закона в достаточно радикальных формах случались принципиально чаще, чем на родине. Яркий тому пример — Тиберий Юлий Александр, племянник знаменитого Филона Александрийского, отвергший веру отцов и занявший высокое место в римской иерархии, префект Иудеи [Иосиф Флавий, 1991, 115], а впоследствии Египта.
Позиция активного наблюдения за исполнением базовых норм закона не была однозначным нормативом в еврейской религиозной среде. Здесь необходимо вспомнить о системно оппонирующих друг другу великих учителях Израиля — Гилеле и Шаммае.
Талмудическая традиция усваивает каждому из них проявление одного из сущностных свойств Творца — милости в Гилеле и справедливости в Шаммае. В практике это было отражено в целом ряде проявлений: приеме прозелитов, жесткости толкований и т. д. Именно Шаммай был главным идеологом не просто ревностного наблюдения за собственной религиозной жизнью, а труда по принуждению всего Израиля к соблюдению закона [Райт, 2010, 30]. Шаммаиты в итоге оказались одной из движущих сил двух Иудейских войн, приведших еврейскую государственность к абсолютному краху.
Идея Шаммая была проста: в Танахе Бог настаивает на соблюдении Его заповедей как на главном залоге благополучия Израиля. Катастрофа 587 г. до Р. Х. была однозначно осмыслена пророками как наказание за отступление народа от Бога и хождение вслед иных божеств. Поэтому и утеря хоть какой-то самостоятельности при воцарении династии Иродов и римской оккупации воспринималась аналогичным образом.
Соответственно, ряд религиозных лидеров предлагали решение данной проблемы в рамках древних библейских рецептов. Всякий иудей, не почитающий заповедей закона, — враг Израиля. Он должен быть вразумлен или принужден (вплоть до смерти) к соблюдению условий договора с Богом.
Безусловно, праведник Премудрости не предлагает силовых решений, но обличению и попыткам возвращения заблудших к заветам отцов есть место. Возвращение к ним напрямую связано с эсхатологической перспективой, обозначенной пророками как изменение мира ввиду примирения Бога с Израилем.
Важно и поведение нечестивца, который на примере возможного падения праведника в ситуации, в которую сам же его и ввергнет, хочет доказать сам себе правоту собственной позиции. Праведник будет подвергнут страданию не только потому, что «обличает в беззакониях», но просто ввиду своей радикальной инаково-сти — он не такой, как грешник, не вписывается в его представления о мире и месте человека в нем, поэтому ему и нет в нем места.
В Премудрости Соломона грешник озвучивает своего рода жестокий социальный эксперимент: «[праведник] тщеславно называет отцом своим Бога. Увидим, истинны ли слова его, и испытаем, какой будет исход его; ибо если этот праведник есть сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. <…> осудим его на бесчестную смерть, ибо, по словам его, о нем попечение будет» (Прем 2:17) . При этом сам подход уже показывает, что с точки зрения нечестивца праведник — лжец. Никакой помощи от Бога нет и не будет, поэтому праведник может и должен быть угнетаем.
Главное отличие праведника от нечестивца именно в этой области — принятие другого в свете Божества. Для праведника Бог есть и имеет отношение к его жизни, ввиду этого и другой — есть и имеет отношение к его жизни. Отсюда и запараллеле-ность этих величин в заповедях Ветхого Завета о любви к Богу и ближнему. Для грешника — Бог и другой — мир объектов. Либо призрачных и аморфных, либо реальных и ощутимых. Если для праведника жизнь — в диалоге, то грешник абсолютно моно-логичен, другой любого уровня для него лишь объект, с которым можно лишь функционально взаимодействовать.
Поглощение, наполнение другим, за счет другого или за счет его отвержения — равнозначные для нечестивца деяния. Его должно стать много. Через бытование он, с его точки зрения, становится причастным реальности перед бездной отсутствия. Никакая эсхатология его принципиально не интересует, т. к. для него она не существует: «положена печать, и никто не возвращается» (Прем 2:5).
Таким образом, оппозиция между праведником и нечестивцем кроется не просто в следовании или не следовании путем закона, а в глубинной разнице апперцепции ими собственной антропологии. Безусловно, этот опыт восприятия с высокой долей вероятности не является реально осмысленным, а скорее подразумеваемым, он есть некая «внутренняя комната», в которую человек может не входить практически никогда. Если учесть, что праведность жестко связывается учительными книгами с мудростью, равно как и нечестие с глупостью, то с точки зрения авторов данного корпуса, в том числе и автора книги Премудрости Соломона, реальное осмысление собственной жизни и опыта доступно лишь мудрецу — праведнику.
Автор Премудрости Соломона не оставляет вопрос о взаимоотношениях праведника и нечестивца без ответа. В отличие от других книг учительного корпуса, которые либо не видят данной проблемы, как книга Притч, либо же указывают на ее принципиальную неразрешимость, как Экклезиаст [Ценгер, 2008], Премудрость Соломона полагает последним арбитром этих отношений действующего Бога. В некотором смысле это шаг, не характерный для всего корпуса Кетубим — Писаний. Здесь читатель наблюдает действующего и говорящего человека и молчащего Бога. В книге Премудрости Бог начинает действовать.
Уже в первой главе, предваряя сюжет конфликта нечестивцев с праведником, автор сразу вводит своеобразный пролог к ситуации — конфликт происходит только ввиду того, что в своей свободе некоторые из людей избирают смерть: «Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть. Нечестивые привлекли ее и руками и словами, сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием» (Прем 1:15–16). Грех и неправда — не просто один из форматов человеческого поведения, пусть и социально не одобряемый, а деятельное вступление в союз с противником Бога — смертью. Заповеди Премудрости — заповеди жизни: «Блажен человек, который слушает меня… Потому что, кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа; а согрешающий против меня наносит вред душе своей: все, ненавидящие меня, любят смерть» (Притч 8:34–36).
Отвергающий следование путем закона — отвергается от жизни. То есть при том, что нечестивец предельно ищет наполнения — насыщения собственного бытия, жаждет превозношения над всеми именно ввиду необходимости «бытования», — увы, все, что он получает как опыт, есть лишь опыт тлена и распада. Самым последовательным примером развития подобных тенденций и доведения их до логического финала в христианской традиции является диавол. Он, с точки зрения христианской теологии, есть абсолютная попытка самодовления. Диавол жаждет обладания миром, он предельно недиалогичен. Весь мир, разумные и неразумные природы он жаждет, объективировав, поглотить, то есть усвоить себе через уничтожение и растворение. Для диавола весь мир — цепь «оно», объектов, которые могут либо принадлежать, либо не принадлежать ему, но ни один из них не воспринимается им как «ты».
Единственное «Ты» для диавола — Бог, но это также недиалогичное «Ты». Он не желает находиться с Ним в общении, а жаждет, изменив свое «я» путем поглощения множества иных, приведенных в бытие Творцом, стать Им самим, то есть в итоге — уничтожить и собственное «я». В этом плане он — вечный противник Бога, жаждущего сияния мириад новых «я», не самоуничтожающихся, а самораскрываю-щихся в своих отношениях с Ним — «Ты».
В завершение же сюжета автор отмечает, что все сказанное им в точности исполняется, хотя и не столь линейно, как в книге Притчей, предполагающей воздаяние праведнику и грешнику здесь — в наблюдаемом мире. Премудрость Соломона, будучи исполнена надеждой автора на вечную жизнь, демонстрируя твердое упование на это как минимум круга иудеев диаспоры, именно в «пакибытии» — в вечности видит разрешение данного конфликта. Бог однозначно на стороне праведника. Если его участь и воспринимается окружающими как горькая жизнь, наполненная презрением в том числе и от Творца, то это лишь иллюзия (Прем 3:1–9), и праведнику уготовано наследие в Боге. Нечестивец же как полагал лишь в себе источник всего, так и останется укоренен в этом, не имея связи с Причиной бытия — Богом.
Список литературы Оппозиция "праведник / грешник" в книге премудрости Соломона
- Библия. М.: Российское Библейское общество, 2002. 1326 c.
- Тора. Пятикнижие и гафтарот / сост. и комм. д-р Й. Герц. М.: Мосты культуры;Гешарим, 1998. 1456 с.
- Бубер М. Хасидские истории. Первые учителя. М.: Мосты культуры;Гешарим, 2006. 528 с.
- Вейнберг И. П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М.:Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1986. 208 с.
- Гольдштейн Э. О ком говорится в 53 главе книги Исайи. URL: htps://cis.jewsforjesus.org/o-kom-govoritsya-v-53-glave-knigi-isaii-re/ (дата обращения: 12.02.2018).
- Райт Н. Т. Что на самом деле сказал апостол Павел. Был ли Павел из Тарса основателем христианства? М.: Библейско-богословский институт св. апостолаАндрея, 2010. 186 с.
- Введение в Ветхий Завет / под ред. Э. Ценгера. Сер. «Современнаябиблеистика». М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. 802 с.