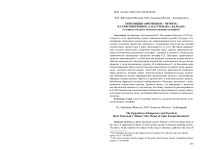Оппозиция "временное - вечное" в стихотворении Б.Л. Пастернака "Бальзак" (к вопросу об угрозе деаксиологизации культуры)
Автор: Заботкина Вера Ивановна, Коннова Мария Николаевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (51), 2019 года.
Бесплатный доступ
На примере стихотворения Б.Л. Пастернака «Бальзак» (1927) исследуются пути преодоления угрозы деаксиологизации русской культуры. Стихотворение затрагивает центральную для миропонимания поэта тему аксиологического основания творчества, связанную с пониманием искусства как способа человеческого присутствия в мире. Доказывается, что Б.Л Пастернак выражает свое видение ценностного измерения культуры через скрытое противопоставление онтологически различных категорий - времени и вечности. Посредством символически насыщенных авторских метафор Б.Л. Пастернак характеризует хронотоп произведений О. де Бальзака как всецелое господство устремленной в небытие временности, абсолютизация которой как единственного модуса бытия приводит к экзистенциальному кризису. В изображаемом О. де Бальзаком мире всепоглощающей заботы онтологический смысл бытия составляет лишь временность, конечное бытие-к-смерти. Антитезой трагизму временности становится образ вечности, который вводят многочисленные интертекстуальные включения библейского истока, формирующие вертикальный контекст стихотворения. Переводя художественные образы из предметного в иносказательный уровень, библейские параллели соотносят изображаемую в «Бальзаке» реальность с вневременным ценностным идеалом. Делается вывод, что обращение к вечности как абсолютной ценности и подлинному источнику творчества рассматривается Б.Л. Пастернаком как единственная возможность предотвращения угрозы деаксиологизации культуры в эпоху хаотизации общественного сознания и социального атомизма.
Угроза, культура, ценность, аксиологическая шкала, деаксиологизация, метафора
Короткий адрес: https://sciup.org/149127216
IDR: 149127216 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00105
Текст научной статьи Оппозиция "временное - вечное" в стихотворении Б.Л. Пастернака "Бальзак" (к вопросу об угрозе деаксиологизации культуры)
Культура имеет аксиологическую природу Во всех ее явлениях и объектах обнаруживается воплощение определенной ценности, ради которой эти явления создаются и сохраняются [Гуревич, Палеева 2012, 212-214]. Доминирующей иерархией ценностей - совокупностью взаимосвязанных динамических компонентов аксиологических форм сознания - определяются и общая логика культуры, и целостное мировоззрение нации. Организуя в единую систему сложнейший набор различных культурных феноменов, ценности входят в число базисных элементов социального кода. Сконцентрированные в ядерной части культуры, они предопределяют направление общественного и индивидуального бытия.
В эпоху глобализации, характеризующейся, с одной стороны, цивилизационной унификацией и размыванием национальной идентичности, и, с другой, плюрализмом смыслов и социальным атомизмом, усиливается процесс деаксиологизации культуры, связанный с устранением традиционной ценностной иерархии, основанной на антитезе «временное - вечное». Вытеснение абсолютной ценности как основания аксиосферы культуры и замена ее ценностями относительными приводит к утрате культурообразующей доминанты, результатом которой становится сужение культурных сфер и хаотизация общественного сознания [ср. Тюпа 2018, 209]. К числу основных проявлений этого процесса относится нивелировка ценности вечного и абсолютизация временного как единственного модуса бытия.
В контексте происходящей «деформации традиционной ценностной парадигмы» [Анненкова 2011, 268] первостепенную значимость приобретает поиск путей предупреждения процесса утраты нравственных ценностей как одной из ключевых угроз современного мира. В сфере гуманитарного, в частности, филологического знания этому может способствовать выявление глубинных оснований русской национальной аксиосферы, нашедших свое выражение в словесном художественном твор- честве. Цель настоящей статьи - исследование особенностей поэтической экспликации проблемы ценностного измерения культуры сквозь призму соотношения временного и вечного на примере стихотворения Б.Л. Пастернака «Бальзак» [Пастернак 1998, 182-183; о «бальзаковской теме» в творчестве Б.Л. Пастернака см., в частности: Михайлов 2010; Сальваторе 2014; Mikhailov, Aucouturier 1995]. Впервые опубликованное в 1928 г. в журнале «Звезда» и вошедшее в сборник «Поверх барьеров. Стихи разных лет» (1929 г), стихотворение «Бальзак» затрагивает центральную для миропонимания Б.Л. Пастернака тему аксиологического основания творчества, непосредственно связанную с пониманием искусства как способа человеческого присутствия в мире, как «модальности личностного существования» [Тюпа2018, 197].
Начальная и конечная границы стихотворения «Бальзак» обозначены двумя библейскими аллюзиями - ветхозаветной («Париж в златых тельцах...») и новозаветной («.. .Шестой главою от Матфея»), которые задают оппозицию «временное - вечное». Библейские параллели служат «тематическим ключом» (термин Р. Пиккио), который переводит повествование из предметного в иносказательный уровень, соотнося изображаемую в произведении художественную реальность с вневременным пространством Священного Писания. Они формируют тот «вертикальный» контекст, в рамках которого раскрываются аксиологические смыслы стихотворения.
В первой части стихотворения (I—III строфы) символически характеризуется художественная реальность романов О. де Бальзака (1799-1850). Образу Парижа в начальном односоставном номинативном предложении первой строфы присуща максимальная временная обобщенность. Это собирательный образ мира, всецело погруженного во время:
Париж в златых тельцах, в дельцах, В дождях, как мщенье, долгожданных. По улицам летит пыльца.
Разгневанно цветут каштаны.
Панхроничность картины подчеркивается библейской аллюзией первого стиха - в златых тельцах. Источником ее является 32 глава ветхозаветной книги Исхода: «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами <...> И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!» (Исх. 32: 1, 3^1).
Следующее из череды однородных определений - в дельцах - собирательно именует главных действующих лиц бальзаковских романов. Повторяя определение в тельцах с заменой начального глухого [т’] звонким [д’], сочетание в дельцах уточняет предшествующий ветхозаветный образ, указывая на главный фетиш эпохи - деньги.
Персонифицирующее сравнение второго стиха (в дождях, как мщенье, долгожданных) и оксюморон четвертого (Разгневанно цветут каштаны) вводят мотив возмездия. Определение разгневанно возвращает к аллюзив-ному пространству прецедентного ветхозаветного текста начального стиха - повествованию о праведном гневе пророка Моисея: «Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою; и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне» (Исх. 32: 19-20). В образах «негодующей» природы как бы опредмечивается «яростное обличительство», характерное для произведений французского романиста [ср. Непомнящий 1999].
Во второй строфе ракурс видения меняется. Уменьшается «дистанция фокусировки», и на смену обобщенному образу Парижа приходит импрессионистская картина непрестанной гонки как символа заботы - всепоглощающей временности бытия:
Жара покрыла лошадей И щелканье бичей глазурью И, как горох на решете, Дрожит в оконной амбразуре.
Образ взмыленных лошадей, покрытых от долгого и быстрого бега соленой испариной (глазурью), актуализирует идею погони, жизни как состязания-соперничества. Сравнение «как горох на решете», отсылающее к предсказыванию будущего по расположению высыпаемых в решето разноцветных зерен гороха (ср. чудеса в решете) [Михельсон 1912], имплицирует мысль об иллюзорности обольщения богатством. Напряженнорезкое звучание строфы усиливается образом заключительного стиха - «в оконной амбразуре». Наряду с прямым значением - «окно экипажа», слово амбразура (фр. embrasure - «оконный проем») актуализирует иносказательное, метафорически переосмысленное значение архитектурного термина - «бойница в крепостной стене». Заключительный стих напоминает как об историческом контексте творчества О. де Бальзака - очевидца революций 1830 и 1848 гг, так и о господствующих в изображаемом им мире «златых тельцов» вражде и противостоянии.
В третьей строфе мотив гонки овеществляется в образе мчащихся экипажей - тильбюри;
Беспечно мчатся тильбюри. Своя довлеет злоба дневи. До завтрашней ли им зари? Разгневанно цветут деревья.
Смещенный эпитет начального стиха беспечно («не задумываясь о возможных последствиях своих действий», «беззаботно») указывает на огра-258
ниченность временного горизонта кратким периодом настоящего момента и высвечивает в образе делового Парижа содержательно иную грань - легкомысленной бездумности бытия.
Этот образ конкретизируется во втором стихе, представляющем собой инвертированный вариант церковно славянского изречения: «Довлеет дневи злоба его» (Мф. 6: 34); ср. рус.: «Довольно для каждого дня своей заботы». В словесной ткани прецедентного текста - шестой главы Евангелия от Матфея - слово злоба (греч. какла) предельно обобщенно именует тяготы жизни, способные «озлобить и сокрушить» [Год со святителем Иоанном Златоустом 2013, 187], подчеркивая противоприродный, в «небытие» устремленный характер чрезмерного беспокойства о потребностях телесных, житейских, бытовых. Вынесенный в сильную позицию начала глагол меры - довлеет - акцентирует их вторичное, подчиненное место по отношению к тому подлинному, вечному бытию, к которому отсылает предшествующий стих: Ищите же прежде Царствия Божия и правды его (Мф. 6: 33).
В стихотворении Б.Л. Пастернака евангельская цитата трансформируется. Сильную позицию начала занимает возвратно-притяжательное местоимение своя, высвечивающее мысль об эгоцентричной замкнутости бальзаковского мира на себе - на той злобе-заботе, которая приобретает самодовлеющий характер. Видоизмененное изречение, таким образом, актуализирует иной, не евангельский императив - «не думать о будущем».
Ограниченность временного горизонта пространством настоящей минуты подчеркивается риторическим вопросом следующего стиха «До завтрашней ли им зари*?», который представляет собой метонимический парафраз начальной части 34 стиха шестой главы от Матфея в русскоязычном, Синодальном переводе: «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем» (Мф. 6: 34). Акценты, однако, смещены: излишнему беспокойству о будущем, против которого предостерегает Евангелие, направляя мысль к бытию вечному и бессмертному, противопоставляется всецелая концентрация на мгновении настоящего, на моменте «теперь», из которого устранена связь с вечным.
Во второй части стихотворения (IV-IX строфы) объектом поэтической рефлексии становится сам Бальзак и его творческий метод.
Образный строй четвертой строфы отличен от предшествующих -картина всеобщей гонки-спешки сменяется «глухой» тишиной «ночного» хронотопа:
А их заложник и должник, Куда он скрылся? Ах, алхимик! Он, как над книгами, поник Над переулками глухими.
Контекстуальные синонимы заложник и должник, выражая общее значение физической и(ли) материальной зависимости, вводят мотив несво- боды, усиливаемый метафорическим именем алхимик. Отсылая к образу таинственного «философского камня», способного превращать неблагородные металлы в золото, слово-символ алхимик метонимически напоминает о златых тельцах, тем самым вновь актуализируя идею отступления от идеала вечного и бессмертного бытия.
Глагольная метафора поникнуть ... над переулками глухими вводит мотив движения вниз, который сочетается здесь с идеей безысходности, передаваемой глаголом поникать («пропадать, гибнуть»). Определение глухие, отсылающее, подобно слову алхимик, к темному времени суток (ср. глухая полночь), противопоставляет «дневному» хронотопу Парижа «ночной» хронотоп его бытописателя. В «светобоязни» писателя - своеобразное отражение кризиса культуры, в которой, по образному высказыванию Н.А. Бердяева, «померкло солнце мира, погас высший свет» [Бердяев 2015, 238].
Следующая, пятая строфа манифестирует сущность художественного метода О. де Бальзака. Ключевой здесь становится метафора ткачества: традиционно связанная с идеей увековечивания [см.: Виноградов 1999, 1020-1021; Сальваторе 2014], она преломляется здесь в образе ткача-паука:
Почти как тополь, лопоух, Он смотрит вниз, как в заповедник, И ткет Парижу, как паук, Заупокойную обедню.
Сравнение начального стиха как тополь, привносящее ассоциации с сельскими пейзажами Франции (ср., знаменитые «Тополя» К. Моне), символически указывает на тот «вертикальный», основанный на оппозиции «верх (автор) - низ (мир)», ракурс бальзаковского восприятия мира, который во втором стихе эксплицирует предикат смотрит вниз. Сравнение как в заповедник напоминает о стремлении О. де Бальзака уподобиться в беспристрастном изображении типичных проявлений социальной жизни натуралистам Ж.-Л. де Бюффону и Ш. Бонне. «Лабораторией» писателя становится земной, временный, падший мир, в котором господствует зло. Подобно пауку, порождающий «из самого себя» сюжетные нити все новых картин нравственной гибели, Бальзак эстетизирует трагизм и ужас видимой неправды жизни как некоей подлинной, последней правды о человеке [ср. Непомнящий 1999, 52-53]. Тем самым он отказывает в бытии добру и высшей правде, лишает изображаемый им мир жизни - «заупокаивает» его (ср. заупокоить - «извести, уморить» [Даль 1956, 656]).
Предикат ткет заупокойную обедню иносказательно указывает на глубинный характер доминирующего в произведениях О. де Бальзака нарратива. Именная часть метафоры формально является аллюзией на бальзаковскую новеллу «Обедня безбожника» (фр. La Messe de 1’athee, 1836 г), сюжет которой строится вокруг образа католической мессы, посвященной памяти умерших. Авторский окказионализм Б.Л. Пастернака реализует смыслы, близкие глаголам погребать, хоронить, оплакивать, что дает основание допустить наличие скрытой интертекстуальной отсылки к оксюморону восьмой главы Евангелия от Матфея: «Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мф. 8: 22). Замкнутый на земном и конечном, исключающий вневременную реальность как начало преображения мира, нарратив романов О. де Бальзака предвосхищает то пессимистическое видение действительности, которое спустя столетие нашло свое выражение в хайдеггеровском понимании человеческого бытия как заботы, которая в своей конечной цели есть «бытие-к-смерти» [Хайдеггер 2002].
Метафора ткача-паука, выступающего символом эгоистической обособленности, самодостаточности, содержательно противоположна образу полевых лилий в прецедентном тексте шестой главы от Матфея; «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» (Мф. 6: 28).
В шестой строфе мотив творчества-ткачества уточняется посредством развернутой метафоры прядения:
Его бессонные зенки
Устроены, как веретена.
Он вьет, как нитку из пеньки, Историю сего притона.
В основе образного строя строфы лежит метафора круга - это и мотивирующий признак внутренней формы слова веретено, и геометрическая форма зрачка (зенки") и траектория движения (вьет). Круг символически соотносится здесь с идеей вечной заботы, отсылкой к которой становится эпитет начального стиха бессонный, и одновременно - с мыслью об однообразии. На специфику бальзаковского видения мира косвенно указывает доминирующая в семантической ткани строфы идея заземленности, грубости, которая реализуется на нескольких языковых уровнях: референциальном (пенька - грубое волокно), образном (метафора «Париж - притон») и стилистически-коннотативном (жаргонизм зенки). Тяготея к низкому, временному в изображении бытия, О. де Бальзак отступает от конечного предназначения творчества, цель которого, сформулированная в 1836 г. А.С. Пушкиным, «есть идеал, а не нравоучение» [Пушкин 2008, 652].
Мотив несвободы, намеченный в четвертой строфе метафорами заложник - должник, в седьмой строфе сопрягается с идеей безысходности:
Чтоб выкупиться из ярма
Ужасного заимодавца, Он должен сгинуть задарма И дать всей нитке размотаться.
Метафора начального стиха - ярмо - уподобляет положение писателя долговому рабству Содержательная структура строфы, имеющей форму апории, имплицирует образ замкнутого круга. Жизнь О. де Бальзака устремлена к свободе как конечной цели - «чтоб выкупиться из ярма», но достижение цели является одновременно и концом самой жизни - «он должен... дать всей нитке размотаться».
Иносказательное значение образного ряда «раб - должник - заимодавец» раскрывается в контексте патристической традиции, в которой слово долг является метафорическим именем греха. Прямую параллель находим в гомилии при. Ефрема Сирина: «Диавол, злой заимодавец, не напоминает об отдаче; ссужает щедро, никак не хочет брать назад. <...> Свыкаюсь со страстями дотоле небывалыми и, развлекаемый ими, прихожу в забвение о прежних страстях. Заключаю договор с пришедшими ко мне вновь, и снова оказываюсь должником. <.„> Хочу освободиться, а они делают меня продажным рабом» [Добротолюбие 2014, 289]. В контексте стихотворения этот образ прочитывается метонимически: ужасный заимодавец - это изображаемый О. де Бальзаком мир всепоглощающей заботы, в котором онтологический смысл бытия составляет лишь временность, конечное бытие-к-смерти [ср. Гайденко 2006, 408].
Модальность неизбежности, присущая предикату должен сгинуть, высвечивает каузальную взаимообусловленность ключевых содержательных концептов стихотворения - художественного метода (ткет заупокойную обедню) и конечной цели бытия избирающего его автора (сгинуть). Наречие задарма, в котором наряду со значениями бесполезности и дешевизны «просвечивают» высокие аксиологические смыслы исходного корня -дар- , эксплицирует трагизм творческого пути французского романиста, растратившего «свой непомерный дар» [Пастернак 1990, 19] на изображение изменчивых стихий мира. Разговорная резкость, присущая инфинитиву сгинуть задарма и суффиксальной форме нитка - стилистически сниженному варианту фразеологизма нить жизни, усиливает имплицитный контраст двух начал - высокого, вневременного (художественного дара, соотносимого с евангельским талантом [Мф. 25: 14-23]) и низкого, временного (порока как ведущей категории бальзаковского творчества).
Однородные дополнения восьмой строфы представляют собой отсылки к отдельным частям «Человеческой комедии» О. де Бальзака - «Сценам парижской жизни» (II стих), «Сценам провинциальной жизни», «Сценам деревенской жизни» (III—IV стихи):
Зачем же было брать в кредит Париж с его толпой и биржей, И поле, и в тени ракит Непринужденность сельских пиршеств?
Инфинитив брать в кредит, насыщенный финансово-бытовыми коннотациями, оттеняет рассудочный утилитаризм художественного метода
О. де Бальзака. Уточняющее дополнение с его толпой и биржей противопоставляет образу Парижа-заповедника картину человеческой стихии в ее живой непосредственности. Обстоятельство «и в тени ракит» имплицирует картину солнечного летнего дня (ср., пейзаж А. Сислея «Ивы в поле, день»), контрастирующую с темнотой глухих переулков четвертой строфы. Антитезой ярму становится «непринужденность сельских пиршеств».
В девятой строфе усиливается введенный в предшествующих строфах мотив несвободы:
Он грезит волей, как лакей, Как пенсией - старик бухгалтер, А весу в этом кулаке Что в каменщиковой кувалде.
Сравнение как лакей сопрягает значения унизительного наемного труда и лицемерной услужливости. Представляющее собой деаксиологизи-рованное преломление традиционного идеала творчества как служения истине, оно отсылает к прецедентному для стихотворения тексту шестой главы от Матфея; «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6: 24). Маммона, кореферентное ужасному заимодавцу седьмой строфы, выступает именем лежащего во зле мира (1 Ин. 5: 19) - той антиценности, которая вытесняет в бальзаковских произведениях представление о ценности Абсолютной. Сравнение второго стиха «как... бухгалтер» подчеркивает механически-равнодушный, ремесленнический характер труда и служит отсылкой к предисловию «Человеческой комедии» (1842 г), в котором, указывая на цель своего творчества, О. де Бальзак уподобляет себя счетоводу, составляющему «опись пороков и добродетелей» [Бальзак 1982, 41]. Уточняющее определение старик вновь актуализирует ключевой для предшествующих строф мотив конца и смерти.
Заключительная, десятая строфа - завершение стихотворения и его кульминация - приоткрывает глубинную сущность мировоззрения самого Б.Л. Пастернака, противопоставляющего деаксиологизированному миру О. де Бальзака иную ценностную реальность:
Когда, когда ж, утерши пот И сушь кофейную отвеяв, Он оградится от забот Шестой главою от Матфея?
Эмоциональная насыщенность строфы - эмфатического утверждения, выраженного в форме риторического вопроса, отражает предельную степень уверенности говорящего в правоте познанной им истины. Эта аксиома формулируется в виде эксплицитной отсылки к прецедентному тексту, который является вертикальным контекстом всего стихотворения и служит источником аллюзий предшествующих строф: «... Он оградится от забот / Шестой главою от Матфея». Точное указание границ прецедентного евангельского текста не случайно. В шестой главе от Матфея содержится часть Нагорной проповеди, в которой дается совершенный образец молитвы («Отче наш...»). Имеющая своим предметом «единственный Источник жизни, ... и смысла, и цели всего существующего» [Митрополит Вениамин 1998, 11], эта молитва противопоставляет томительному поиску временных благ веру в Того, Кто, будучи трансцендентной причиной бытия вселенной, «все творит Своей волей и Своей премудростью» [Лосский 2004, 399].
Имплицитный призыв [да] оградится от забот сообщает строфе предельно широкую темпоральную перспективу: в форме будущего времени преодолевается замкнутый круг временности бытия, к которой отсылают преобладающие в предшествующих строфах формы настоящего несовершенного (напр., мчатся, смотрит, ткет, вьет, грезит?). Приобретая в рамках риторического вопроса модальность долженствования, предикат оградится именует волевой акт преодоления заботы как онтологической безосновности и временности мира, заботы как «обреченности вещам» [Хайдеггер 2002].
Принятие абсолютной евангельской правды приводит к «обновляющему перелому», сущность которого раскрывают деепричастные обороты первого и второго стихов. Первым из них - утерши пот - обозначен момент свободного преодоления отрицательной детерминированности труда, о которой упоминается в Книге Бытия: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3: 19). Авторский окказионализм кофейная сушь, в буквальном прочтении указывающий на привычку О. де Бальзака к большому количеству кофе, - имя «безвдохновенного» состояния (см.: [Грешных, Коннова 2012]). Выход из него осуществляется через утверждение творчества в вечном, абсолютном бытии, метонимической отсылкой к которому служит эллиптическое имя шестая глава от Матфея. Аллюзия заключительной строфы отсылает к той «абсолютной, единоспасающей правде» [Бердяев 2015, 307], которая, по словам самого Б.Л. Пастернака, являлась для него «предметом редкого и исключительного вдохновения» [Пастернак 1992, 167]. Евангелие здесь «открывается как побеждающая сила, как сила, перерождающая и утверждающая жизнь... - не только как конец, но как начало, начало подвига и творчества» [Флоровский 1991,12].
Описывая художественный метод О. де Бальзака, Б.Л. Пастернак выражает свое видение смысла творчества через оппозицию временного и вечного. Характеризуя хронотоп его произведений как всецелое господство устремленной в небытие временности, поэт вместе с тем подчеркивает, что временность не есть подлинная реальность творчества. Многочисленные интертекстуальные включения, формирующие вертикальный контекст стихотворения, имплицитно вводят перспективу целостной веч-264
ности, в которой может быть достигнута абсолютная полнота бытия и которая служит источником художественного творчества. В авторской картине мира Б.Л. Пастернака «реальность Бога как сущего и как ценности» переживается «как абсолютное внутреннее обязывающее начало» [Гуссерль 1995, 316], и эта единственная всеобъемлющая объективная самоценность предопределяет относительную значимость других, материальных и нематериальных, ценностей. В иерархическом соподчинении временного вечному и внешнего внутреннему проявляется традиционный для русской художественной литературы ценностный код, который позволяет противостоять угрозе деаксиологизации культуры.
Список литературы Оппозиция "временное - вечное" в стихотворении Б.Л. Пастернака "Бальзак" (к вопросу об угрозе деаксиологизации культуры)
- Анненкова И.В. Медиадискурс XXI века. Лингвофилософский аспект языка СМИ. М., 2011.
- Бальзак О. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 1. М., 1982.
- Бердяев Н.А. Философия неравенства. М., 2012.
- Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. Опыт оправдания человека. М.; Екатеринбург. 2015.
- Виноградов В.В. История слов. М., 1999.
- Гайденко П.П. Время. Длительность. Вечность. Проблема времени в европейской философии и науке. М., 2006.
- Грешных В.И., Коннова М.Н. "Февраль" Б. Пастернака: образ времени (оригинал и перевод на английский) // Вестник государственного университета им. И. Канта. Вып. 8. 2012. С. 128-132.
- Год со святителем Иоанном Златоустом / сост. Н. Малахова. М., 2013.
- Гуревич П.С., Палеева Н.Н. Философия культуры. 2-е изд., доп. М., 2014.
- Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Культурология. ХХ век: Антология. М., 1995. С. 297-330.
- Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 1. М., 1956.
- Добротолюбие: дополненное: в 5 т. Т. 2. / в русском переводе святителя Феофана, Затворника Вышенского. М., 2014.
- Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Киев, 2004.
- Митрополит Вениамин (Федченков). Молитва Господня. М., 1998.
- Михайлов А.Д. Еще раз о "бальзаковской теме" в творчестве Б. Пастернака // Михайлов А.Д. От Франсуа Вийона до Марселя Пруста: страницы французской литературы Нового времени (XVI-XIX века): в 3 т. Т. 2. М., 2010. С. 323-330.
- Михельсон М.И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. СПб., 1912.
- Непомнящий В.С. Пушкин. Русская картина мира. М., 1999.
- Пастернак Б. Письма к Жаклин де Пруайяр // Новый мир. 1992. № 1. С. 127-189.
- Пастернак Б.Л. Стихотворения и поэмы: в 2 т. Т. 2. Л., 1990.
- Пастернак Б. Избранное: в 2 т. Т. 1. Стихотворения и поэмы. СПб., 1998.
- Пушкин А.С. Драматургия. Проза. М., 2008.
- Сальваторе Р. Эволюция поэтического языка Б. Пастернака (на материале стихотворений "Мельницы" и "Бальзак") // Slověne. 2014. № 1. С. 171-192.
- Тюпа В.И. Литература и ментальность. М., 2018.
- Флоровский Г., протоиерей. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.
- Хайдеггер М. Бытие и время. СПб., 2002.
- Mikhailov A., Aucouturier M. Balzac dans l'oeuvre de Pasternak // L'Année balzacienne. 1995. № 16. pp. 393- 408.