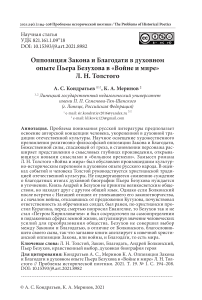Оппозиция закона и благодати в духовном опыте Пьера Безухова в "Войне и мире" Л. Н. Толстого
Автор: Кондратьев Александр Степанович, Меринов Кирилл Александрович
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
Проблема понимания русской литературы предполагает освоение авторской концепции человека, укорененной в духовной традиции отечественной культуры. Научное освещение художественного преломления религиозно-философской оппозиции Закона и Благодати, Божественной силы, спасающей от греха, в становлении персонажа расширяет представления о смысловых глубинах произведения, открывающихся новыми смыслами в «большом времени». Замысел романа Л. Н. Толстого «Война и мира» был обусловлен произошедшим культурно-историческим переломом в духовном опыте русского народа. В оценках событий и человека Толстой руководствуется христианской традицией отечественной культуры. Не подвергавшееся сомнению суждение о благодатных итогах духовной биографии Пьера Безухова нуждается в уточнении. Князь Андрей и Безухов не приняты великосветским обществом, но находят друг с другом общий язык. Однако если Болконский после встречи с Наташей отошел от увлекавшего его законотворчества, а с началом войны, отказавшись от предложения Кутузова, почувствовал ответственность за обреченных солдат, был ранен, по-христиански простил Курагина, перед смертью попросил Евангелие, то Безухов так и не стал «Петром Кирилловичем» и был сосредоточен на самоопределении в подзаконных сферах земной жизни, актуализируя значение человеческих усилий для преобразования общества. Безухов не совершил выбор между Законом и Благодатью, в отличие от Болконского, благословившего своего сына, так что заглавие книги апеллирует к извечной христианской оппозиции Закона, или войны, и Благодати, то есть мира.
Л. н. толстой, закон, благодать, андрей болконский, пьер безухов, нравственный выбор, духовная биография героя
Короткий адрес: https://sciup.org/147227231
IDR: 147227231 | УДК: 821.161.1.09“18 | DOI: 10.15393/j9.art.2021.8982
Текст научной статьи Оппозиция закона и благодати в духовном опыте Пьера Безухова в "Войне и мире" Л. Н. Толстого
С тановление литературоведческой аксиологии, преодолевающей антитезу изучения и понимания, направляет исследователей на освоение духовно-художественного преломления категорий православного мировосприятия в творческом сознании классиков. Справедливо отмечает И. А. Есаулов: «Историю оригинальной русской словесности начинает “Слово о Законе и Благодати” митрополита Илариона <…> Этот по-своему символический факт еще не осмыслен в должной мере. До недавнего времени русская словесность словно бы отрывалась от своего истока <…> Хотя адекватный своему предмету контекст понимания и начинает восстанавливаться в последние десятилетия в нашей науке» [Есаулов, 2017a: 13].
Религиозно-философская оппозиция Закона и Благодати1 существенно расширяет представления о нравственных коллизиях самоопределения персонажа, выводя его из семантического поля затверженных стереотипов2. Герой, таким образом, в «спектре адекватности» авторскому замыслу раскрывается читателю.
Завершая роман «Война и мир», затрагивающий проблему нравственной ответственности человека за выбор ценностных ориентиров, Толстой писал 7 ноября 1868 г. М. П. Погодину о своих планах вступить в диалог с грядущими поколениями русского народа: «…иногда и часто в последнее время мне приходят мысли о бессрочном историко-философском издании <…>. Издание это <…> я мечтал бы назвать: Несовре-менник »3. Не случайно впоследствии французский писатель Франсуа Мориак отмечал близость проблематики «Войны и мира» «большому времени»: «Перечитывая “Войну и мир”, я чувствую, что передо мной не пройденный нами этап, а утраченный нами секрет» [Мориак: 161].
В «Войне и мире» Толстой, вскрывая закономерности развития национального самосознания в свете эволюции характеров героев, руководствуется «данной нам Христом мерой хорошего и дурного» [Толстой, VII: 177] в оценках событий и принимаемых людьми решений. И, отвергнув самонадеянные законнические притязания «наполеоновского толка», писатель выдвигает аксиоматическое положение о благодатном смирении: «…необходимо отказаться от несуществующей свободы и признать неощущаемую нами зависимость» [Толстой, VII: 355].
В 1865 г., намечая план истории Наполеона и Александра I для романа под первоначальным названием «Тысяча восемьсот пятый год», Толстой делает акцент на человеческих судьбах в эпоху цивилизации, прогресса, вопросов, сводящихся к преобразованию общественно-социальных отношений. «Поэма, героем к[оторо]й был бы по праву человек, около к[отор]ого все группируется, и герой — этот человек» (48, 61), — записал он в это время в дневнике. Именно человек — как способный исполнить предначертанное, но отнюдь не исторический деятель, потому что Толстой, полагаясь на православные доминанты духовной традиции национального самосознания, последовательно шел к убеждению: «…воля исторического героя не только не руководит действиями масс, но сама постоянно руководима» [Толстой, VII: 73], что восходит к библейской аксиологии: «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его» (Иер. 10:23). Приступая к воплощению сложнейших сцеплений и парадоксальных сопряжений судеб человеческих в сценах Бородинского сражения, Толстой безапелляционно — к явному недоумению историков — в свете православного миропонимания («…если не по Благодати, то не по делам; иначе Благодать не была бы уже Благодатию» — Рим. 11:6) отвергает фарисейскую праведность:
«Древние (то есть законники. — А. К ., К. М .) оставили нам образцы героических поэм, в которых герои составляют весь интерес истории, <…> для нашего человеческого времени (с благодатными приоритетами. — А. К ., К. М .) история такого рода не имеет смысла» [Толстой, VI: 193].
В связи с этим весьма значима для толстоведения мысль И. А. Есаулова, предполагающая одно из решений научной проблемы освоения творческого наследия писателя в контексте христианской культуры: «…в своем художественном творчестве (на уровне культурного бессознательного) в целом ряде вершинных произведений он как раз замечательно засвидетельствовал собственную укорененность в православной культурной традиции»4 [Есаулов, 2017b: 193].
Так, хрестоматийный рассказ Толстого «После бала», погрязший в обличительных, стереотипных оценках, И. А. Есаулов вводит в контекст культурной традиции православного народа, объясняя, почему в Прощеное воскресенье рассеялась любовь героя к Вареньке: «Чистый понедѣльникъ начинается для него съ того, что “пошелъ къ прiятелю и напился съ нимъ совсѣмъ пьянъ”: такъ понедѣльникъ для Ивана Васильевича не сталъ чистымъ » [Есауловъ, 2020: 153].
«Война и мир», как феномен национального самосознания, не может быть вынесен за скобки православной традиции отечественной культуры. Духовный опыт главных героев, князя Андрея и Пьера Безухова, требует пристального внимания исследователей и освобождения от наслоений постсоветских мифологем.
Точка зрения, распространенная в советском литературоведении, о месте и значении в романе Пьера Безухова, едва ли не alter ego Толстого5, на современном этапе развития науки должна быть уточнена в соответствии с положениями и выводами о христианском основании отечественной словесности. Разбирая сцену сна Безухова на постоялом дворе в Можайске, Ричард Ф. Густафсон использует штампы: «…Пьер видится самому себе: Пьер-повеса, какой он сейчас, и преображенный Пьер, каким он станет <…> найдет свое место в мире, человек духа» [Густафсон: 312]. Реконструируя религиозные воззрения Толстого, принстонский профессор даже не отмечает, что мысли Пьера насчет общей жизни и его внезапное духовное прозрение были словно дарованы кем-то и пришли откуда-то, чего герой так понять и не смог, да и вовсе не пытался:
«…он наяву не был в состоянии так думать и выражать свои мысли» [Толстой, VI: 304].
Если антропологические воззрения Толстого сводятся к максиме Все и часть Всего, составляющие которой образуют единораздельную целостность человеческой природы и обусловлены православной аксиологией («…кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою» — Мк. 9:35), то Пьер Безухов так и не осознает себя одним из других и духовно сопряженным с ними, а посему все пригрезившееся, каким бы оно ни было завораживающим, все-таки не есть путь его самоопределения:
«…с ужасом почувствовал, что всё значение того, чтò он видел и думал во сне, было разрушено» [Толстой, VI: 304].
Князь Андрей и Пьер Безухов не приняты великосветским обществом у Шерер. Там они словно чужие и вызывают плохо скрываемое раздражение, их же сближает друг с другом доверие к законническим ориентирам, стремление утвердиться собственными силами. В черновых вариантах Толстой намечал перспективу актуализации самонадеянных и дерзновенных помышлений Безухова, так и не ставшего Петром Кирилловичем6:
«M-r Pierr мечтал быть оратором, государственным человеком в роде Мирабо или полководцем в роде Кесаря и Наполеона. Он, менее всех в мире рожденный к такой деятельности, считал себя рожденным для нее» (13, 227).
Тяготение к фарисейству проявляется и в филантропических затеях Безухова, и в наивном прельщении масонскими идеалами, о чем он с упоением поведал при встрече в Богуча-рове своему другу. Переезд князя Андрея из Лысых Гор сюда свидетельствует о наметившемся в нем духовном обновлении. Болконский разуверился еще во время Шенграбенского сражения в возможности совершить подвиг. Затем, вернувшись в Петербург и поступив на службу, он под впечатлением от неожиданной встречи с Ростовой на балу, накануне открытия Государственного совета, пересмотрел отношение к службе:
«…вспомнил мужиков, Дрона-старосту, и приложив к ним права лиц <…> ему стало удивительно, как он мог так долго заниматься такой праздною работой» [Толстой, V: 219].
По-новому Безухов увидел заигравшегося в величие самого Сперанского, в котором надеялся отыскать «полное совершенство человеческих достоинств» [Толстой, V: 172]. И, как ни удивительно, его отец, генерал-аншеф князь Николай Андреевич, творивший историю Екатерининской эпохи и намеревавшийся в парадном мундире доложить главнокомандующему о решении защищать от наполеоновской армии лысогорский рубеж, был все-таки преисполнен тяготения к безусловным реалиям жизни. Потому и старик Болконский, никогда не благословлявший своих детей, иронизировал над возобладавшей практикой изощренного рационализма в плане подчинения человеку жизненных явлений:
«…в Петербурге всё пишут <…> новые законы <…>. Мой Андрюша там для России целый волюм законов написал» [Толстой, V: 317].
«Андрюша» — так ласково называет своего сына всегда суровый Болконский, хотя его отношения с ним не отличались особой нежностью. А после этой реплики следует едкая ремарка Толстого, выявляющая авторское отношение к сказанному: «неестественно засмеялся» [Толстой, V: 317]. Ведь свершавшееся на его глазах затянувшееся бесполезное законотворчество дошло до опасной черты: всерьез нельзя воспринимать, и надо постараться хотя бы осмеять. В черновых вариантах была куда более резкая оценка Толстого соблазна реформаторским угаром:
«…говорится о духе нового времени, <…> о правах человека, <…> и под предлогом этих идей и выступают на поприще самые неразумные страсти человека» (13, 672).
Так старый князь на именинах высказался по поводу редакции дипломатической ноты в связи с захватом владений герцога Ольденбургского. Гостей Николая Андреевича, а среди них был и не обойденный вниманием старика Пьер Безухов, тяготевший к элите, всерьез занимали эти пустейшие разговоры.
Отступая с армией через Лысые Горы, полковник Болконский, отказавшийся от предложения Кутузова остаться в штабе армий, видит плещущихся в пруду солдат и сожалеет об их участи «пушечного мяса» — и в этом нет и намека на уже изжитый комплекс гордыни: здесь дает о себе знать чувство ответственности за произвольное, якобы из благих побуждений, манипулирование судьбами людскими. На перевязочном пункте смертельно раненный князь Андрей по-христиански простил Курагина, а затем, превозмогая боль, попросил доктора дать ему Евангелие — и в мыслях он встретился с Наташей. Предсмертные размышления Болконского в духовных координатах православной аксиологии, особенно после посещения Троице-Сергиевой Лавры («…мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику» — [Толстой, VII: 69]), свидетельствуют о духовном преображении героя, освободившегося из порабощающего плена Закона и нашедшего спасение в Благодати. Толстой проводит героя, мыслившегося ему поначалу эпизодическим, по сложнейшему пути духовного становления, вопреки усвоенным безбла-годатным установкам семьи Болконского и эпохи, и выявляет исконное для русской души освобождение от призрачных условностей и духовное спасение в благодатных сферах бытия. Для углуб-ления представлений об итогах духовной биографии Болконского может служить научным ориентиром выдвинутый Ю. В. Лебедевым тезис: «…Толстой исподволь подводит князя Андрея к открытию религиозных ценностей жизни, которых он не понимал и к которым долго был пренебрежителен» [Лебедев: 95].
И. А. Есаулов, исследуя духовное становление национального характера под влиянием православной культурной традиции, определяющейся антитезой Закона и Благодати, делает вывод: «Эта оппозиция намечает два возможных способа ориентации человека в мире: самоутверждение в земной жизни и духовное спасение <…> Благодать <…> результат спасительного воздействия <…> святого духа и противопоставляется Закону» [Есаулов, 2017b: 116].
И князь Андрей Болконский, прошедший путь от готовности пожертвовать родными и близкими «за минуту славы, торжества над людьми» [Толстой, IV: 334] до преломления в итоговых размышлениях утверждения «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8) сохраняет свой внутренний мир и спасает его от деформирующего влияния сил, чужеродных человеку.
В отличие от Болконского, Пьер старается убедить Наташу и княжну Марью в оправданности человеческих усилий по переустройству жизненных форм на законотворческом поприще:
«Мы думаем, что как нас выкинет из привычной дорожки, всё пропало: а тут только начинается новое, хорошее» [Толстой, VII: 235].
В его духовной биографии проявились как всколыхнувшееся чувство любви к Наташе и благодатное ощущение собственной соприродности с миром («И всё это мое, и всё это во мне, и всё это я!» — [Толстой, VII: 115]), так и искушающий соблазн совершить «великий подвиг», положив предел власти Наполеона, — но не по велению души, а подтасовкой «базы данных», дабы получить право исполнить отнюдь не задуманное, а якобы предначертанное:
«Как, какою связью был он соединен с тем великим событием, которое было предсказано в Апокалипсисе, он не знал; но он ни на минуту не усумнился в этой связи» [Толстой, VI: 85].
Эту связь установил он сам для того, чтобы выйти из плена однообразия суетной обыденности. Безухов с упоением предался новой затее, высчитывая свое место в истории. Направляясь к месту решающего сражения, он не совсем понимал смысл происходящего, «но самое жертвование составляло для него новое радостное чувство» [Толстой, VI: 191].
Последняя встреча Безухова с Болконским перед Бородином разводит их. Причиной разлада друзей стало обольщение Пьера мнимой величественностью и силой Наполеона, в ответ на что полковник Болконский резко парирует:
«…на войне один батальон иногда сильнее дивизии, а иногда слабее роты» [Толстой, VI: 215].
Налицо апелляция Пьера к Закону — все в руках человека; тогда как князь Андрей, признанный солдатами своим , полагается на Благодать — смиренное исполнение предначертанного и спасение от истощающего душу влияния злого духа, когда человек на его вмешательство в свою жизнь решительно парирует: « Нет », сохраняя себя — свою жизнь и духовный облик. Если не принять во внимание антиномичность ценностных ориентиров Болконского и Безухова — Закона и Благодати, то многое остается непонятным, а выводы об их охлаждении друг к другу всегда оказываются малоубедительными.
Прошедший через испытания соблазнами и смертельной опасностью, Безухов так и остается Пьером, мечтателем и сущим ребенком, неповзрослевшим и не нашедшим себя. Возвратившись накануне Зимнего Николы из Петербурга, где его соратники и сподвижники, «настоящие консерваторы и джентльмены», планируют предотвратить якобы готовящееся народное возмущение, Пьер был уверен, что он, ни много ни мало, «призван дать новое направление всему русскому обществу и всему миру» [Толстой, VII: 307], и начал восторженно рассуждать о последних новостях и необходимости действенно противостоять утвердившейся государственности. Слова Безухова, преисполненные романтической патетики, вызвали трепетное воодушевление Николеньки Болконского, с восторгом внимавшего каждому его слову и с восхищением, снизу вверх смотревшего на друга отца: они оба чувствовали душевный порыв, охвативший их. Николай Ростов, восстановивший свой дом, открытый, как и было при родителях, для гостей, отвечает своему зятю и другу:
«И вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить — ни на секунду не задумаюсь и пойду. А там суди, как хочешь» [Толстой, VII: 298].
Графиня Ростова поддержала супруга в его решительном ответе:
«<…> он забывает, что у нас есть другие обязанности ближе, которые сам Бог указал нам, и что мы можем рисковать собой, но не детьми» [Толстой, VII: 301].
Еще на войне Николай Ростов не смог признать подвигом в Салтановском сражении атаку Раевского вместе с сыновьями-подростками под ожесточенным огнем противника: «…не только Петю-брата не повел бы, но и Ильина даже, этого чужого мне, но доброго мальчика, постарался бы поставить куда-нибудь под защиту» [Толстой, VI: 62]. Георгиевский крест, как награда не за пленение, а, по сути, за спасение французского офицера, показался Николаю Ростову не вполне заслуженным. Репутация отчаянного храбреца, прошедшего с армией до Парижа и вернувшегося русским по духу, была ему безразлична. И поэтому в своем кругу он весьма резко выговаривает Пьеру: не может допустить очередных потрясений во имя исправления рода человеческого из каких бы то ни было побуждений. Давая в эпилоге «Войны и мира» слово родовитому
Николаю Ростову, Толстой отвергает любые притязания самозванца Бонапарта на сомнительные благодеяния человечеству. Пьер же, как был, так и остается до конца не определившимся: в салоне Шерер, где он пришлый, — оправдывает Наполеона; у Ростовых, где он едва ли не долгожданный гость, — оправдывает свои идеи о всеобщем благе. В разговоре с Наташей о домашнем и насущном Пьер выступает, словно оратор перед петербургской публикой, и предстает уверенным во всемогуществе человека, пытающимся заявить о себе по Закону:
«Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое» [Толстой, VII: 307].
Это свидетельствует о том, что эволюционный вектор духовного самоопределения героя явно не просматривается. Когда же Безухов выговаривал Курагину по поводу его связи с Наташей, то указал отнюдь не на греховные помышления, но остановился на преступании обозначенных Законом границ дозволенного:
«Вы не можете не понять наконец, что кроме вашего удовольствия есть счастье, спокойствие других людей <…>. Забавляйтесь с женщинами подобными моей супруге — с этими вы в своем праве» [Толстой, VI: 380].
Итак, принятый с явным радушием в доме Ростовых, Безухов был способен обрести себя среди других. Избавление от тяжкого бремени исключительности, или же, другими словами, обособленности от других, стяжаемой радетелями о всеобщем благе, Пьер чувствует после освобождения из плена, во сне. Ему приснился «живой колеблющийся земной шар» (это отсылка к другому образу романа «Война и мир»: на портрете, представленном Наполеону перед Бородинским сражением, был изображен его сын, протыкающий земной шар палочкой). Однако на протяжении всех своих жизненных исканий Пьер так и не преодолел двойственность сознания, и для него еще впереди нравственный выбор между Законом и Благодатью в духовном опыте самоопределения.
Освоение книги Толстого в контексте «большого времени» подводит к пониманию антитезы войны и мира как преломления христианской оппозиции Закона и Благодати в духовном опыте становления человека.
Примечания
-
1 Митрополит Иларион в пасхальной литургии определяет основные категории христианской традиции в духовной культуре русского народа как оппозицию Закона и Благодати: «Иудеи весь соделывали оправдание свое в <мерцании> свечи закона, христиане же соделывали спасение свое в <сиянии> солнца Благодати» (см.: Слово о Законе и Благодати митрополита Илариона // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 1997. Т. 1. С. 31). Это укоренено в Евангельском откровении Иоанна: «…закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа» (Ин. 1:17), — и восходит к прозрению апостолом Павлом христианского спасения от греха: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати» (Гал. 5:4). Протопресвитер Николай Афанасьев в речи на акте Богословского института в Париже 27 марта 1949 г. особо выделил духовные константы православного сознания русского народа: «В церкви преодолевается несовершенство эмпирической жизни: подзаконная — правовая — жизнь становится благодатной <…> по своей природе Благодать исключает право подобно тому, как Благодать, преодолев его через восполнение, исключила ветхозаветный закон» [Афанасьев: 13].
-
2 Так, В. Н. Захаров выводит повесть Достоевского «Двойник» за границы начетнического догматизма и возвращает ее в контекст духовной традиции отечественной культуры: «В “Двойнике” Достоевский защищает “человека в человеке”, его идеальную сущность, образ Божий в каждом из нас. Именно это убеждение он положил в основание великой идеи “Двойника” — “довольной светлой”, выше и серьезнее которой он никогда ничего в литературе <…> не проводил» [Захаров: 113], что предопределено духовной интерференцией Закона и Благодати в опыте нравственного самоопределения Голядкина.
-
3 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1953. Т. 61. С. 207. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте статьи с указанием тома и страницы в круглых скобках. «Война и мир» цитируется по: [Толстой].
-
4 Еще в 1914 г. Н. Я. Абрамович обратил внимание на неисчерпаемость человеческой природы в антропологической концепции писателя: «Для Толстого-мыслителя величайшая весть Христа о том, что человек собою не кончается, что он не конечен и в самой основной своей сущности определяется чем-то бесконечным» [Абрамович: 35]. В своей последней статье Е. П. Барышников, предпринявший попытки понимания русской классики в контексте христианской культуры, в 1990 г. также
излагает материал в свете ныне формирующейся литературоведческой аксиологии: «…человек сильнее всего, когда доходит до предела в горе и отчаянии: в эту роковую минуту вступает в то, что Толстой назвал “ судьбой ”, но вернее было бы назвать благодатью » [Барышников: 8].
-
5 Так, О. В. Сливицкая повторяет стереотипное суждение, не соотнося сказанное с материалом: «Пьер — самый толстовский из толстовских героев. Он — наиболее полное воплощение “человека Толстого”» [Сливицкая: 82]. Инерция научной мысли становится очевидной, если принять во внимание взятые на вооружение советским толстоведением, как в собственно литературоведческом, так и в методическом аспектах, по вполне объяснимым причинам, выводы Л. Д. Опульской о логике художественного воплощения духовных исканий Пьера Безухова: «Способность вырываться из привычных условий жизни, разрушать рамки устоявшегося бытия ради того, чтобы приобщиться к новому, народному, — главная исходная ситуация романа. “Война и мир” — книга о великом обновлении жизни, вызванном грозными историческими событиями» [Опульская: 116–117]. Вряд ли «самый толстовский герой» был наделен автором притязаниями разрушить устоявшееся и на его месте воздвигнуть нечто для всеобщего благоденствия.
-
6 К Безухову, как Петру Кирилловичу, обращается за поддержкой Петя Ростов, решивший поступить на военную службу, и мужики, проводившие его после Бородинского сражения до Можайска, называют его Петром Кирилловичем, да и в черновиках так его называет Каратаев: «Прощавай, Петр Кирилыч, моченьки моей нет» (15, 137). Однако даже именование героев иногда обыгрывается с положительными коннотациями с прицелом доказать недоказуемое. Как отметила О. В. Сливицкая, «хотя согласно обычаям высшего общества <…> автор называет его Пьер, он постоянно подчеркивает его, Петра Кирилловича, национальный характер» [Сливицкая: 83].
Список литературы Оппозиция закона и благодати в духовном опыте Пьера Безухова в "Войне и мире" Л. Н. Толстого
- Абрамович Н. Я. Религия Толстого. М.: Изд-во И. А. Маевского, 1914. 140 с.
- Афанасьев Н. Власть любви: к проблеме права и благодати // Православная мысль. Paris: YMCA-PRESS, 1971. Вып. 14. С. 5-23.
- Барышников Е. П. «Жизнь для других» как нравственно-этическая категория творчества Л. Н. Толстого // «Война и мир» Л. Н. Толстого: духовные константы и социальные переменные отечественной истории: материалы XVI Барышниковских чтений. Липецк: ЛГПУ им. П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. С. 4-9.
- Густафсон Ричард Ф. Обитатель и чужак. Теология и художественное творчество Льва Толстого. СПб.: Академический проект, 2003. 480 с.
- Есаулов И. А. Оппозиция Закона и Благодати и магистральный путь русской словесности // Русская классическая литература в мировом культурно-историческом контексте. М.: Индрик, 2017. С. 13-42. (a)
- Есаулов И. А. Русская классика: новое понимание. 3-е изд., испр. и доп. СПб.: РХГА, 2017. 550 с. (b)
- Есауловъ И. А. О любви. Радикальныя интерпретацш. Магаданъ: Новое Время, 2020. 216 с.
- Захаров В. Н. Имя автора — Достоевский. Очерк творчества. М.: Ин-дрик, 2013. 456 с.
- Лебедев Ю. В. О религиозных мотивах в «Войне и мире» Л. Н. Толстого // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 2016. № 2. С. 95-100.
- Опульская Л. Д. Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир». М.: Просвещение, 1987. 176 с.
- Сливицкая О. В. О Толстом. СПб.: Росток, 2020. 207 с.
- Толстой Л. Н. Война и мир // Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. М.: Ху-дож. лит., 1979-1981. Т. IV-VII.
- Мориак Ф. Франсуа Мориак о «Войне и мире» // Вопросы литературы. 1961. № 1. С. 161-163.