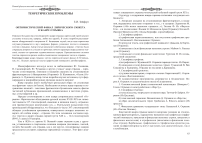Оптимистический финал лирического сюжета в жанре отрывка
Автор: Зейферт Елена Ивановна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теоретические проблемы
Статья в выпуске: 3 (22), 2012 года.
Бесплатный доступ
В финале большинства стихотворений в жанре отрывка лирический герой находит утешение в искусстве, природе, любви или дружбе. В статье подробно рассматривается обнаруженный в творчестве К. Батюшкова случай, когда одна лирическая ситуация развивается в двух жанровых формах, указанных поэтом в названиях (элегия и отрывок). Автор статьи предлагает собственную версию: «Элегия» была сокращена автором не столько по причинам личного характера (неразделённое чувство), сколько по причинам художественного порядка. Принципиальные отличия текстов определили разное идейно-тематическое содержание элегии и отрывка.
Жанр, отрывок, элегия, лирический сюжет, финал, к.н. батюшков, а.с. пушкин, пропуски текста (графический эквивалент), автобиографизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14914358
IDR: 14914358
Текст научной статьи Оптимистический финал лирического сюжета в жанре отрывка
Монографически исследуя вслед за наблюдениями Ю. Тынянова, В. Сандомирской, Ю. Чумакова и других ученых1 жанр отрывка - лирические стихотворения, имеющие в названии указание на стилизованную фрагментарность («Невыразимое (Отрывок)» В. Жуковского, «Осень (Отрывок)» А. Пушкина), автор статьи подробно изучил источники, пути формирования и жанрообразующие признаки данного явления2.
Жанр отрывка имеет необычный зрительный образ: он стилизован под фрагмент текста (и бытия). Необходимо отличать жанр отрывка от пограничных явлений - текстовых фрагментов в буквальном смысле, фактов частичной публикации произведений, незаконченных и частично утерянных стихотворений и др.
Нередко стихотворения в этом жанре сопровождены пометой «Отрывок». Фронтальное обследование русской поэзии XVIII-XIX вв. позволяет выявить 337 стихотворений, имеющих в названии помету «отрывок» или грамматическую конструкцию «из...». В результате осмысления этих произведений обнаруживается, что большая их часть (197 стихотворений) обладает устойчивыми признаками, совокупность которых позволяет говорить об особом жанре - отрывке. На этом основании составлен корпус текстов в жанре отрывка первой трети XIX в. - 144 стихотворения (8941,5 строки) 50 авторов.
Уже в 1820-е гг. критик Н. Полевой ставит отрывок в ряд с другими, устоявшимися в творческом сознании жанрами (посланием, элегией, песней, балладой): для отрывка, как и для других, полноправных жанров предлагается составить жанровые пародийные «отделы». Этот факт дока-62
зывает узнаваемость отрывка читательской публикой первой трети XIX в.
Структуру и содержание жанра отрывка составляют следующие особенности:
-
1. Авторское указание на стилизованную фрагментарность в названии, выраженное пометами «отрывок» и «из...» в заглавии: Лермонтов М. Отрывок («На жизнь надеяться страшась...»); Тютчев Ф. Из «Фауста» Гете -ив подзаголовке: Языков Н. Меченосец Аран (Отрывок); Козлов И. Явление Франчески (Из «Осады Коринфа» лорда Байрона).
-
2. Специфика графики:
-
а) графическая нерасчлененность, или отсутствие графических пробелов: Батюшков К. Воспоминания. Отрывок;
-
б) пропуски текста, или графический эквивалент: Давыдов Д. Партизан (Отрывок);
-
в) начальная и (или) финальная неполные строки: Майков А. Рассказ духа (Отрывок);
-
г) начальное и (или) финальное многоточия: Тургенев И. Из поэмы, преданной сожжению.
-
3. Специфика строфики:
-
а) астрофичность: Жуковский В. Отрывок перевода элегии. Из Парни;
-
б) начальная и (или) финальная холостые строки: Туманский В. Век Елисаветы и Екатерины. Отрывок из послания к Державину.
-
4. Специфический хронотоп:
-
а) художественное время, открытое в вечное: Баратынский Е. Отрывки из поэмы «Воспоминания»;
-
б) художественное пространство, развернутое в бесконечное: Норов А. Отрывок из дидактического опыта об астрономии.
-
5. Оптимистический финал тематической композиции: Шевырев С. Елена. Отрывок из междудействия к «Фаусту».
-
6. Специфика тематики:
-
а) тема искусства, творческого познания мира: Тютчев Ф. Байрон. Отрывок (Из Цедлица);
-
б) тема высокой гармонии: Веневитинов Д. Отрывки из «Фауста»;
-
в) образ исключительного героя: Грибоедов А. Юность вещего (Из пролога).
-
7. Финальное сравнение «спадающего» типа: Одоевский А. Отрывок (Из «Послов Пскова»),
Константой жанра отрывка является авторское указание на стилизованную фрагментарность, выраженное названием или графически (графический эквивалент, начальная и финальная неполные строки, начальное и финальное многоточия) и строфически (начальная и финальная холостые строки). Вербальные, графические и строфические средства указания на фрагментарность могут выступать как самостоятельно, так и в комбинации.
Доминантами отрывка предстают такие его признаки, как: а) графическая нерасчлененность (89,6% произведений) и б) астрофичность (85,6%), подчеркивающие цельность отрывка как «осколка бытия»; в) оптимистический финал тематической композиции (67,4%), обусловленный стремлением нивелировать романтическую «мировую скорбь»; г) художественное пространство, открытое в бесконечное (60,4%), и д) художественное время, обращенное в вечное (59,0%), придающие художественному миру отрывка вселенский масштаб.
Анализ круга мотивов в жанре отрывка выявил его ярко выраженные тематические тяготения. Практически две трети отрывков (61,1%) содержат тему искусства, творческого познания мира, которая формируется четырьмя подтемами - вдохновения, уединения, «невыразимого», поэта (художника, музыканта). Эти подтемы дают специфические комбинации мотивов, складывая следующую жанровую концепцию отрывка. Возвеличенный в отрывке человек искусства, избранник вдохновения, обитающий в идеальном для творчества топосе (названном нами «locus artis»), обретает возможность выразить «невыразимое»: постичь Бога, вечность и бесконечность, природу, тайны собственной души и дать название неуловимому (Вяземский П. Деревня. Отрывки; Грибоедов А. Отрывок из Гете; Тютчев Ф. Из Шекспира («Любовники, безумцы и поэты...») и др.). Оптимистический финал, указанный в качестве доминанты отрывка, обусловливает подобное развертывание мотивов темы искусства.
Идейно-эмоциональный комплекс жанра отрывка определяет также тема высокой гармонии и образ исключительного героя, не обязательно связанные с темой искусства. Образ экстраординарного лирического героя отрывка, помимо мотивов, создается особой субъектной организацией текста, воплощающейся в императивности высказываний субъекта: Тютчев Ф. Байрон. Отрывок (Из Цедлица).
В русских отрывках обнаруживаются как следы влияния конкретных романтических идей (Жуковский В. Невыразимое (Отрывок)), так и прямые переложения отдельных мест из манифестов западных романтиков (Шевырев С. Портреты живописцев). Литературные трактаты европейских романтиков стали для жанра отрывка эстетико-философской основой. В них были отражены основные романтические идеи: культ творчества по наитию («чувство мистического»); интерпретация человека искусства как гения и пророка, срывающего завесу с истины; возможность постичь силою искусства тайны природы, вечности и бесконечности; фрагментарность, сопряженная с универсумом; восстановление «подлинного духа» античной гармонии. Европейские романтические концепции, воспринятые русскими поэтами, детерминировали образование перечисленных ранее жанрообразующих признаков отрывка.
Рассмотрение материала в диахроническом аспекте на данный момент выявляет 8 умозрительных и конкретных источников жанра отрыв-
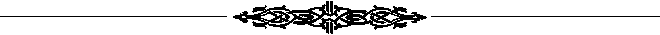
ка, как-то: 1) литературные манифесты западноевропейских романтиков; 2) «отрывки» из античной антологии; 3) оссианические «отрывки»; 4) «фрагменты» Андре Шенье; 5) драма; 6) поэма; 7) элегия; 8) послание. При всем своеобразии жанровых источников отрывка (жанров драмы, поэмы, элегии, послания) способы их освоения отрывком были сходными:
-
1) вычленение отрывка из оригинального текста: из драмы - Грибоедов А. Юность вещего (Из пролога); из поэмы - Хомяков А. Вадим (Отрывок из неоконченной поэмы); из элегии - Батюшков К. Воспоминания. Отрывок; из послания - Жуковский В. Невыразимое (Отрывок);
-
2) вычленение отрывка из иноязычного текста: Веневитинов Д. Отрывки из «Фауста»; Батюшков К. Сон воинов. Из поэмы «Иснель и Асле-га»; Жуковский В. Перевод отрывка элегии. Из Парни; Озеров В. Из послания Буало к Расину;
-
3) стилизация отрывка под «осколок» другого жанра: Бестужев (Мар-линский) А. Отрывок из комедии «Оптимист»; Одоевский А. Чалма. Отрывок из повести; Пушкин А. Гроб юноши; Полежаев А. Отрывок из послания к А.П. Л<озовском>у.
Утверждая решение романтической проблемы выражения «невыразимого», отрывок зачастую завершается оптимистическими мотивами. Из 144 исследуемых отрывков 1800-1830-х гг. практически две трети (97 стихотворений) имеют оптимистический финал тематической композиции3. Лирический герой (героиня) находит утешение в искусстве (см., например, Бенедиктов В. «С могучей страстию в мучительной борьбе...», стихотворение из цикла «Отрывки (Из книги любви)»; Писарев Н. Отрывок из поэмы «Грация»), природе (Жуковский В. Отрывок (Подражание) («О счастье дней моих, куда, куда стремишься?..»; Отрывок перевода элегии. Из Парни), счастливых воспоминаниях и мечтах (Батюшков К. Воспоминания. Отрывок; Глебов Д. Отрывок из поэмы «Воспоминания»), любви и дружбе (Шевырев С. Елена. Отрывок из междудействия к «Фаусту»; Пушкин А. «Поедем, я готов: куда бы вы, друзья...»).
В тех случаях, когда отрывок является вольным переводом фрагмента иноязычного произведения с пессимистическим финалом, русский автор практически всегда от такой концовки отказывается. Ярким примером может послужить «Отрывок из Гете» А. Грибоедова, являющийся вольным переводом «Театрального вступления» из трагедии И.-В. Гете «Фауст». «Театральное вступление» Гете завершается приказанием Директора театра Поэту творить так, чтобы привлечь в театр толпу. Грибоедов заканчивает свой отрывок на возвеличивании Поэтом возможностей искусства, отрешая творца от пошлости и суеты публики.
Нередко в отрывке обретение лирическим героем гармонии сопровождается его устремленностью в вечность и бесконечность, как, например, в упомянутых примерах из А. Грибоедова и Д. Глебова. Романтическая художественная условность позволяет видеть оптимистический пафос в об- ращенности в вечное и бесконечное, впоследствии ставшей отчасти пессимистической для экзистенциального человека.
Безусловно, мы можем говорить только об относительно оптимистическом исходе лирических событий в отрывке, и в первую очередь в сравнении с абсолютно безысходным содержанием романтической элегии, воспринимаемой как знак романтической эпохи. Именно по оптимистическому финалу отрывок легко отличим от нередко отождествляемого с ним элегического жанра, пессимистичного по своему содержанию и, в частности, по тематическому финалу. Ограничим материал сопоставительным анализом элегии и отрывка, что проиллюстрирует принципиальную важность оптимистического исхода тематической композиции в жанре отрывка.
Отрывок, взаимодействуя с элегией и вступив с ней в оппозицию, обретает оптимистический финал, как мы увидели по времени создания стихотворений-отрывков, на ранней стадии своей жизни - в 1800-1810-е гг. Так, оптимистический финал тематической композиции имеют все отрывки К. Батюшкова («Воспоминание», 1807-1809; «Отрывок из XVIII песни “Освобожденного Иерусалима”», 1808-1809; «Отрывок из I песни “Освобожденного Иерусалима”», 1809; «Воспоминания. Отрывок», 1815) и В. Жуковского («Отрывок перевода элегии. Из Парни», 1806; «Отрывок. (Подражание)», 1806; «Отрывок из Делилева “Дифирамба на бессмертие души”», 1806; «Отрывок из “Мессиады”», 1810-е гг; «Уединение (Отрывок)», 1813; «Невыразимое (Отрывок)», 1819). Значит, в связи с исследованием этого жанрового признака целесообразно обращаться уже к творчеству ранних русских романтиков.
В лирике К. Батюшкова обнаруживается интересный случай, когда одна поэтическая мысль фигурирует в двух жанровых формах, в заглавиях обозначенных самим автором как «отрывок» и «элегия». Речь идет о стихотворениях «Воспоминания. Отрывок» и «Элегия» («Я чувствую, мой дар в поэзии погас...»).
В 1815 г. Батюшковым была написана элегия «Воспоминания», впоследствии переименованная в «Элегию» (90 стихов). Ее первая часть без трех строк (55 стихов плюс введенные в новый текст первая и последняя строки отточий) вошла в «Опыты в стихах и прозе» под названием «Воспоминания. Отрывок». Полный текст стихотворения впервые был опубликован в книге «XXV лет. 1859-1884. Сборник, изданный комитетом общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым». В современных изданиях публикуется либо только полный текст стихотворения «Элегия»4, либо только сокращенный текст под названием «Воспоминания. Отрывок»5, либо и полный и сокращенный тексты как самостоятельные произведения под названиями «Элегия» и «Воспоминания. Отрывок»6.
Стихотворение «Воспоминания. Отрывок» - одно из известных произведений Батюшкова и уже являлось объектом литературоведческого анализа (к примеру, в исследовании Т. Савченко7). Однако в жанровом аспекте текст никем обстоятельно не изучен. Сопоставительного анализа стихотворений «Воспоминания. Отрывок» и «Элегия» проведено не было, т.к. в литературоведении бытует мнение, что это две редакции одного стихотворения, а не два самостоятельных текста (Н. Фридман8; И. Семенко9; В. Кошелев10). Так, В. Кошелев в своей монографии «Константин Батюшков. Странствия и страсти» не делает различия между этими двумя текстами, цитируя ст. 63-68, 72-78, 87-90 «Элегии» как строки из стихотворения «Воспоминания. Отрывок», в нем отсутствующие11.
В сборнике «XXV лет...» 1884 г, кроме «Элегии», напечатано еще одно стихотворение Батюшкова, и публикация их снабжена следующим издательским примечанием:
«В бумагах В А. Жуковского, разобранных его сыном Павлом Васильевичем, нашлось несколько стихотворений К.Н. Батюшкова, до сих пор неизвестных в печати.
Первое из этих стихотворений представляет собой первоначальную редакцию пьесы “Воспоминания”, находящуюся во всех изданиях сочинений К. Батюшкова, но редакцию интересную преимущественно тем, что она содержит в себе окончание пьесы. Окончание это, начиная со стиха 59-го, до сих пор не было в печати, а между тем оно существенным образом дополняет смысл всего стихотворения; опущение этих заключительных стихов в прежних изданиях объясняется чисто личными причинами: элегия содержит в себе историю несчастной любви поэта»12.
Из этого примечания не совсем понятно, считает издатель «Элегию» и «Воспоминания. Отрывок» разными текстами или же рассматривает их как две редакции одного стихотворения. Так, с одной стороны, издатель сообщает о том, что «нашлось несколько стихотворений К. Батюшкова, до сих пор неизвестных в печати», и об «Элегии» пишет как о «первом из этих стихотворений». Значит, «находящееся во всех изданиях сочинений К. Батюшкова» стихотворение «Воспоминание. Отрывок» является произведением, «существенным образом» отличным от «Элегии», хотя во многом, возможно, с ней и совпадающим. Но тут же автор примечания называет «Элегию» «первоначальной редакцией пьесы “Воспоминания”», содержащей окончание текста, прежде не публикуемое по «чисто личным» причинам, и раскрывает читателю эти причины, а именно «несчастную любовь поэта»13.
Может сложиться впечатление, что помета «отрывок», появившаяся в «Опытах...» при стихотворении «Воспоминания», указывает на неполноту текста. Н. Фридман, комментирующий факт появления подзаголовка «Отрывок» и пропусков текста, апеллирует к строкам Батюшкова из его письма Жуковскому от 27 сентября 1816 г: «Вяземский послал тебе мои элегии. Бога ради, не читай их никому и списков не давай, особливо Тургеневу. Есть на то важные причины, и ты, конечно, уважишь просьбу друга. Я их не напечатаю»14. Как видим, в письме Жуковскому Батюшков писал не о намерении сократить текст «Элегии», а о нежелании печатать свои любовные элегии (тем не менее, как мы отмечали, поэт опубликовал это стихотворение в «Опытах...»). Однако Н. Фридман15, как и издатель сборника 1884 г, а также солидаризирующиеся с ними И. Семенко16 и В. Кошелев17 предполагают, что стихотворение не было опубликовано полностью потому, что в «отброшенных» 32 стихах говорилось о неразделенной любви Батюшкова к А.Ф. Фурман. Аргументация Н. Фридмана, И. Семенко, В. Кошелева довольно интересна и убедительна, если принять во внимание индивидуальные психологические особенности Батюшкова, но нам она не представляется исчерпывающей. К этой версии мы добавим свои соображения.
В. Кошелев, описывая жизнь К. Батюшкова, отмечает, что в то время как Н. Гнедич, тоже любивший красавицу Анну Фурман, «до поры до времени скрывал свои чувства» к ней, «сам Батюшков не умел и не хотел их скрывать»18. Когда Батюшков уехал на войну, «друзья его в переписке своей замечали, что сердце поэта “не свободно”»19. Вернувшись с войны, Батюшков не встретил со стороны А. Фурман взаимности, и их свадьба не состоялась. Сам Батюшков о своей душевной трагедии писал лишь в письме к Е.Ф. Муравьевой20 и в стихотворении «Элегия». Но так как, по всей видимости, личная неудача поэта была «секретом Полишинеля», скрывать ее было бессмысленно. И Батюшков не стремился к этому всеми средствами. Он лишь соблюдал элементарную «конспирацию», чтобы оградить себя от излишних пересудов. Это подтверждается следующими фактами.
Как известно, автор и лирический герой не тождественны. Образ лирического героя «Элегии», сложенный мотивами странничества, «осиротелого гения» и т.п., далек от биографического автора. Но «Элегия» «автобиографична», и, может быть, в большей степени, чем многие другие стихотворения Батюшкова, о чем говорит наличие в ней конкретных топонимов «Жувизи», «Ричмон» и др., настолько частных, что автор снабдил стихотворение примечаниями и не преминул восхититься в них приятностью природы описываемых мест. Батюшков мог предполагать, что читатель будет идентифицировать лирическое «я» и автора «Элегии». Но и в этом случае у Батюшкова не было необходимости сокращать стихотворение в стремлении скрыть свои чувства к А.Ф. Фурман, так как поэт, щадя свою чувствительность, предусмотрел полную анонимность женского образа в «Элегии». «Отсеченные» 32 стиха включают самые общие сетования лирического героя с обилием элегических клише («счастье мне коварно изменило», «следы сердечного терзанья», «мне бремя жизнь» и т.п.) и отвлеченный портрет элегической красавицы. Структура стихотворения, органично вбирающая в себя «географизмы», не содержит конкретных черт любимой женщины, реального или хотя бы условного ее имени. Поэтическая традиция первой трети XIX в. не практиковала использования в стихотворной ткани реальных собственных имен, но случай появления имени «Эмилия»
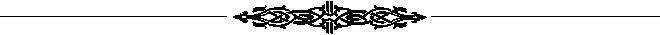
(прототип - Эмилия Мюгель) обнаружен нами в стихотворении Батюшкова «Воспоминание <Полный текст стихотворения>» (подзаголовок поставлен В. Кошелевым). В «Элегии» же Батюшков избежал конкретизации, и именно потому что уже в первоначальном замысле стихотворения хотел скрыть от возможных читателей болезненно переживаемую любовную неудачу.
На основании этого к версии Н. Фридмана, И. Семенко и В. Кошелева можно добавить еще одну версию: независимо от того, догадывается ли читатель о личности изображаемой в стихотворении безответно любимой женщины, поэт не хотел предстать в глазах читателя несчастным человеком. В обоих случаях остается неясным, почему мнительный поэт исключил из текста «Элегии» 32, а не 28 заключительных стихов, не сохранив стихи 59-62 (назовем этот фрагмент «последним этапом мечтаний»), которые, как никакие другие в «Элегии», выражают уверенность лирического героя в его подруге: «Исполненный всегда единственно тобой,/ С какою радостью ступил на брег отчизны!/ “Здесь будет, - я сказал, - душе моей покой,/ Конец трудам, конец и страннической жизни». Стремясь не афишировать своих любовных переживаний, поэт мог бы исключить из элегии не только пессимистический финал (стихи 56-90), но и не менее пессимистическое начало (стихи 1-23). Читателю, чтобы догадаться о крушении батюшковских надежд на счастье, достаточно было бы прочитать начало элегии, содержащее строки «<...> туда влечет меня осиротелый гений <...> где счастья нет следов <...> ни дружбы, ни любви» и им подобные. И, в конце концов, желая скрыть от читателей подробности своей личной жизни, Батюшков мог бы, как и намеревался, вовсе не публиковать стихотворения или опубликовать его частично, но без пометы «отрывок» и пропусков текста, как бы намекающих на существование полной версии элегии и допускающих всякого рода домыслы.
Так что личные причины сокращения «Элегии» (та, которую отмечают Н. Фридман, И. Семенко и В. Кошелев, и та, которую допускали мы) не были для поэта основополагающими. Во всяком случае, на наш взгляд, они обязательно сопрягались с художественными исканиями Батюшкова. В пользу этого предположения свидетельствует тот факт, что, хотя начальные строки элегии и отрывка совпадают («Я чувствую, мой дар в поэзии погас...»), отрывок открывается строкой графического эквивалента, указывающей на пропуск текста. Это мистификация. Первая, внелексическая, строка отрывка не указывает на купюры, а выполняет другую, типичную для жанра отрывка, функцию. Такой же смысл приобретает и последняя строка, о чем будет сказано подробнее ниже. Принципиальным отличием этих стихотворений предстает, судя по их содержанию, эстетическая тональность исхода тематической композиции - пессимистическая в элегии и оптимистическая, появившаяся после отсечения скорбного элегического финала, в отрывке. Мы полагаем, что эстетическая тональность финала является в данном случае жанровым различителем.
Чтобы доказать, что стихотворение «Воспоминания. Отрывок» не часть «Элегии», а самостоятельное произведение, вышедшее из лона элегии, но имеющее иной жанровый статус - отрывка, сопоставим эти стихотворения.
Уже на беглый взгляд обнаруживаются принципиальные отличия: тексты имеют разные названия; в структуру отрывка введены начальная и заключительная строки графического эквивалента, отсутствующие в элегии; отрывок на 3 стиха меньше соответствующего ему элегического текста; имеются лексические разночтения; элегия, в отличие от отрывка, снабжена авторскими примечаниями.
В названии «Элегия» заключается указание на жанровую принадлежность. Слово «отрывок» в подзаголовке стихотворения «Воспоминания», как мы предполагаем, также является жанровой пометой. Характерно, что отрывок сохранил первоначальное название элегии - «Воспоминания». Наши наблюдения над жанром отрывка показывают, что воспоминания в этом жанре не замкнуты в прошлом, а так же, как и мечты, продлены в вечном и, предоставляя лирическому герою возможность ощутить свободу и душевный покой, являются одним из источников его поэтического вдохновения. Лирический герой как в отрывке, так и в элегии оставлен и возлюбленной и Музой. Но, судя по содержанию обоих текстов, поэтическое дарование сохраняется за героем отрывка, в то время как элегический герой вновь не обретает его. И если герой элегии не находит выхода из создавшейся ситуации и впадает в крайнее уныние, то, как мы имеем основания предполагать, лирический герой отрывка, в отличие от предельно разочарованного лирического «я» элегии, обретает утешение в счастливых мечтах и воспоминаниях, проснувшихся в его творческом воображении. Имея это в виду, проследим развитие лирического переживания в обоих текстах.
В начальных строках «Элегии» лирический герой, пребывая «под новым бременем печали», сетует на угасание своего поэтического дара (стихи 1-14). Пространное сравнение лирического героя со «странником» (стихи 15-24), отобразив крайнее отчаяние героя, переходит в его эмоциональную апелляцию о спасении к «ты» как «последнему сердца другу», «опоре сладкой», «надежде», «утешенью», «хранителю ангелу» (стихи 25-28). Лирический герой, странник, неустрашимый воин, углубляется в мир прошлых иллюзий (в дальнейшем этот фрагмент (стихи 29-62) мы называем «воспоминания о мечтах»): образ возлюбленной он «таил <...> залогом всего прекрасного... и благости Творца», во взаимной любви видел будущий «покой», «конец трудам», «конец страннической жизни».
«Воспоминания о мечтах», открывшие путь исцеления героя от душевных страданий, внезапно обрываются: «Ах, как обманут я в мечтании моем!» (ст. 63). Лирический герой, осознав тщету своих упований, убеждается в безнадежном угасании своего поэтического дарования с исчезновением источников вдохновения - «упованья», «дружбы», «любви» (стихи 64-90). Таким образом, тематическая композиция элегии кольцевая, и схематически ее можно представить следующим образом: уныние - взлет - уныние.
Стихотворение «Воспоминания. Отрывок» включает в себя сетования лирического героя на угасание дара (стихи 2-15), аналогию со «странником» (стихи 16-22), обращение за поддержкой к любимой (стихи 23-26) и большую часть (30 стихов из 34) «воспоминаний о мечтах» (стихи 27-56). В структуре отрывка есть к тому же графический эквивалент текста (начальная и заключительная строки), воздействующий на развитие лирического сюжета. Создается иллюзия, что тезис «Я чувствую, мой дар в поэзии погас...» не первая строка отрывка, а лишь неожиданный спад в развитии лирической мысли, до этого, возможно, более оптимистической. Следовательно, и в отрывке мы, вероятно, наблюдаем композиционное кольцо, но прямо противоположное элегическому: взлет - уныние - взлет. И заключительная строка графического эквивалента указывает здесь, конечно, не на строки, выпущенные из «Элегии», а на принципиально иные, предполагаемые, строки, диктуемые всем ходом лирического сюжета отрывка, стремящегося к оптимистической развязке.
Последние пункты в схемах глубже и сильнее, чем первые. Нисходящий финал элегии знаменует более тягостное уныние, чем в первых строках: страдание лирического героя четче обрисовывается после передачи его «воспоминаний о мечтах». Восходящая концовка отрывка также несомненно сильнее начала, лишь намеченного строкой графического эквивалента. В финале пропуск текста выразительнее, т.к. не самостоятелен, как в начале стихотворения, а сопровождает оптимистический контекст, принимая и углубляя его содержание, а именно - возможное разрешение скорби и более высокий полет фантазии. Под воздействием столь художественно сильной развязки лирических событий читатель отрывка не может сомневаться, что к герою, живописующему свои прошлые мечты, вернулся поэтический дар.
«Реальная» лирическая ситуация («уныние») в обоих текстах протекает в настоящем времени: «На крае гибели так я зову в спасенье/ Тебя...». В элегии горестным настоящим, начальным и конечным пунктами композиции («уныние»), с обеих сторон замкнуто светлое прошлое и будущее, «воспоминания о мечтах» («взлет»). Иначе - в отрывке, где значительный по объему «взлет» (если «воспоминания о мечтах» в элегии занимают 34 стиха из 90, то в отрывке - 31 из 57) отодвигает назад и закрывает собой «уныние». Читатель, подходя к финалу отрывка, погружается в мир воспоминаний и мечтаний лирического героя и, очевидно, забывает о его душевной трагедии.
Задумаемся, почему Батюшков не переносит в текст отрывка стихи 59-62, названные нами «последним этапом мечтаний» лирического героя. Целесообразно обратить внимание на их композиционное место в элегии.
«Последний этап мечтаний» в элегии расположен между пейзажем и крушением всего, «что сердцу сладко льстило», «что было тайною надеждою всегда». Пейзажное описание сложено топонимами («Швеция», «Троллетана») и другими предметными мотивами («скалы», «берега», «села», «кущи» и др.). Изображается предельно конкретный, узкий локус, где лирический герой предавался мечтам о возлюбленной. Отрывок завершается описанием того же ландшафта, но с иными художественными целями: следующий за величавым описанием природы графический эквивалент в отрывке открывает перспективу в вечность и бесконечность, включая художественный мир стихотворения во вселенский масштаб.
Изменению хронотопа способствуют и глагольные формы, оставшиеся в отрывке после разреза элегического текста именно там, где это сделал автор. В тех 30 стихах «воспоминаний о мечтах», что фигурируют и в отрывке и в элегии, преобладают глаголы несовершенного вида («...летел... приносил... следовал... забывал... мечтал... учил» и т.д.). Это хотя и не нивелирует протекаемость лирических событий в прошедшем, те. элегическом времени, но в сочетании с анафорой «Как часто <...>» утверждает цикличность, повторяемость событий, а значит, их некоторую статику и большую легкость обращения в «вечное настоящее», присущее отрывку. Пейзажное описание в «воспоминаниях о мечтах» построено на глаголах настоящего времени («В лесах, где Жувизи гордится над рекою/ И Сейна по цветам льет сребряный кристалл...») и несет идею непричастности природы к окружающим событиям. «Последний этап мечтаний», оставшийся за текстом отрывка, являет собой «кусочек» действия совершенного, а не совершаемого («ступил... сказал... здесь будет <...> конец трудам, конец и страннической жизни»), что утверждает законченность (даже семантически - «конец»), противоречащую характерной для отрывка идее вечности и, следовательно, вечной незавершенности.
Таким образом, если бы Батюшков все же перенес в текст стихотворения «Воспоминания» «последний этап мечтаний», то нарушился бы хронотоп отрывка: заключительный стих графического эквивалента лишился бы высокой функции воплощения вечности и бесконечности и продолжил мечтания в довольно приземленном свете («конец страннической жизни»).
Проведенный нами анализ лексических разночтений отрывка и элегии позволил сделать следующие наблюдения. Лексические разночтения в стихотворениях «Элегия» и «Воспоминания. Отрывок» незначительны, но, без сомнения, играют определенную роль. Так, развернутое сравнение лирического героя со «странником, брошенным из недра ярых волн», в отрывке на три стиха меньше, чем в элегии21. В тексте отрывка опущены зловещие мотивы («берег дикий и кремнистый», «валы ревущие», «молнии змеисты», «свинцовый небосклон»), в элегии усугубляющие одиночество и отчаяние лирического героя. Далее - отличаются друг от друга следующие контексты:
На крае гибели так я зову в спасенье
Тебя, последний сердца друг!
Опора сладкая, надежда, утешенье
Средь вечных скорбей и недуг!
Хранитель ангел мой, оставленный мне Богом!..
(«Элегия»)
На крае гибели так я зову в спасенье
Тебя, последняя надежда, утешенье!
Тебя, последний сердца друг!
Средь бурей жизни и недуг
Хранитель ангел мой, оставленный мне Богом!..
(«Воспоминания. Отрывок»)
Перестановка мотивов («последний сердца друг», «надежда», «утешенье») практически ничего не изменяет в содержании текстов. Зато примечательно, что в элегии говорится о «вечных скорбях», среди которых лирический герой ищет спасения, а в отрывке всего лишь о «бурях жизни». «Вечная скорбь» - знак тотального пессимизма романтической элегии (ср.: «мировая скорбь»). Упоминаемые же в отрывке «бури жизни» - явление преходящее и, конечно, вполне преодолимое для героя отрывка - воина, поэта, мечтателя.
Описанный нами интересный материал Батюшкова не предстает случайным. У того же Батюшкова имеется еще один, более ранний (1807— 1809 гг.) случай существования двух жанров на одной текстовой основе -элегии с пессимистическим итогом и отрывка с итогом оптимистическим.
Это стихотворения «Воспоминание» (43 стиха) и названное В. Кошелевым «Воспоминание <Полный текст стихотворения>» (112 стихов). В данном случае не отрывок возникает из уже имеющейся элегии, как было в жанровой паре «Воспоминания. Отрывок» и «Элегия», а, напротив, на основе отрывка путем прибавления 69 стихов, содержащих развитие лирического действия и пессимистическую лирическую развязку, создается элегия. Другой пример: «Отрывок перевода элегии. Из Парни», 1806, В. Жуковского. Русский поэт экспериментирует не с собственной, а с иноязычной элегией, на оптимистической ноте обрывая перевод элегического текста Э. Парни и отмечая оборванность строкой графического эквивалента.
Есть и более поздние аналогичные упомянутым примеры, подтверждающие закрепление оптимистического исхода тематической композиции в отрывке. Нельзя не указать случай подобного отражения одного текста в двух жанрах, найденный нами у А. Пушкина. Перебеленный текст стихотворения Пушкина «Ты, сердцу непонятный мрак...», относящийся к 1822 г. и связываемый Б. Томашевским с замыслом большого произведения о Тавриде22, получает авторское заглавие «Отрывок». Стихотворение завершается, как часто и происходит в отрывке, оптимистической темой любви к поэзии. Этот текст, как отмечает Б. Томашевский, в 1825 г. «в сильно сокращенном и переработанном виде, с измененным смыслом, послужил для создания элегии “Люблю ваш сумрак неизвестный...”»23. В 1826 г, по сведениям Л. Фризмана, Пушкин публикует новый текст под названием «Элегия» в «Московском телеграфе»24. Композиция элегического текста в сравнении с тематическим построением отрывка принципиально изменена. Тема поэзии, в отрывке финальная, здесь перенесена в начало стихотворения. Оптимистический импульс иссякает на 17 стихе, и вплоть до заключительной 28 строки лирический герой сожалеет о том, что, вероятно, «с ризой гробовой» он забудет «мир земной», а значит, заверения поэтов в возможности навещать из того мира «места, где было все милей», и утешать «сердца покинутых друзей» лишь «пустые мечты». Как видим, пушкинские отрывок и элегия, созданные на основе одного и того же текста, различаются по эстетической тональности финала - относительно оптимистической в отрывке и пессимистической в элегии.
Подведем итоги наблюдений. Судя по нашей статистике, относительно оптимистический финал является одной из устойчивых доминант жанра отрывка: из 144 отрывков оптимистический исход имеют 97 стихотворений, что составляет 67,4% от общего числа; художественное пространство, развернутое в бесконечное - 87 (60,4%); художественное время, переходящее в вечное - 85 (59,0%). Судя по содержанию отрывков, оптимисти- ческий финал тематической композиции в исследуемом жанре зачастую связан с комплексами мотивов темы искусства: лирический герой обретает счастье как собственно в искусстве, так и в природе, воспоминаниях, мечтах, любви, дружбе, являющихся, по нашим наблюдениям, источниками вдохновения для Поэта (Художника, Музыканта) в художественном мире отрывка. Таким образом, оптимистический исход композиции в отрывке предстает весомым количественным и качественным показателем, являясь едва ли не самым важным элементом в создании концепции «выражения невыразимого», ставшей, как мы попытались показать при изучении тематики отрывка, его жанровой концепцией.
С целью исследования оптимистического финала в жанре отрывка мы обратились к анализу обнаруженного нами в творчестве К. Батюшкова интересного случая: одна поэтическая мысль (лирический герой покинут и возлюбленной и Музой) предстает в двух жанровых формах, указанных автором в названиях («Элегия» («Я чувствую, мой дар в поэзии погас...») и «Воспоминания. Отрывок»),
Используя материалы текстологических комментариев Н. Фридмана, И. Семенко, В. Кошелева, мы выдвигаем собственную версию о причинах существования двух жанровых вариантов одного и того же текста: «Элегия» была сокращена не столько по причинам личного характера, как считают вышеназванные комментаторы, сколько по причинам эстетического плана.
Материал, осмысленный здесь главным образом с точки зрения развития лирического переживания и тематической композиции, а также с точки зрения авторских указаний на жанр, функций графического эквивалента, появившегося в отрывке, хронотопа, позволяет сделать следующие выводы. Различие в объеме и композиции было вызвано изменениями в образной системе и, в конечном итоге, определило различное идейноэмоциональное содержание стихотворений «Элегия» и «Воспоминания. Отрывок». «Тотальное» (Ю. Манн) разочарование лирического героя элегии сменилось на сравнительно оптимистическое мироощущение в отрывке. Относительно замкнутый художественный мир элегии в отрывке преобразуется, обращаясь в вечность и бесконечность.
Сопоставление двух жанров, возникших на основе одного и того же текста, делает наглядным сходство и различие отрывка и элегии, а также механизм образования отрывка из элегии. Совершенно очевидно, что элегия как более разработанный жанр дала основу (темы, мотивы, стилевые клише и др.) новому жанру - отрывку. Отрывок, вполне успешно усваивая элегические традиции, через преодоление элегической «мировой скорби»
в иллюзии приобщения к вечному и бесконечному приобретает собственные жанровые признаки. Это происходит, в первую очередь, благодаря композиционным изменениям, а именно приобретению отрывком оптимистического финала тематической композиции.
Другие примеры из К. Батюшкова, В. Жуковского, А. Пушкина подтверждают эти наблюдения.
Список литературы Оптимистический финал лирического сюжета в жанре отрывка
- Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка: Статьи. М., 1965. С. 49
- Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 42-51, 255-257, 263
- Сандомирская В.Б. «Отрывок» в поэзии Пушкина двадцатых годов//Пушкинские исследования и материалы. Т. IX. Л., 1979. С. 69-82
- Чумаков Ю.Н. «Осень» Пушкина в аспекте структуры и жанра//Пушкинский сборник: Уч. записки ЛГПИ им. А.И. Герцена. Псков, 1972. С. 29-42
- Вацуро В.Э. Жанры//Лермонтовская энциклопедия/Гл. ред. В. Мануйлов. М., 1981. С. 160-161
- Лебедева О.Б. Драматургические опыты В.А. Жуковского. Томск, 1992
- Зейферт Е.И. Жанр отрывка в русской поэзии первой трети XIX века. Караганда, 2001
- Зейферт Е.И. Жанр отрывка: структура и содержание. Караганда, 2004
- Тюпа В.И. Финал//Краткая литературная энциклопедия. Т. 7. М., 1972
- Малкина В.Я. О лирическом сюжете в стихотворении А.С. Пушкина «Зимний вечер»: заметки к теме//Поэтика русской литературы: Сб. статей: К 80-летию профессора Ю.В. Манна. М., 2009. С. 184-187
- Малкина В.Я. К проблеме определения лирического сюжета//Вестник РГГУ. 2010. № 2. С. 11-14
- Батюшков К.Н. Полное собрание стихотворений/Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Н.В. Фридмана. М.; Л., 1964. С. 198-200
- Батюшков К.Н. Опыты в стихах и прозе/Изд. подгот. И.М. Семенко. М., 1978. С. 212-213
- Батюшков К.Н. Сочинения: В 2 т. Т. 1: Опыты в стихах и прозе. Произведения, не вошедшие в «Опыты...»/Сост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент. В.А. Кошелева. М., 1989. С. 173-174, 406-408
- Савченко Т.Т. Мотив воспоминания в «Опытах в стихах и прозе» К. Батюшкова//Тезисы докладов к научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения К.Н. Батюшкова. Вологда, 1987. С. 14-15
- Фридман Н.В. Примечания//Батюшков К.Н. Полное собрание стихотворений/Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Н.В. Фридмана. М.; Л., 1964. С. 305
- Семенко И.М. Примечания//Батюшков К.Н. Опыты в стихах и прозе/Изд. подгот. И.М. Семенко. М., 1978. С. 212-213
- Кошелев В.А. Константин Батюшков. Странствия и страсти. М., 1987. С. 197-199
- Кошелев В.А. Комментарии//Батюшков К.Н. Сочинения: В 2 т. Т. 1: Опыты в стихах и прозе. Произведения, не вошедшие в «Опыты...»/Сост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент. В.А. Кошелева. М., 1989. С. 452
- Кошелев В.А. Константин Батюшков. Странствия и страсти. М., 1987. С. 197-199
- XXV лет. 1859-1884. Сборник, изданный комитетом общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884. С. 201
- Фридман Н.В. Указ. соч. С. 305
- Семенко И.М. Указ. соч. С. 536
- Кошелев В.А. Комментарии. Т. 1. С. 452
- Кошелев В.А. Константин Батюшков. Странствия и страсти. С. 197
- Фризман Л.Г. Жизнь лирического жанра. Русская элегия от Сумарокова до Некрасова. М., 1983. С. 28
- Томашевский Б.В. «Таврида» Пушкина//Ученые записки Ленинградского государственного университета. 1949. Вып. 16. С. 106-111. (Сер. филол. наук)
- Томашевский Б.В. Примечания//Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 2. Стихотворения 1820-1826/Подгот. текста и примеч. Б.В. Томашевского. М., 1963. С. 410
- Фризман Л.Г. Примечания//Русская элегия XVIII -начала XX века: Сборник/Вступ. ст., сост., подгот. текста, примеч. и биограф. справочник по авторам Л.Г. Фризмана. Л., 1991. С. 568