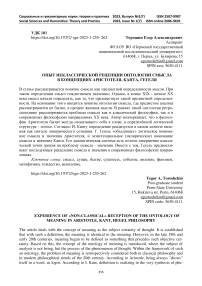Опыт неклассической рецепции онтологии смысла в концепциях Аристотеля, Канта, Гегеля
Автор: Торощин Е.А.
Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp
Рубрика: Культурологические и философские исследования
Статья в выпуске: 1 (7), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается понятие смысла как предметной определенности мысли. При таком определении смысл тождественен значению. Однако, в конце XIX -начале XX века смысл начали определять, как то, что предшествует такой предметной определенности. На основании этого вводится понятие онтологии смысла, где предметом анализа рассматривается не бытие, а процесс явления мысли. В рамках такой онтологии ретроспективно рассматривается проблема смысла как в классической философии, так и в современных философских направлениях XX века. Автор подчеркивает, что в философии Аристотеля бытие всегда «показывает» себя в слове, в определённой логической структуре - логосе. Согласно И. Канту определение реализуется в самом синтезе явления как синтезе эмпирического сознания. Г. Гегель «объединяет» логическое понимание смысла и значения Аристотеля, и экзистенциальное (эмпирическое) понимание смысла и значение Канта. Его диалектическая система есть полное завершение классической точки зрения на проблему смысла - значения. Вместе с тем, Гегель предвосхищяет последующее разделение смысла и значения в современных философских направлениях.
Смысл, сущее, бытие, сущность, событие, явление, феномен, метафизика, тождество, мышление
Короткий адрес: https://sciup.org/147242818
IDR: 147242818 | УДК: 101 | DOI: 10.17072/sgn-2023-1-255-262
Текст научной статьи Опыт неклассической рецепции онтологии смысла в концепциях Аристотеля, Канта, Гегеля
Смысл можно определить, как предметную определенность мысли. В таком случае смысл выражает сам предмет, о котором мысль сказывается. Следовательно, смысл и является предметным содержанием мысли, её актом. С этой точки зрения понятия смысла и значения не различаются, потому что всякая мысль обладает значением только в той мере, когда значит для человека тот предмет, о котором сказывается эта мысль. Другими словами, в момент осмысления того или иного предмета человеком, он тут же выявляет и его значение. Поскольку явление феномена дается человеку мгновенно, постольку смысл и значение в такой «логике» просто невозможно различить, ведь одно понятие тут же дается, раскрывается как другое и наоборот. Такое понимание смысла-значения доминировало в философии долгое время. Однако, в XIX веке в рамках семиологии (семиотики), в ходе определения отношение знака (но не мысли) к предмету, начинает ставиться вопрос о различении смысла и значения.
Так австрийский логик Готлиб Фреге в своем одноименном труде «Смысл и значение» разделяет смысл и значение следующим образом: значение, или денотат знака выражает объективную действительность (вещь) о которой нам сообщает этот знак через ощущения; смысл же в свою очередь выражает характер связи между знаком и его значением. При этом смысл отличается от субъективного представления: «Образ представления часто бывает пропитан эмоциями, отдельные его части могут быть более или менее расплывчатыми. Более того, не всегда, даже для одного человека, определенное представление связано с одним смыслом. Представление (внутренний образ) всегда субъективно – оно меняется от человека к человеку. Отсюда проистекает многообразие различных представлений, сопряжений с одним и тем же смыслом. У художника, наездника и зоолога с именем Буцефал будут связаны, вероятно, очень разные представления. Этим представление отличается от знака, который может быть достоянием, а не просто частью опыта одного человека» [1]. Таким образом, смысл отличается как от значения (денотата), так и от представления, но при этом он располагается как бы между ними, другими словами, смысл не является столь субъективным как представление, но, с другой стороны, нельзя утверждать, что он совпадает с объективной вещью, или знаком, её означающим.
Логика различения смысла и значения, предложенная Г. Фреге, дала мощный импульс философской мысли для определения и возможного решения проблемы смысла в XX веке. Поскольку теперь мы различаем смысл и значение и теперь именно значение выполняет функцию предметного содержания мысли, то смысл теперь понимается как явление, акт, событие мысли. Поэтому необходимо различать два понятия смысла: классическое понятие смысла, которое относится к содержанию мысли (и поэтому тождественно значению) и понятие смысла неклассическое, которое присуще в самом общем виде различным течениям современной философии, где смысл понимается как актуальное существование мысли или её явление. В связи с этим и ставится основной вопрос: как является предметное содержание мысли? Как оно происходит? С этой точки зрения, такие современные направления философии как феноменология, структурализм, постструктурализм уже не понимают смысл как предметное содержание, поэтому они и не рассматривают отношение мысли к предмету. Скорее их интересует отношение смысла и предметного содержания, где это предметное содержание и понимается как определенность мысли (значение), а смысл есть способ его проявления, то есть форма мысли.
Почему проблема смысла как проявления, акта мысли становится актуальной только в XIX – XX веках? Можно связать это с объективными историческими событиями, которые кардинально изменяют отношения человека к его бытию. Эти изменения приводят человека к вопросу о смысле его собственной жизни. Вопрос о смысле жизни всегда был актуален для философии, однако до этого периода философов в первую очередь интересовали проблемы бытия, истины, субстанции и т.д. И когда вопрос о смысле человеческой жизни оказался в центре внимания, он актуализировал вопрос о смысле вообще.
Здесь мы уже вправе говорить непосредственно об онтологии смысла , благодаря которой предлагается иной вариант ответа на вопрос о соотношении человека с миром и понимании человеком самого себя. Онтология смысла уже не понимается как традиционное учение о бытии, сущем, общих законах природы, общества, мышления – но как как описание феномена смысла. Онтология берется здесь по отношению к мысли, а именно рассматривается явление мысли, где онтология этого явления становится предметом анализа. Явление мысли рассматривается здесь как особого рода бытие, имеющее свою специфику и структуру – так, как это рассматривают некоторые направления современной философии.
Кратко проследим как рассматривается проблематика смысла как явления мысли в философии XX века. Так исследуя разграничение психических и физических феноменов и связанное с этим понятие интенциональности немецкий философ и предвестник феноменологии Ф. Брентано говорит уже не о сущности, но о структуре происхождения опыта, и соответственно, смысла [2]. Вслед за этим Э. Гуссерль в своей феноменологии выделяет две функции знака: выражения и указания . Указывающая сторона знака не имеет в своей сущности никакого смысла. Смысл реализуется именно в выразительной особенности того или иного знака. Однако, чтобы обнаружить то, что непосредственно выражает (означает) знак, необходимо использовать феноменологический анализ, разграничивая данные мыслительного акта и непосредственного предмета нашей мысли [3]. В последствии проблема смысла анализируется в проекте деконструкции Ж. Деррида [4] и философии различия Ж. Делёза [5]. В результате данного анализа устанавливается, что смысл у данных мыслителей понимается как событие . Генезис смысла находится не в языке и предложениях и не в самих вещах, хотя и обретается нами посредством их [6, с36].
Однако, как уже было сказано, значение и смысл, в отличии от философии XX века, в классической философии понимаются как тождественные понятия Более того, именно благодаря классической философии мы и можем дать определение смысла как внутреннее, логическое содержание, постигаемое разумом, значение. В конечном итоге, смысл мы можем свести к понятию сущности предмета. Однако, понимание этой сущности раздваивается на: 1) Предметную определённость; 2) Сущее само по себе. Таким образом, проблема смысла как чего-то определенного всегда была предметом интереса философии. Ведь для того, чтобы как-то помыслить сущее необходимо это сущее каким-то способом зафиксировать, определить так, чтобы оно стало предметом мысли. Такое («вот это») определенное сущее мы и фиксируем в данном понятии смысла. В философии, как и в любом другом знании, объект нашего познания выступает как уже представленный в том или ином понятии. Именно поэтому можно утверждать, что в классической философии в имплицитной форме всегда присутствовала проблема смысла как процесс (про)явления предметного содержания. Однако, такое предметное содержание тут же устанавливалось как определенное (сущность), скрывая при этом саму процессуальную составляющую смысла. Другими словами, генезис, проис- хождение смысла всегда в классической философской мысли воспринимался как априорная данность, (уже ставшее) предметное содержание, значение и сущность вещи. Поскольку философия всегда занимается выяснением отношения мысли к бытию, постольку понимание смысла в классической философии было представлено как предзаданное содержание мысли, но не её форма. В этом плане можно сказать, что философию интересовала скорее проблема отношения мысли к предметному содержанию, то есть проблема истины, но не проблема явления этой истины. Точнее, само содержание истины было более важным, чем то, как эта истина проявляется.
С проблемой генезиса смысла напрямую связано противоречие понятий бытия и (его) становления . Все представители классической философской мысли отдавали предпочтение в пользу первого понятия, поскольку само становление понималось ими как определенный предикат сущности. Однако, несмотря на то, что процесс становления скрывался за теми или иными понятиями классической философии, с необходимостью стоит сказать, что любая мысль движется (происходит) именно благодаря его действию. Именно поэтому в фундаментальных онтологиях классической философии можно проследить проблему возникновения смысла как становления предметной определенности. Следовательно, можно говорить и об онтологии смысла, которая имплицитно присутствует в классической философии. Попробуем ретроспективно выявить как происходит становление мысли на примере философских систем Аристотеля, И. Канта, Ф. Гегеля. Другими словами, как происходит осмысление или как предметное содержание становится смыслом в этих философских системах.
Как известно, в своей «Метафизике» Аристотель выдвигает положение о том, что «О сущем говорится в различных смыслах» [7, с.187]. Так: 1) «сущим называется, с одной стороны, то, что существует как привходящее, с другой – 2) то, что существует само по себе»; 3) «” Бытие” и “есть” означают, что нечто истинно, а “небытие” – что оно неистинно, а ложно, одинаково при утверждении и отрицании»; Кроме того, 4) «бытие и сущее означают в указанных случаях, что одно есть в возможности, другое в действительности». (8, с.92). Однако, помимо этих четырех значений сущего, Аристотель отмечает, что о сущем, существующем самим по себе можно провести так же внутреннюю дифференциацию: «бытие же само по себе приписывается всему тому, что обозначается через формы категориального высказывания, ибо сколькими способами делаются эти высказывания, в стольких же смыслах обозначается бытие» [7, с.156]. Такие формы категориального высказывания1 позволяют говорить о различенных Аристотелем способах предицировать, то есть говорить одно о другом . При этом категории Аристотеля в данном контексте имеют не столько семантическое или логическое значение, а напрямую формируют условие для возможности его онтологии. Так философию как «первую науку» интересует вопрос «что есть сущее, поскольку оно сущее?» или «что присуще сущему самому по себе?» [там же, с.119] При этом всякий вопрос «что есть?...» подразумевает собой наличие какой-либо смысловой определенности. Прояснение смысла сущего как сущего требует систематизации способов говорить о сущем как таковом, способов говорить слово «есть» в его логическом свидетельствовании, явленности о бытии.
В таком случае сама логика как главное «изобретение» Стагирита выступает наукой о проявлении сущего. Логика как наука о форме мысли выступает необходимой стороной онтологии Аристотеля, поскольку важнейшей особенностью сущего как сущего является возможность его выговариваемости, явленности мысли, следовательно, её истинности. Бытие сущего всегда «показывает» себя в слове, поскольку бытие в действительности только и мыслимо как некая оформленность, явленность уму. В связи с этим и Аристотель не противоречит учению Платона, поскольку бытие в действительности раскрывается через всегда уже проговоренную, предзаданную для озвучивания в слове вещь или эйдос. Такая точка зрения согласно которой бытие понимается как явленность, показанность, несокрытость вос- ходит еще к учению Парменида. Однако, если Платон связывает возможность предназначенности к выговариванию бытия со словом «идея», которая подразумевает тождественную себе данность, неизменную ясность смысла, то центральным термином Аристотеля становится «категория» - свидетельство, сказывание чего-то одного о другом. Как отмечает А. Черняков такое «то-о-чем» высказывания (to unoKeipevov) всегда представлено через иное (то KainYopoypevov), выявляя при этом свой вид-эйдос всегда определенной логической перспективе в зависимости от того, как происходит это показывание через иное, в зависимости от “схем категорий” [8, с.94]. Однако, форма вещи (эйдос), озвученная в речи («показанная» уму) отличается от явленного в этом показывании сущего. Такое сущее остается единым, несмотря на многообразие способов его показанности (говорить о вещи так-то и так-то, как то-то и то-то). Другими словами, сущее (эйдос или значение) вещи остается одним и тем же, однако условия представления этого сущего могут быть различными и в зависимости от этих условий может быть выявлена разная смысловая определенность вещи. Тем не менее, сущее по Аристотелю остается неизменным, как-то, что под-лежит (unoKeipevov) самой возможности высказывания о нем. Сама «связка» - «то-о-чем», «то, о чем высказывается все остальное» имеется в наличии, присутствует, оно как-бы пред-лежит в своей фактичности, «есть». В этом и заключается главное отличие Аристотеля от Платона и платоников: если вторые утратили такую «наличность» в результате эйдосной репрезентации, то первый сохраняет её. Именно поэтому такая «наличность», всегда выражаемая в логосе, по Аристотелю не может выражаться в родо-видовой иерархии. Именно поэтому бытие не может быть единством рода.
Такое присутствие осуществляется как одно через другое, нечто одно как то-то и то-то. В свою очередь «схемы категорий» - «^xppaia ing кaInYop^ag» обозначают определенную возможность типологизации способов такого присутствия, условий для о-предмечивания, осмысливания бытия. В этом плане Аристотель не только следует за Парменидом, но и дальше развивает его мысль: бытие - есть простое, внятное, нераздельное присутствие мысли. Однако, «смысл» бытия зависит от того, в каком значении говорится «есть», в каком смысле одно есть другое. С точки зрения онтологии логическая связка «есть» не служит для связывания одного сущего (понятия) с другим, она показывает внутреннюю двойственность бытия, идею Аристотеля того, что бытие - всегда бытие-чего-чем . Таким образом бытие всегда «показывает» себя в слове, голосе, определённой логической структуре - логосе. В этом смысле можно сказать, что в онтологии Аристотеля бытие сущего тождественно мышлению и логике (или, по крайней мере, никак не мыслимо без них).
Если Аристотель в своей философии рассматривает сущность (смысл-значение) как предметную определенность через приписывание его предикатов, то в философии Канта обнаруживается, что предикаты как чистые понятия рассудка (категории) являются пустыми формами возможного предмета. Онтологическое присутствие бытия сущего в субъект-предикативном определении Аристотеля как необходимая смысловая структура в философии Канта уже не имеет никакого основания, поскольку бытие здесь рассматривается не как онто-логическое, а непосредственно связывается с нашим чувственным опытом. В связи с этим, реальность предметной определенности (смысла) есть само явление (феномен), когда как ноумен выступает его необходимым объективным (а не логическим) условием. Понятие и определение вещи выступает непосредственным временным определением, как временной синтез чувственности. Категории же как чистые понятия рассудка выступают тут, как только представление смысла этого условия как смысла сущего [9, с.116-120]. Однако, поскольку о ноумене ничего нельзя сказать, то он выступает лишь условием презентации смысла созерцаемого в чувственности предмета. Другими словами, ноумен есть чистая структура, которая обретает смысл только в чувственном явлении.
В контексте онтологии смысла, философия Канта еще интересна тем, что, поскольку смысл «дан» нам вместе с явлением, то и мир явлений (феноменов) представляет собой становление бытия самого субъекта. Поскольку, прежде чем мы могли дать логическое опреде- ление вещи, это определение должно совершиться в самом синтезе явления, то есть синтезе эмпирического сознания. Однако, само эмпирическое единство сознания само выступает в качестве явления [там же, с.153-154]. То есть, можно сказать, что сам субъект определяется в явлении как тот, кому он открывается. Так явление как временное определение чувственности можно рассматривать как смысл в его экзистенциальной, а не логической топике. Другими словами, чтобы мы могли дать логическое определение — это определение должно свершиться в самом синтезе явления как синтезе эмпирического сознания, где явление смысла есть временной синтез чувственности.
Если Кант в контексте онтологии смысла делает упор на явлении объекта субъекту, то в философии Гегеля мы обнаруживаем интерес к явлению как явлению субъекта: «внешний» (объективный) предмет как часть явления подчинен «внутреннему» сознания. В феноменологии духа Гегель пытается ответить на вопрос: как и каким образом возникает знание вообще? И, хотя Гегель и не обозначал напрямую смысл как условие возникновения знания, тем не менее можно считать, что диалектическое мышление есть определенный вариант решения проблемы смысла.
Так движение и развитие знания происходит путем диалектического различия познания опыта и осознания данного познания: «так как то, что сперва казалось предметом низведено для сознания до знания о нем, а то, что в себе, становится некоторым бытием этого "в себе" для сознания, то это есть новый предмет, вместе с которым выступает и новая форма существования сознания, для которой сущность есть нечто иное, чем для предшествующей формы. Это-то обстоятельство и направляет всю последовательность форм существования сознания в ее необходимости» [10, с.53]. Из развертывания такой диалектической системы становится ясно, почему «Феноменология духа» есть наука о пути сознания к себе самой (науке), «наука об опыте сознания». Сам же диалектический метод Гегеля основывается на тождестве и различии духа (сознания). На первый взгляд, тождество и различие равноценны: тождество выступает как основоположение сознания, а различие приводит сознание в движение. Однако само различие происходит внутри тождественного сознания, что делает тождество все же определяющим в таком отношении. Более того, само различие тогда выступает зависимым от тождества. Тем не менее, такую диалектику предмета и сознания так же можно рассматривать как экзистенцию, то есть явления мысли, где объект и субъект есть только две стороны одного события - объективного духа, которые и обнаруживаются в происхождении или становления этого события.
Так в философии Гегеля явление не рассматривается им как то, что исходит из чувственного опыта как это было представлено в философии Канта. Скорее, явление есть результат, осуществление сверхчувственного: «явление, напротив, не есть мир чувственного знания и воспринимания как мир сущий, а мир, который установлен как мир снятый или поистине как внутренний» [там же, с. 80].
Исходя из этого любое конечное явление вещи не равно её сущности. В таком случае значение в философии Гегеля рассматривается как полное определение сущности вещи, тогда как смысл есть только конечное явление сущего. Другими словами, можно сказать, что Гегель предвосхищяет последующее разделение смысла и значения, где смысл - есть явление сущего, а значение - его сущность, или предметное содержание. Однако, никакое явление (смысл) никогда не охватит сущности (значения) как такового, поскольку сущность выступает как равная всем определениям Полное определение вещи как сущности получается только в результате полного его развертывания в своих явлениях, то есть в своем бытии, экзистенции. Смысл как явление выступает тут конечным проявлением значения как сущности. Так в процессе мышления, например, мы пытаемся логически определить сущность бытия, даем ему все новые и новые определения, переходя от одной категории к другой, однако, только в конце обнаруживается, что сущность (значение) оказывается равным всем этим определениям, где «истина бытия - это сущность» [11, с. 7].
Так с логической точки зрения любой смысл – есть только одностороннее, абстрактное определение значения, а значение – это только их всеобщее-конкретное определение или сумма всех локальных логических определений. С онтологической же точки зрения это значит, что любое явление выступает конечным, абстрактным проявлением бытия сущего, когда полнота его бытия, полное осуществление дается в конце, когда разворачивается вся последовательность явлений как полной и законченной действительности вещи как сущности. Иначе говоря, явление (смысл) – идеален, а сущность (значение) – реально. И эта реальность становится действительностью в своем полном осуществлении, как законченный ряд экзистенции.
Таким образом, в философии Гегеля схема бытие-сущность-действительность раскрывает отношение смысла и значения как явления и сущности. Движение от явления к сущности есть диалектическое движение через противоположности логических определений бытия. Это движение от неопределенного бытия (то есть явления «как» к его сущности «что») и её полному осуществлению в действительности, поскольку сущность полностью проявляет себя в явлениях, а вся совокупность явлений даёт сущность. В таком случае Бытие полностью совпадает со своим понятием как Идеей, а идея полностью воплощается в Бытии как полном ряде своих определений. Исходя из этого, любое явление есть только возможность вещи, а не её действительность, а действительность есть ряд всех её проявлений [там же с. 188-190]. В этом плане можно сказать, что Гегель в своем понимании смысла и значения «объединяет» логическое понимание смысла и значения Аристотеля, и экзистенциальное (эмпирическое) понимание смысла и значение Канта. Более того, диалектическая система Гегеля есть полное выражение и завершение классической точки зрения на проблему смысла - значения.
Рассмотренные выше философские системы позволяют сделать вывод, что проблема смысла в интересующем нас аспекте всегда присутствовала в философии. Поскольку именно со смысла как чего-то определенного и начинается любая мысль, то в конечном итоге, любая философия, которая затрагивает проблему начала мышления, с необходимостью задается вопросом и о происхождении смысла. Однако, как было сказано ранее, уже определенный смысл в классической философии всегда давался как предзаданный дальнейшему познанию. В конечном счете проблема смысла напрямую связана с онтологическим различием, которое обнаруживается уже не развертыванием предикативных понятий о бытии, а как событие проявления этого бытия. Можно сказать, что классическая философия (не)осознанно скрывала обнаружение события, однако сам факт этого сокрытия проявляется нам как (уже данное) событие. В онтологии смысла, в отличие от онтологии в классическом её понимании именно это событие рассматривается как предмет исследования, поскольку именно оно и является основным условием возникновение смысла.
Список литературы Опыт неклассической рецепции онтологии смысла в концепциях Аристотеля, Канта, Гегеля
- Фреге Г. Смысл и значение. URL: http://kant.narod.ru/frege1.htm (дата обращения 18.04.2023)
- Брентано Ф. Избранные работы // Психология с эмпирической точки зрения. – М.: Дом интеллектуальной книги, Русское феноменологическое общество, 1996. – 176с.
- Гуссерль Э. Логические исследования. Т.XX. Ч. 1: Исследования по феноменологии и теории познания. М.: Академический Проект, 2011. – 565с.
- Деррида Ж. Поля философии. М.: Академический Проект, 2012. – 367с.
- Делёз Ж. Различие и повторение. – М.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. – 384 с.
- Делёз Ж. Логика смысла. М.: Академический проект, 2015. – 472с.
- Аристотель. Метафизика // Соч. в 4-х т. Т.1. – М.: Мысль, 1976. – 550с.
- Черняков А.Г. Онтология времени. Бытие и вермя в философии Аристотеля, Гуссерля и Хайдеггера. – СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001. – 460с.
- Кант И. Критика чистого разума. – М.: Наука, 1999 – 655с.
- Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. – М.: Наука, 2000. – 495с.
- Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3-х т. Т.2. – М.: Мысль, 1971. – 248с.