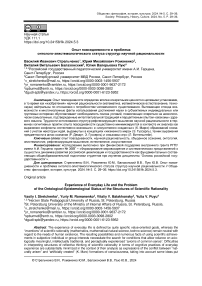Опыт повседневности и проблема онтолого-эпистемологического статуса структур научной рациональности
Автор: Стрельченко В.И., Романенко Ю.М., Балахонский В.В., Пую Ю.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
Опыт повседневности определен вполне конкретными ценностно-целевыми установками, в то время как «изобретения» научной рациональности (математика, математическое естествознание, технонаука) нейтральны по отношению к потребностям человеческого существования. Вытекающие отсюда возможности и многочисленные факты использования достижений науки в субъективных индивидуальных или групповых интересах обусловливают необходимость поиска условий, позволяющих опереться на аксиологически осмысленные, подтвержденные интеллектуальной традицией и перцептивным опытом «аксиомы» здравого смысла. Трудности истолкования структур рефлексирующего мышления научной рациональности в терминах когнитивных практик опыта повседневности существенно минимизируются в контексте их анализа как выражения конфликта «естественно возникших» и «искусственно созданных» (К. Маркс) образований сознания с учетом некоторых идей, выдвинутых в концепциях «жизненного мира» (Э. Гуссерль), техник выражения предметности в актах сознания (Р. Декарт, Э. Гуссерль) и «языковых игр» (Л. Витгенштейн).
Опыт повседневности, научная рациональность, обыденное сознание, онтология, эпистемология, рефлексирующее мышление, естественное, искусственное
Короткий адрес: https://sciup.org/149145919
IDR: 149145919 | УДК: 111.1 | DOI: 10.24158/fik.2024.5.3
Текст научной статьи Опыт повседневности и проблема онтолого-эпистемологического статуса структур научной рациональности
3Санкт-Петербургский университет МВД России, Санкт-Петербург, Россия , , , ,
,
,
,
,
Негативное отношение к обыденному сознанию и опыту повседневности поддерживается ссылками на авторитет Г.В.Ф. Гегеля, считавшего ошибочными представления о перцептивном опыте, расценивающемся как «изобилие реальности» (Гегель, 2007). В действительности же чувственно-конкретный опыт представляет собой «сферу дискретных единичностей чуждых всеобщему», область «иррациональности», «эфемерности» и т.д. (Гегель, 2007).
Критически не менее негативной является и оценка М. Хайдеггера, характеризующего повседневность не иначе как пространство «мнений», «слухов», «сплетен» «болтовни», «двусмысленности», «любопытства», «беспочвенного устроения», а также «неподлинности», «беспочвенности», «потерянности и публичности» (Хайдеггер, 2013).
Наряду с этим в нововременной философии широко представлена и традиция высоких оценок познавательного значения обыденного сознания. Достаточно напомнить, что они развивались и отстаивались лидерами нововременной философской классики, а в ХХ и текущем столетии активно поддерживаются авторитетом Л. Витгенштейна, Э. Гуссерля и основывающимися на их творчестве интеллектуальными движениями (лингвистическая философия, феноменологическое движение, постмодерн).
Эпистемологическая реабилитация опыта повседневности и когнитивных практик обыденного сознания в ХХ в. и в первые десятилетия текущего столетия является выражением острой потребности в переосмыслении философско-методологических оснований научной рациональности. Усиление кризисных тенденций в развитии современных технических цивилизаций оказалось чреватым утратой математическим естествознанием значения едва ли не главной инстанции, санкционирующей и провозглашающей истину. В контексте критики новоевропейской науки актуализируются вопросы исторических типов рациональности (миф, религия, философия), природы и многообразия форм научной рациональности, построения ее историко-методологических моделей (постпозитивизм). Распространение принципа «плюрализма мнений» на область оценки условий достоверности результатов научного поиска и определения его стратегий мотивировало дискредитацию классической концепции истины, обусловило начало оформления целого семейства ее неклассических версий (Стрельченко, 2015). Более того, выдвигаются требования радикального отказа от самого понятия истины как лишенного какого-либо позитивного эпистемологического смысла (Фейерабенд, 1998). Как следствие этого, укрепляются позиции доктрины оценки истинностных значений, апеллируя не столько к материалам объективного исследования, опираясь на современные техники доказательства и обоснования, сколько на процедуры «авторитетной» экспертизы, многообразие противоречивых мнений наиболее влиятельных и общепризнанных специалистов. Продолжающийся рост зависимости развития науки от произвола проблематических «знаний по мнению», руководствуясь соображениями опыта ее технических применений, способствовал сосредоточению внимания научного сообщества на изучении когнитивных практик обыденного сознания как структур, составляющих естественную основу интеллектуального гнозиса. Они включают три основных эпистемологических компонента: формы живого созерцания, естественный язык, а также масштабные массивы знаний здравого смысла. Последние, формирующиеся на основе перцептивного опыта живого созерцания, первичных обобщений здравого смысла и знаково-символических фиксаций естественного языка, отличаются неспециализированностью и не требуют институализации для их освоения и использования.
Обыденное знание представляет собой своего рода «сплав» чувственно-конкретной, языковой и рационально-упорядоченной информации, чем обеспечивается высокая степень его устойчивости, самодостаточности и относительной независимости как от исторических перемен, так и от уровня развития специализированных видов знания. Более того, последние обнаруживают очевидные черты обусловленности познавательной активностью перцептивных структур, естественного языка и неявных техник концептуализации здравого смысла. Есть основания считать, например, что широкое использование технических средств, хотя и создает условия нередко существенного уточнения данных восприятия, отнюдь не сопровождается сколько-нибудь значимыми преобразованиями форм живого созерцания. Основные перцептивно-динамические категории: пространство, время, движение, форма и др., чувственно-наглядные образы обыденного сознания, нормативные эмпирико-психологические констатации здравого смысла сохраняют свои эпистемологические свойства в качестве неявных предпосылок рефлексирующего мышления.
Более гибкими по сравнению с образованием перцептивного опыта и здравого смысла являются подвижные, поддающиеся практикам специализации системы, наделенные значениями лингвистических знаков как инструмента объективации сознания. Функциональные возможности языка охватывают обширные пространства способов выражения духовной активности. К числу главных из них принадлежат: экспрессивная, сигнификативная, когнитивная, информационная и коммуникативная функции. Универсальность языка обнаруживается в многообразии модусов его существования как системы знаков и правил их взаимосвязи, системы понятий, значений и смыслов, формы социальной памяти, искусства применения знаков в речи и письме и др. Сложившиеся и эволюционирующие в истории социальных практик повседневности естественные языки, их семантика, синтаксис и прагматика служат основой формирования множества специализированных языков современной науки. По мнению такого выдающегося физика ХХ столетия, как В. Гейзенберг, категории ньютонианской механики генетически связаны с понятиями повседневного опыта. Адаптированные к контекстам описания явлений классической физики, они и сейчас выполняют роль важнейшего элемента лингвистической стратегии современного естествознания (Гейзенберг, 1963: 35).
Понимание обыденного сознания, языка и вообще структур опыта повседневности в качестве фундаментальных предпосылок научной рациональности предполагает необходимость постановки и уяснения проблем соотношения абстрактного и конкретного, интуитивного и логикодискурсивного, рационального и эмпирического, искусственного и естественного в контексте анализа вопросов природы, или, что то же самое, происхождения и сущности рефлексирующего мышления (Столярова, 2022). В силу непосредственности идеального отражения реальности перцептивные структуры сознания, интуиции, здравого смысла и лексико-грамматические ресурсы естественного языка не содержат условий для актуализации техник рефлексирующей способности мышления. Она служит выражением актов самосознания, не имея дела с самими предметами, но являясь репрезентирует отношения представлений к способностям познания (Кант, 2024). Рефлексия как движущая сила развития духа и форма его саморазвертывания (Гегель, 2007), как универсальный метод философского мышления (Гуссерль, 2004) составляет радикальную оппозицию чувственно-конкретным ассоциациям обыденного сознания и интуициям здравого смысла. Наряду с этим существует обширная аргументация в пользу реальности достаточно органичных связей между рефлексивными и нерефлексивными слоями сознания. В частности, с исторической точки зрения эти связи образуются под влиянием процессов становления самосознания в результате смещения гносеологических акцентов с объекта на субъект.
Исходя из обширного массива материалов историко-философских и современных научных исследований, можно признать вполне обоснованным вывод, что формирование рефлексирующей способности сознания, ее самоопределение в структурах опыта повседневности являются выражениями, своего рода эпифеноменами, более глубинных процессов актуализации противоположности «естественно возникших» и «искусственно созданных» видов социокультурного творчества.
Уже в античности природа («фюсис») рассматривалась с точки зрения естественности происхождения и противопоставлялась миру «искусственного» как созданного человеческой деятельностью («технэ»). Отсюда берет начало устойчивая, сохранившаяся до первой половины XVI столетия традиция строгого разграничения науки и механических искусств - физики и механики. Физика - это наука о вещах, существующих сами по себе. Механика же рассматривается как искусство изобретения машин с целью «перехитрить» природу посредством уловок, обманных манипуляций и т.д. Различение науки и «технэ» уже у Платона приобретает вид радикального противопоставления теории и практики, чувственно-конкретного и умозрительного знания, опыта повседневности и продуктов рефлексирующего мышления. Философ категорически возражал против попыток использования механики в математике, считая, например, что Архит и Евдокс, поступая так, создают непреодолимые препятствия на путях истинно научного исследования, подменяя выражающее его сущность умозрительное (метафизика) наглядно-чувственным видением объекта. Тем самым познание как процесс мысленного конструирования реальности приобретает вид более или менее детального описания ее феноменологической диалектики и за пределами его досягаемости остаются вопросы субстанциальных оснований бытия (Платон, 2021). Лишь около двух тысячелетий спустя, в ходе первой научной революции и укрепления позиций экспериментального метода, будет признано, что «у механики нет правил, которые не принадлежали бы физике (частью или видом которой механика является); поэтому все искусственные предметы есть вместе с тем предметы естественные» (Декарт, 1950: 540).
Выдвинутые основателями нововременной науки идеи тождества естественного и искусственного обозначают поворотный пункт в истории не только философии и науки, но и европейского человечества в целом. Превращение искусственного в естественное полностью не отменило традицию учета различий между ними в форме, например, выделения и противопоставления двух сфер в жизни общества: культуры (естественное) и цивилизации (искусственное), но ознаменовалось вместе с тем распространением убеждений, что статусом несравнимо более высокой степени подлинности существования обладают отнюдь не предметы данных чувственного восприятия, а те. которые зафиксированы в терминах математики и математического естествознания и подтверждены кажущимися объективными результатами искусных опытно-экспериментальных манипуляций («Галилеевская наука»). Этим, на первый взгляд, социально практически совершенно нейтральным актом, далеким от процессов смены онтолого-эпистемологических акцентов, обозначено начало становления и укрепления позиций методологического конструктивизма в системе познавательных средств экспериментирующего естествознания. Реализованный в нем синтез непосредственнопрактических искусств античности, «технэ» и логико-методологического «арсенала» классической метафизики (науки) послужил непосредственной предпосылкой становления не только новой науки, но и ее последующих трансформаций в направлении превращения в «технонауку».
Основные компоненты когнитивной активности обыденного сознания самоопределяются в структурах духовного опыта и противопоставляются «неповседневности» в результате изменений жизненных практик людей под влиянием развития производительных сил. Исследования проблемы связей непосредственного производителя со средствами, орудиями производства свидетельствуют об их зависимости от различий между «естественно возникшими орудиями» и «орудиями, созданными цивилизацией». Использование первых, находимых непосредственно в природе, определяет зависимость образа жизни людей от окружающей среды. На почве использования орудий, «созданных цивилизацией», то есть изобретенных людьми, поведение индивидов подчинено средствам труда и его продуктами.
Производство жизни естественными орудиями порождает сообщества, члены которых объединены не системой «личных отношений», а средствами орудий, созданных цивилизацией, «вещными отношениями», выражающимися в деньгах и опосредованном политико-экономическом принуждении к труду. Нельзя не согласиться с тем, что люди, включенные в стихию денег как специфическую форму социальной коммуникации, утрачивают ранее свойственные им личностные качества и, лишенные какого-либо жизненно-практического содержания, превращаются в «абстрактных индивидов» (Маркс, 2024). Их социальным объединениям исторически предшествуют и претерпевают с ними параллельную и сопряженную эволюцию так называемые «естественные» человеческие сообщества, основанные на отношениях кровного родства (Маркс, 2024), что имеет более важное жизненно-практическое значение, чем какой-либо способ производства.
Факты реальности «естественных» и «искусственно созданных» (социальных) человеческих сообществ свидетельствуют о том, что различия между ними не могут не затрагивать также те или иные аспекты сознания, познания и жизненно-практического опыта.
Оппозиция когнитивных практик и онтолого-эпистемологических стратегий научной рациональности достигает едва ли не предельных значений актуализации в контексте их ценностно-целевых установок. Если опыт повседневности представлен аксиологически осмысленными утверждениями обыденного сознания и здравого смысла, то математика и математическое естествознание, а также современная технонаука не содержат «каких-либо рекомендаций об антропологических и культурно-цивилизационных последствиях применения собственных достижений» (Фейнман и др., 1965). Вытекающая отсюда возможность их использования в индивидуальных и групповых интересах обусловливает острую необходимость опереться на аксиологически осмысленные, подтверждённые интуициями обыденного сознания и перцептивным опытом положения здравого смысла. Несмотря на противоречивость и объективную сложность задач истолкования продуктов концептуальной и опытно-экспериментальной активности научной рациональности в терминах опыта повседневности, в направлении их разрешения уже сделаны первые шаги. Речь идет о результатах разработки и включения в научный обиход концепций «интеллектуальной традиции», «жизненного мира», «языковых игр», «техник выражения предметности в актах сознания», «сверхрационализма» и др., открывающих реальную перспективу преодоления кризисных явлений в развитии европейских наук, проистекающих из аксиологической нейтральности их метода.
В частности, выдвинутая Э. Гуссерлем идея жизненного мира в сочетании с детально разработанной системой средств феноменологической аналитики, демонстрирует высокую эвристическую ценность не только для уяснения онтологического смысла структур рефлексирующего мышления, но и для формирования аутентичных представлений о природе научной рациональности, а значит, и европейской культуры (Гуссерль, 2004).
Ведь рационализм в редакции Э. Гуссерля отнюдь не сводится к общеизвестному направлению в философии, составляющему традиционную оппозицию эмпиризму. Он рассматривается ученым как выражение основополагающих установок социокультурного творчества, предполагающего разумность созданного деятельностью общественного человека миропорядка. Поэтому и кризис европейских наук понимается как один из аспектов упадка европейской рациональной культуры, что, однако, не означает распада рационализма. Действительной причиной кризиса является не рационализм, взятый сам по себе, а процессы его опредмечивания и превращения в натурализм и объективизм. Именно они не допускают возможности учета субъективности как фактора конституирования объекта, а потому оказываются чреватыми последствиями онтологизации абстракций, подменой истинной реальности естественнонаучной картиной мира. Сформированная из продуктов онтологизации научных абстракций, эта «картина» объективируется и начинает рассматриваться в качестве исходной предпосылки познания, хотя в действительности представляет собой его результат. Из такого понимания сути дела вытекает обоснованное в немецкой классической философии, материалистически переосмысленное в марксизме и энергично поддержанное Э. Гуссерлем требование преодоления натурализма на путях систематического распредмечивания объективированного наукой содержания. И если Г. Гегель усматривал такую возможность в тотальном синтезе абсолютного духа (Гегель, 2007), а К. Маркс – в изучении механизмов общественно-исторической практики (Маркс, 2024), то Э. Гуссерль связывал ее с опытом сведения объективированной предметности к конституирующей активности трансцендентального субъекта средствами феноменологического метода (Гуссерль, 2004). Но в отличие, скажем, от К. Маркса, эта задача и формулируется, и рассматривается отнюдь не как практико-теоретическая, а как всецело идейно-теоретическая, разрешаемая благодаря «героизму разума». С этой точки зрения прояснение истинного смысла самой идеи науки как выражение наиболее значимых достижений рефлексирующего мышления в европейской культуре должно опираться на систему специально разработанной трансцендентальной логики как субъективного представления всех объективированных «фигур» «логического опыта». Наряду с такими разделами, как «морфология суждений», «универсальная математика» и др., феноменологическая версия трансцендентальной логики включает и «формальную онтологию» как априорную науку о объекте вообще. Следует особо подчеркнуть, что концепция «интенционального опыта» предполагает неразличимость в его составе «логических сущностей» и «чувственной материи». А это означает, что обыденный опыт и жизненный мир тождественны по своему содержанию и представляют собой «универсум обозначений, смысловую сеть, которую мы должны проинтерпретировать и мир смысловых связей, которые мы устанавливаем посредством нашего действия в этом мире» (Шюц, 1988).
Структуры жизненного мира априорны и универсальны, они принадлежат к числу феноменов донаучной жизни и составляют основу «всякой теоретической и внетеоретической практики … всякой действительной возможной практики как горизонт» (Гуссерль, 2004). Понятие горизонта приобретает у Э. Гуссерля не менее существенное значение, чем в «Критике чистого разума» И. Канта (Кант, 2024). Им он, как известно, обозначает отношение «целокупности знания к интересу разума», подчёркивая тем самым принципиальную важность факторов дологической, социально-практической детерминации процессов познания, а значит, и их онтологизации, столь недостающей всем историческим и современным разновидностям трансцендентализма (Кант, 2024).
Как и опыт повседневности, жизненный мир и его когнитивные практики принадлежат к числу важнейших структур сознания, порождающих многообразие научных, философских, художественно-эстетических и других знаний. Несмотря на существенные эпистемологические различия, все они, подобно образованиям жизненного мира, являются предметным выражением соответствующих интенций сознания. Объекты феноменологии, или интенциональные объекты, конституируются как тотальность их логико-грамматических, чувственно-наглядных и рационально-теоретических репрезентаций. Так, посредством интуиций чувственного созерцания и воображения формируется эмпирическая компонента интенционального объекта. Категориальная интуиция и идеи-рующая абстракция определяют его рационально-теоретическое содержание, а сигнитивные акты дают ему имя и понятие. Сопряженность действия чувственной и логико-дискурсивной составляющих в процессах конституирования интенционального объекта коррелятивна свойственному опыту повседневности механизму рационализации, обеспечивающему возможность не только эмпирической обоснованности и теоретической аутентичности, но и аксиологической осмысленности продуктов рефлексирующего мышления. Острая потребность их приведения в соответствие с истиной, ценностями человеческой жизни и культуры продиктована фактами все возрастающей антропологической агрессивности современных достижений научного и технического прогресса (Балахонский и др., 2017: 203–206). Однако неудачной оказалась предпринятая неопозитивизмом попытка элиминации «метафизики» на путях моделирования языка науки средствами логико-семантического анализа, опираясь на системы специально разработанных искусственных языков. Неутешительными выглядели и опыты истолкования языка науки, опираясь на лингвистические ресурсы естественной повседневности. Дело в том, что программа логического эмпиризма основывалась на убеждении, что язык может быть «правильным» и «неправильным». С этой точки зрения его естественная форма расценивалась как содержащая множество логически некорректных предложений, лишь обличенных в принятые грамматические формы, в то время как «правильный» язык должен отвечать требованиям логики, учитывать различия аналитических и синтетических суждений, а также согласовываться с нормами верификационной теории значения.
В «Философских исследованиях» Л. Витгенштейн приходит к заключению, что неопозитивистская программа моделирования «правильного», логически безукоризненного, идеального языка предполагает необходимость подчинения фактологического материала многочисленным допущениям логико-методологического характера, проистекающим из потребностей формальнологического конструирования (Витгенштейн, 2010). В противоположность ранее принятой концепции логицизма, исследователь отмечает, что нет достаточных оснований для признания первичности логики по отношению к языку. Более того, он утверждает, что именно естественный язык, язык повседневности служит источником и задает нормативную базу для форм логической упорядоченности смысла языковых выражений. Множественность значений терминов и грамматических конструкций, зависимость содержания выражений от различий соответствующих контекстов, отсутствие согласованности правил с требованиями логической строгости расцениваются Л. Витгенштейном отнюдь не как недостаток, а напротив, как свидетельство изначальной вариабельности естественного языка. Поэтому речь должна идти не о «неправильности» его, а об ошибочности попыток навязать ему некую универсальную логику в виде, например, формальной системы Principia Mathematica. В действительности «лингвистическая реальность» подчинена многообразию правил «языковых игр», в число которых входят формально-логические и логико-математические исчисления логицизма и логического эмпиризма (Витгенштейн, 2010).
Что же подразумевается под языковой игрой как формой упорядоченности смысла выражений и структурной организации «лингвистической реальности»? Речь идет об уподоблении языка закрытой системе лингвистических практик, исключающих возможность соотнесенности с какими-либо внеположенными субъекту объектами. Более того, рассматривая лингвистическую реальность как множество независимых языковых игр, каждая из которых реализуется на основе собственных, свойственных только ей правил, Л. Витгенштейн уподобляет их нормам логически корректного рассуждения. Каждый его шаг отождествляется с ходом в игре, а значение – с функциями (Витгенштейн, 2010).
Между языком и логикой устанавливаются отношения изоморфизма: законы логики уподобляются правилам конкретной игры. Таким образом, данная концепция становится исходным пунктом построения новой, так называемой диспозициональной теории значения, составляющей радикальную оппозицию его истолкованию в логическом эмпиризме.
Считая, что установление истинностных значений языковых выражений находится за пределами досягаемости системы средств формально-логической аналитики, и следуя традициям эмпи- ризма, Л. Витгенштейн обосновывает идею «фактического употребления слов», апеллируя к «доказательству от парадигмы». Согласно этой формуле, установление значений языковых выражений достигается средствами их лингвистического анализа, понятого как процедура установления фактического употребления слов использующим их соответствующим репрезентативным сообществом (Витгенштейн, 2010). Концепция языковых игр, хотя и ограничена описанием структур лингвистической реальности и процессов словесно-терминологического поведения научного сообщества, тем не менее эпистемологически продуктивна в истолковании образований опыта повседневности и научной рациональности с одной из мало изученных сторон, а именно, с точки зрения природы и единства языковых средств, в которые они облечены. Несмотря на образцовую последовательность в проведении принципа эмпиризма (Витгенштейн, 2010), процедуры лингвистического анализа могут рассматриваться как взаимодополнительные с феноменологической доктриной техник выражения предметности в актах сознания. Рационализм феноменологии («сверхрационализм») предполагает преодоление традиционной оппозиции с эмпиризмом, элементов логико-дискурсивного и наглядно-чувственного восприятия в составе «интенционального опыта», очевидно, в пользу коррелятивного опыта повседневности и имманентного ему способа рационализации.
Задачи аксиологической осмысленности успехов рефлексирующего мышления, выдвинутые в развитии научной рациональности, представляются лишь по видимости неразрешимыми. Их строгая постановка и систематическое исследование в контексте анализа вопросов «искусственного и естественного», опыта повседневности «жизненного мира», техник выражения предметности в актах сознания и «языковых игр» открывают реальную перспективу уяснения антропологического и социального смысла теоретических и опытно-экспериментальных изобретений «абстрактного индивида».
Список литературы Опыт повседневности и проблема онтолого-эпистемологического статуса структур научной рациональности
- Балахонский В.В., Бахтин М.В., Стрельченко В.И. Модели и философско- эпистемологические репрезентации истории. М., 2017. 373 с.
- Витгенштейн Л. Философские исследования. М., 2010. 347 с.
- Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М., 2007. 876 с.
- Гейзенберг В. Физика и философия. М., 1963. 293 с.
- Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб., 2004. 398 с.
- Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950. 712 с.
- Дюгем П. Физическая теория: ее цель и строение. СПб., 1910. 326 с.
- Кант И. Критика чистого разума. М., 2024. 672 с.
- Маркс К. Капитал. М., 2024. 272 с.
- Платон. Государство. М., 2021. 448 с.
- Столярова О.Е. Кто исследует исследования науки и техники? О природе рефлексивности с эмпирической и теоретической точек зрения // Эпистемология и философия науки. 2022. Т. 59, № 4. С. 21–30. https://doi.org/10.5840/eps202259453.
- Стрельченко В.И. К проблеме идентификации истинностных значений // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2015. № 175. С. 105–115.
- Фейерабенд П. Галилей и тирания истины // Кентавр: методологический и игротехнический альманах. 1998. № 19. С. 26–33.
- Фейнман Р., Лейтон Р., Сэнлс М. Фейнмановские лекции по физике: в 9 томах. М., 1965. Т. 1. 267 с.
- Хайдеггер М. Основные понятия метафизики: мир – конечность – одиночество. СПб., 2013. 590 с.
- Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические исследования. 1988. № 2. С. 129–137.