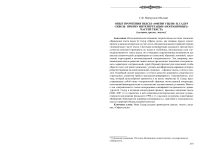Опыт прочтения пьесы "Офени ушли" Н. Садур сквозь призму интерпретации "пограничных" частей текста (заглавие, пролог, эпилог)
Автор: Меркушов Станислав Фдорович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (59), 2021 года.
Бесплатный доступ
Исследовательское внимание сосредоточено на таких элементах обрамления текста пьесы Н. Садур «Офени ушли», как заглавие, пролог, эпилог, причем в данном конкретном случае для их обозначения вводится рабочий термин «пограничные» части текста. Системная интерпретация указанного трехчастного сегмента позволяет проникнуть не только в глубинные, имплицитные слои «непосредственного» текста пьесы, но и открывает перспективные возможности для анализа семантической детерминации его сюжетной, образной, мотивной, лексической, структурной и метатекстуальной «пограничности». Так, например, инициационная модель развития сюжета пьесы предполагает появление «экстремальных» характеров: «пограничный» герой (Герман) проходит ряд испытаний, чтобы обрести силы для нового рождения, условно-метафорическая вариация которого репрезентирована на композиционной «границе» - в финале пьесы, а затем в эпилоге. Подобный способ трактовки с учетом в качестве доминанты семантики его структурных элементов требует междисциплинарнарного, «пограничного», подхода, который целесообразно применять и ко всему творчеству Н. Садур, представляющему собой также «пограничный» феномен отечественной литературы, сочетающий авангардистские и классические художественные установки. Вместе с тем «пограничность» пьесы опосредована спецификой «встроенности» драматургии Н. Садур в историко-литературный процесс, временем написания пьесы (2003-2007 гг.) и принятым в ней символико-аллегорическим методом художественного воплощения реальности 1990-х гг. с выходом на уровень планетарных обобщений. Наблюдается жанровая соизмеримость с трагедией и «вписанность» пьесы в широкий общекультурный контекст.
Нина садур, русская драматургия, пролог, эпилог, заглавие, Офени ушли
Короткий адрес: https://sciup.org/149139262
IDR: 149139262 | DOI: 10.54770/20729316_2021_4_275
Текст научной статьи Опыт прочтения пьесы "Офени ушли" Н. Садур сквозь призму интерпретации "пограничных" частей текста (заглавие, пролог, эпилог)
Сопредельные основному художественному тексту (в нашем случае драматургическому) элементы традиционно рассматриваются в терминологической парадигме паратекста, являющегося общим понятием в кругу более узких: рамки, списка действующих лиц, ремарки и т.п. Структурирующая, смысло- и сюжетообразующая роль паратекста в драматургии подтверждена в исследованиях Ж. Женетта [Женетт 1998], П. Пави [Пави 1991], Н.И. Ищук-Фадеевой [Ищук-Фадеева 2001], С.О. Носова [Носов 2010] и др. Разработана теория паратекста, хотя до сих пор вопрос о его компонентах полемичен и дискурсивен [Титова 2019, 30]. В том числе по этой причине в данном исследовании наряду с закрепленными в литературоведении дефинициями мы используем более предпочтительный в контексте анализа пьесы «Офени ушли» Н. Садур конструкт «пограничные
части текста». Обоснованность интерпретации драматургического текста Н. Садур как такового во многом зависит от выбранного угла зрения, под которым анализируются его «пограничные» части. Благодаря их функционированию в текстуальном пространстве формируется семантический абрис той или иной пьесы и репрезентируются некоторые общие критерии поэтики автора. Заглавие, пролог и эпилог в «Офени ушли» могут рассматриваться как своего рода зеркальные смыслопорождающие «порталы», формирующие кольцевую сюжетную композицию пьесы. Подобный вариант функционирования обрамления частотен в творчестве Н. Садур, что способствует его изучению в русле неклассической эстетики.
Очевидная формальная связь драматургии Н. Садур с авангардом обсуждалась неоднократно. О.Н. Зырянова, к примеру, обусловливает ее спецификой фазисного развития русской литературы, причисляя творчество Н. Садур 1990-х гг. к постмодернистскому абсурду [Зырянова 2010, 13-16]. М. Липовецкий и Б. Боймере называют драматические произведения Н. Садур среди текстуальных предтеч «новой драмы» [Липовецкий, Боймере 2012, 55]. С другой стороны, творчеству Н. Садур свойствен выявленный А. Кобринским «тип причинности» ОБЭРИУтов (художественный синтез классического и инверсивного) [Кобринский 1999, 134-170]. Такая невозможность четкой дифференциации внутри одного течения произведений исследуемого автора позволяет говорить не только об их «пограничном» характере, но и причислять их к подлинной литературе, которая, как известно, вне рамок. Вместе с тем драматургическое творчество Н. Садур, наряду с тенденцией занесения его в контекст авангарда в разных проявлениях, можно позиционировать как вполне отвечающее классическим стандартам. А все это в совокупности снова накладывает на него отпечаток некой «рубежности» и, в частности, реализуется в драматических текстах - сюжетных переложениях произведений русской и зарубежной литературы («Брат Чичиков», «Панночка», «Памяти Печорина», «Влюбленный дьявол», «Фалалей», «Смертники» и др.). И в них, и в пьесах с полностью оригинальным сюжетом «ремарочная часть становится полноправным нарративным текстом» [Семеницкая 2007, 8] с сохранением своего рецепционно-коммуникационного значения, свойственного античной, ренессансной и просветительской драме.
Гипотетически «пограничный» сектор призван логизировать «непосредственный» текст пьесы «Офени ушли», поскольку заглавие, пролог и эпилог принято считать сегодня пространством манифестации авторской интенции [Титова 2019, 30]. Действительно, во всех трех указанных сферах текста содержатся ключи к его пониманию, которые тщательно скрыты автором, избирающим, что характерно, условно-метафорическую репрезентативность.
В прологе присутствуют устойчивые «культурные семы» [Маслова 2001, 48] зимы и метели. С одной стороны, они воспринимаются как конкретные культурно-исторические метафоры (зима и метель со свойственными русской классической литературе инфернально-онтологическими коннотациями бесовского кружения и фатума). С другой, приобретают планетарный, космический масштаб переносного значения (корреляции зимы / метели и эсхатологических / хаотических ожиданий).
Образ мальчика кроме прочего конструирован с помощью идейносемантических и нумерологических маркеров как «гармонически / созидательно» атрибутированный дурной творец дурного мира повторений («Мальчик лет 8 в нарядном костюмчике 60-х годов» [Садур 2015, 114] -цифры 8 и б как знаки вечности, возрождения и полноты). Перед нами неумелый автор / творец (ребенок / мальчик), бессознательно, сумбурно и безуспешно пытающийся регулировать энтропию / хаос (праздник / метель): «Мальчик спрыгнул со стула и убежал. Метель осталась одна» [Садур 2015, 115]. Мальчик-демиург не в состоянии осознать своих действий: традиционный уклад русской жизни / культуры, характерный для XIX в., предстает в мрачных и тусклых тонах («<.. .> вьюга злилась? / На мутном небе мгла носилась. <.. .>» [Садур 2015, 115]), сменяется тоталитарной организацией мира / текста, базирующейся на оппозиционных началах («А из нашего окна Площадь Красная видна! А из вашего окошка - только улицу немножко!» [Садур 2015, 115] (курсив наш - СЛ/.)) и в итоге в очередной раз принимает совершенно безумные конфигурации, справиться с которыми можно только деструктивно («Вот опять повсюду карлики! Карлики вылезают, плохие! <...> Убей карликов!» [Садур 2015, 115] (курсив наш - СЛ/.)).
Справедливо в прологе видеть и реализацию развернутой метафоры о преемственности - «карлики на плечах гигантов», ведущей свою историю от эпохи Средневековья и ретранслируемой в текст пьесы:
ЗИНА. Наше Дракино низенькое, Тит Германович. Ты поверх нас смотри.
ЗИНА. Через нас смотри в даль. Мы пригнемся. <...>
ТИТОВ. Почему я временами гном? Карлообразный. Хоть и богатый. Я все книжки прочитал опаленные. Одно и то же - все ищут простора. А сами - гномы.
[Садур 2015, 129-130].
«Офени» в пьесе - в некотором роде персонификация хранителей русской традиционной культуры, те самые «гиганты». С их «уходом» возникает брешь в храме отечественной культуры, которую силятся «заделать» «карлики» от искусства.
После описания персонажей следует ремарка с указанием времени действия - «Наши дни» [Садур 2015, 114]. Безусловно, в прологе переданы эсхатологическая атмосфера и рефлексия рубежа веков: пьеса написана в 2003-2007 гг., вслед ушедшей эпохе 1990-х гг. с ее поисками новых форм реальности и ощущением распада связи времен. Но, как мы увидели, там воссоздана трансцендентальная картина вечного пребывания мира в его надтреснутости и культуры в ее надломленности. Для детализации этой картины используются маркеры повторяемости («Вот опять повсюду

карлики!» [Садур 2015, 115] (курсив наш - СЛ/.)); демонстрации «предночного» часа вселенной (обращение к «вечору» при чтении стиха: «МАЛЬЧИК. (Обращаясь к “Вечору”») [Садур 2015, 115]) и т.п. Последовательность и частотность применения знаков хроноса повсюду в пьесе парадоксально обнаруживают собственную факультативность и вместе с тем обязательность, актуализируя фактор условности времени и эксплицируя вневременность происходящего («наши дни» в прологе как указание на то, что все имеет место быть всегда). В пьесе аспект онтологического понимания времени объективирован в образе Андрейки, забывшем свой возраст, но живущем будто бы в бесконечности: «У царя, помню, у Николая Второго - вот такие усы! Или у Первого? Который глазастый еще был? <...> Ври, Андрейка, ты столько не живешь! <...> Живу» [Садур 2015, 129-130].
Итак, прежде всего отыскивается эффективная семиотическая альтернатива: пролог становится знаковым полем, где содержатся источники мотивов и образов, получающих дальнейшую рефлексию и образующих своего рода паттерны пьесы. Так, прослеживается связь образов «мальчика лет 8» [Садур 2015, 114] и Германа Титова через мотивы чтения, книг и огня. Первый читает стихотворение «большому жаркому празднику» [Садур 2015, 114], хаотизирует пространство и открывает ящик Пандоры с карликами, затем зовет на помощь отца; второй также вносит дисбаланс в жизнь деревенских, часто отождествляет себя с «гномом карловидным» [Садур 2015, 128], постоянно акцентируя внимание на отце; один из первых и центральных монологов Германа посвящен сжиганию, вынесению из огня и чтению книг.
Заглавие пьесы, рассматриваемое нами сквозь призму укоренившейся в литературоведении терминологии «свернутого текста и его сильной позиции» [Арнольд 1978, 23-31], представлено глагольной конструкцией, имеющей общее значение направления движения, хотя конечный пункт движения не определен. Во-первых, перед нами множественное число субъекта действия - «офени» - одна из номинаций торговцев-разносчиков, чья деятельность осуществлялась на пространстве Российской империи, но свое происхождение они вели из Владимирской губернии. Скорее, здесь более всего выражена семантическая соотнесенность словоформ «офеня» и «феня», тогда как аспект смысловой корреляции с происхождением самих обозначаемых так людей практически редуцирован. Имеется в виду не единожды отмеченная исследователями историко-культурологическая, а также лексикологическая, связь офеней и уголовной среды: вторая до некоторой степени восприняла у первых их тайный язык [Трохимовский 1866, 559-593]. Хотя в пьесе не используется лексика, которая могла бы напоминать «феню», все-таки во многом «сокровенный» язык применяется, часто смысл диалогов приходится дешифровывать. Это характерно и для других пьес: Н. Садур магически работает со словарем, подобно А. Введенскому конструируя иероглифику лексических форм, когда лексема в том или ином контексте приобретает особое семантическое напол- нение, главным образом сочетающееся со значением концептов «время», «бог», «смерть» [Герасимова 2013, 9] («Я уже снова заговорил, а он - бродит. Эхо. Оно не понимает, что существует время и воля пославшего его. Оно думает - оно мой голос. А я давно уже отрекся от него. Я уже изменился. Постарел. Я уже даже уснул. Все. Сплю. Эхо - ты осталось совсем одно <...>» [Садур 2015, 145]). Возможно, выбор заглавия инициирован еще и тем, чтобы вновь указать на эту общую преемственность тайного и криминального посредством акцентирования генетического аспекта: во Владимирской земле находится центральная тюрьма для особо опасных преступников.
Если мы обратимся к книге А. Андреева (Шевцова) «Мир Тропы. Очерки русской этнопсихологии» [Андреев 2006], то увидим еще один потенциальный вариант толкования слова «офени», значимый в рассматриваемом контексте. Автор последовательно проводит мысль о серьезной духовной и мистической основе института офеней, практически соответствовавшего «малым этническим и вероисповедальным сообществам» [Андреев 2006, 3] с собственной ритуаликой, но исчезнувшего с развитием капиталистического производства. Офени, как доказывает А. Андреев, активно занимались трансцендентным поиском ответа на бытийные и аксиологические вопросы, через постановку которых в человеке проявляется Дух: «Кто я? Откуда я пришел и куда должен уйти?» [Андреев 2006, 62] (курсив наш - С.М.\ Так что в заголовке пьесы уйти - значит не просто покинуть какое-то место, даже не удалиться навсегда, оставить этот мир. Здесь может быть принципиальнее недосказанность, выраженная в пропуске экспликации «пункта назначения». Вероятно, офени сильнее обычных людей осознавали неизбежный финальный факт ухода / перехода в инобытие (те. вместе с тем факт продолжения пути). С подобными суждениями соотносится сюжетная канва пьесы. Один из вариантов интерпретации таков: в «непосредственном» тексте репрезентирована посмертная / сновиденческая / галлюцинаторная реальность, в которую попадает осевой персонаж Герман Титов (точнее, его душа / астральное тело). Это подтверждается разнообразными примерами семиосферы пьесы: тело Титова в эпилоге; погребальный «антураж» возникновения Титова в деревне; многозначная условность топоса и образной системы в целом; девятикартинная / девятидневная структура, развивающая идею о мытарствах души после смерти, - пьеса как своеобразная «книга мертвых», и проч. В тексте проступает символическая экзистенциальная картина постперестроечного периода, что уточняется, в частности, введением ассоциируемой с Германом «бизнес»-атрибуции, а это, в свою очередь, увязывается с упомянутой исторической подоплекой «ухода» офеней (нарождение капиталистической формации). Одна из примет реальности «новой России» 1990-х гг. претворяется в мотиве притязания Титова на дом «деревенских». Желание его уничтожить аллегорически может соотноситься с «философскими» принципами офеней, которые «считали, что мы не в себе, не хозяева в собственном доме <...>» [Андреев 2006, 64]. Но именно офени вызывают к

жизни новое купеческое сословие: пьеса кульминируется изображением мистического действа, спровоцированного раскаянием Германа и связанного с его новым рождением в посмертии / смертью в реальности.
Эпилог в отдельных чертах зеркален прологу и в нем перекодируются некоторые образы пьесы. Атмосфера действия теперь как будто приближена к XXI столетию, но внимание читателя снова сосредоточено на зиме и метели. Зарисовка с трупом Германа Титова в позе эмбриона на скамейке отсылает не просто к резонному в свете прочитанного объяснению тождественности сна / смерти и рождения, но и к более изобретательному. Ставшая в данной вселенной фельдшером Елена Николаевна слышит последнюю фразу Титова: «Если нажать на грудину, последний воздух выходит из легких и слова получаются. <.. .> Он сказал, что офени ушли» [Садур 2015, 165, 164]. Наблюдаем очередной аспект взаимосвязи с рецепцией организации офеней, консолидирующей в себе тайное знание: «Исходя из того, что тело - створожившееся сознание, офени сделали вывод, что звук издается не голосом или веществом, а сознанием, пусть створожившимся. Следовательно, можно заставить звучать любое сознание, используя для этого легкие. <.. .> умение умирать светло было одним из вершинных искусств жреческой науки, сохраненной скоморохами и офенями» [Андреев 2006, 6].
Разнообразно развертывается «пушкинская» тема в пьесе: начиная с декламации «версии» стихотворения «Зимнее утро» в прологе и заканчивая кульминационным решением с «Пушкиным», встречу с которым вспоминает Андрейка. Проникающая в текст «идея Пушкина» обнаруживается в узловых сюжетных моментах, часто концентрируется в образах и семантически связывается с «идеей Некрасова». Приведем пример антропонимических аналогий, отсылающих к романтической проблематике и мотивам фортуны, характерным для произведений обоих классиков: антропонимы персонажей «Пиковой дамы» А.С. Пушкина (Германн) и «Коробейников» Н.А. Некрасова (Тит) соединяются у Н. Садур в имени и фамилии Германа Титова, неоднократно трансформируемых как остальными действующими лицами, так и самим автором (то «ТИТОВ.», то «ГЕРМАН.» перед текстом реплики; «Герман Титович», «Тит Германович» в речи Зины и т.п.). За счет всего этого репрезентирована метафизика личности Германа и обозначена «пограничная» организация образной структуры пьесы. Синхронность «функционирования» сразу в двух и/или нескольких ролях с разными именами и в разных обличиях позволяет говорить о таком свойстве персонажей Н. Садур, как «симультанность», что наблюдается далеко не только в «Офени ушли». Например, в пьесе «Чардым» уже в представлении состава действующих лиц отображена эта тенденция: «Анна Иванова (она же Рысь, Старуха, Девочка 5 лет)» [Садур 2015, 277]. В том числе поэтому и актуализирована определенная генетическая связь литературных персонажей, обусловливающая общие рубежность и преемственность, формально-содержательное сближение творчества авторов XIX и XX XXI вв.
Отметим здесь же закономерность опосредующих космическую тему пьесы ассоциаций героя с советским космонавтом, вторым человеком в космосе Германом Титовым. Монологи Титова-персонажа нередко выстроены как воспоминания об умершем отце - сотруднике КГБ. Текст-монолог пятой картины - об урне с прахом отца, которая ждет «запуска в космос» - можно интерпретировать как девальвированную в устах Германа модель идей основоположника русского космизма Н. Фёдорова о бессмертии, воскрешении отцов и освоении ими околоземного пространства. Речь Германа, во многом пародийная вследствие нарочитой возвышенности и квиетизма, тяготеет к монологической и способствует его рецепции как трагического персонажа. О связях монологической формы речи и жанровой формы трагедии писал В.И. Тюпа: «Диалог в трагедии остается внешне-композиционной формой; стилистика этого жанра, сосредоточенного на проблеме отъединенности “одного” от “всех”, принципиально мо-нологична. Прозаическое слово, чреватое стилевым разноречием, чуждо трагедии» [Тюпа 2011, 186]. «Трагедийность» в пьесе Н. Садур, возможно, достаточно карикатурна, несмотря на присутствие базисного для трагедии внешнего признака конфликта - смерти главного героя, однако исследование явной жанровой сопряженности (через персонажа и его речевые особенности) рассматриваемой пьесы с трагедией могло бы войти в круг задач другой работы.
Обобщим сказанное. Использование в заглавии пьесы слова «офени», менее распространенного, чем «коробейники», отсылает не столько к его трафаретному значению «бродячие торговцы», сколько к онтологическому пониманию - «носители сокровенного знания». Маркируется некая идея времени и мира, иллюстрирующая космологическую циклическую воспроизводимость. Сюда включаются все онтологические и экзистенциальные аспекты, начиная с культуры и заканчивая материальным бытом. Вероятно, общая сменяемость и повторяемость зависит от так называемого прихода и ухода офеней, что выводит ситуации пьесы на универсальный уровень. То, что офени «ушли», трактуется и положительно, и отрицательно, но как безусловный закон вселенной, ведь «исчезновение» может предполагать и «возвращение». Таким образом, перед нами так называемое «кульминационное» заглавие с семантикой «пограничности» - репрезентации пересечения границы.
Диспозиция пролог / эпилог («вход» / «выход») обнаруживает зеркальный модус: генерируется композиция обрамления, благодаря которой иллюстрация мировой цикличности получает внешнюю фиксацию. Пролог / эпилог в целом представляет собой экспликацию творения как минимум трех взаимопроникающих ипостасей вселенной, принимающих вид фантомов, которые практически невозможно соотнести с тем, что принято называть объективной реальностью. Это культурно-исторический, космический (в широком смысле) и текстуальный фантомы. В прологе / эпилоге выражена особая космологическая концепция, во многом репрезентирующая постмодернистское восприятие текста / страны / мироздания как дискретной бесконечно копируемой квазидействительности. Стремление
гармонизировать мир / жизнь посредством привнесения культуры / просвещения / традиционных ценностей, воплощаемое в прологе в условной форме попытки рассказать знаменитое пушкинское стихотворение, оборачивается интенсификацией смятения, прерываемой временным наступлением иллюзорного порядка с соответствующей культурной схемой, чтобы затем превратиться в полнейший хаос с бегством творца. При этом основная содержательная идея пролога может заключаться не только в идентификации «пограничного» этапа развития вселенной / культуры с его естественной цикличностью, но и в тезисе о том, что в хаотических стихиях кроется изначальная причина творчества.
Интерпретация «пограничных» элементов помогает осмыслить основную проблему пьесы «Офени ушли»: проблему соотношения культуры и цивилизации, представляемую в притчевой форме на художественном фоне воспроизводимой «русской», «российской» квазиреальности. Благодаря трактовке семантического ядра пьесы, представленного ее заглавием, прологом и эпилогом, можно выявить ряд художественных закономерностей, структурирующих не только данный текст, но и расширяющих ракурс исследовательских горизонтов внутри творчества Н. Садур как такового. Так, перспективными в плане литературоведческого анализа кажутся повторяющиеся формально-содержательные аспекты заглавий / прологов / эпилогов других пьес, где могут быть пунктирно репрезентированы сюжетные модели «непосредственного» текста, источники реализации механизмов симультанного существования одного и того же персонажа в разных качествах, а также контуры общей идейно-тематической и мотив-ной тенденциозности текста.
Наконец, можно говорить о «пограничности» драматического текста Н. Садур в целом, что подразумевает не просто его существование на стыке авангарда и классики, но уже пребывание на границе объяснимого и необъяснимого.
Список литературы Опыт прочтения пьесы "Офени ушли" Н. Садур сквозь призму интерпретации "пограничных" частей текста (заглавие, пролог, эпилог)
- Андреев А. Мир тропы. Очерки русской этнопсихологии. СПб.: Тропа Тро-янова, 2006. 374 с.
- Арнольд И.В. Значение сильной позиции для интерпретации художественного текста // Иностранные языки в школе. 1978. №4. С. 23-31.
- Герасимова А. Об Александре Введенском // Введенский А. Всё. М.: ОГИ, 2013. С. 7-27.
- Женетт Ж. Фигуры: в 2 т. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. 944 с.
- Зырянова О.Н. Поэтика абсурда в русской драме второй половины XX - начала XXI вв.: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. Красноярск, 2010. 22 с.
- Ищук-Фадеева Н.И. Ремарка как знак театральной системы: К постановке проблемы // Драма и театр: Сборник научных трудов. Вып. 2. Тверь: ТвГУ, 2001. С. 5-16.
- Кобринский А.А. Поэтика «ОБЭРИУ» в контексте русского литературного авангарда ХХ века: дис. ... д. филол. н.: 10.01.01. СПб., 1999. 311 с.
- Липовецкий М., Боймерс Б. Перформансы насилия: Литературные и театральные эксперименты «новой драмы». М.: Новое литературное обозрение, 2012. 376 с.
- Маслова В.А. Лингвокультурология. М.: Академия, 2001. 208 с.
- Носов С.О. Паратекст как средство конструирования художественного пространства в драме: автореф. ... дис. к. филол. н.: 10.01.08. Тверь, 2010. 20 с.
- Пави П. Словарь театра. М.: Прогресс, 1991.480 с.
- Садур Н. Чудная баба. М.: АСТ, 2015. 320 с.
- Семеницкая О.В. Поэтика сюжета в драматургии Нины Садур: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. Самара, 2007. 20 с.
- Титова Е.В. Драматургический паратекст: к постановке проблемы // Вестник РГГУ Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2019. №2. С. 30-40.
- Трохимовский Н. Офени // Русский вестник. 1866. Т. 63. №5-6. С. 559-593.
- Тюпа В.И. Трагедия // Теория литературных жанров / Под ред. Н.Д. Тамарченко. М.: Академия, 2011. С. 176-186.