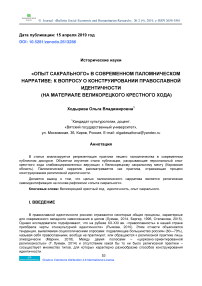«Опыт сакрального» в современном паломническом нарративе: к вопросу о конструировании православной идентичности (на материале великорецкого крестного хода)
Автор: Ходырева Ольга Владимировна
Журнал: Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research @bulletensocial
Статья в выпуске: 2 (4), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется репрезентация практики пешего паломничества в современном публичном дискурсе. Объектом изучения стали публикации, раскрывающие персональный опыт крестного хода слабовоцерковленных верующих к Великорецкому сакральному месту (Кировская область). Паломнический нарратив рассматривается как практика, отражающая процесс конструирования религиозной идентичности. Делается вывод о том, что целью паломнического нарратива является религиозная самоидентификация на основе рефлексии «опыта сакрального».
Великорецкий крестный ход, идентичность, опыт сакрального
Короткий адрес: https://sciup.org/14114685
IDR: 14114685 | DOI: 10.5281/zenodo.2613286
Текст научной статьи «Опыт сакрального» в современном паломническом нарративе: к вопросу о конструировании православной идентичности (на материале великорецкого крестного хода)
В православной идентичности россиян отражаются некоторые общие процессы, характерные для современного западного самосознания в целом (Лукман, 2014, Бергер, 1996, Степанова, 2015). Однако исследователи подчёркивают, что на рубеже XX-XXI вв. «православность» в нашей стране приобрела черты этнокультурной идентичности» (Рыжова, 2010). Этим отчасти объясняется тенденция, выявляемая социологическими опросами: подавляющее большинство россиян (60—70%), называя себя православными, вообще не практикуют, или обращаются к религиозной практике лишь эпизодически (Маркин, 2018). Между двумя полюсами – «церковно-ориентированной религиозностью» (Т. Лукман, 2014) и отсутствием какой бы то ни было религиозной практики – сосуществует множество типов, для которых характерно разнообразие способов конструирования идентичности.
Согласно социально-конструктивистской концепции П. Бергера и Т. Лукмана этот процесс двусторонен. С одной стороны, общество транслирует «истории», формируя специфические идентичности, с другой – эти «истории» репрезентируются людьми, уже наделёнными ими. В сфере формирования религиозного сознания это проявляется в том, как люди рефлексируют, обращаясь не к авторитету традиции, а к собственному опыту. Наиболее ярким примером личного религиозного «опыта прорыва реальности» (Бергер, 1996), доступного всем верующим, стремящимся к его получению, является участие в многодневном крестном ходе как виде пешего паломничества (Житенёв, 2019).
Самым известным и массовым пешим паломничеством современной России является возрожденный в начале 1990-х Великорецкий крестный ход. Если в 1993 г. в путь из г. Кирова в Великорецкое отправилось около 200 человек, то в 2018 – 26 тысяч паломников из разных регионов нашей страны. На протяжении всей современной истории хода в его составе оказывались верующие с низким уровнем воцерковленности, для которых эта практика нередко становилась отправной точкой практического приобщения к православной традиции.
По утверждению теоретиков социально-конструктивистской концепции, включение нового опыта в «жизненный мир» происходит только в процессе непрерывной объективации… возрастающего опыта» посредством языковых практик (Бергер, Лукман, 1995). Подобные практики формируют нарративы, транслирующие персональный опыт участия в крестном ходе. Изучение текстов рядовых участников Великорецкого крестного хода направлено на исследование смысловых значений паломнической практики в жизни слабовоцерковленных верующих (Чеснокова, 2005).
II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Постановка вопроса о том, как процессы конструирования религиозной идентичности проявляются в языковых практиках, направленных на рефлексию паломнического опыта, обусловливает обращение к нарративному подходу (Пузанова, Троцук, 2003) и приёмам «плотного описания». В статье анализируются тексты четырёх публикаций, отвечающих требованию нарративности. Они обладают «информационной значимостью», содержат описание места, времени действия, персонажей, авторское отношение к происходящему (Пузанова, Троцук, 2003). Анализируемые тексты содержат пять инвариантных сюжетов: «духовная подготовка», «экипировка», «описание событий и действующих лиц», «интерпретация происходящего» и «самоанализ».
Тексты представлены в интернет-пространстве, мысль описать личный опыт появилась после возвращения из первого крестного хода. При этом авторы не признают себя глубоко воцерковленными верующими: «… захожане…. Придешь в церковь, подашь записочки, постоишь на службе, прочитаешь вместе со всеми Символ веры и Отче наш, прослушаешь небольшое напутствие священника, постоишь на панихиде и… восвояси. Причем, по ходу службы половину не понимаешь» (Галицына, 2019) .
III. ТЕОРИЯ
О Великорецком крестном ходе авторы, как правило, узнают из светских средств массовой информации и лишь в одном случае от знакомых, более опытных паломников. Метанарратив, транслируемый средствами массовой информации, привлекает в ход новых участников, система ценностей которых уже вписывается в традиционную символическую систему православной традиции. Крестный ход представляется потенциальным паломникам местом, «где тысячи людей веками проходят одной дорогой, находя в этом смысл, средство исцеления и защиты, средство прославления и утверждения православной веры» (Власенко, 2019).
Тем не менее, на этапе подготовки предстоящее пешее паломничество вызывает волнение и рассматривается как «вызов»: «…подступали слабость и страх, и приходилось душить их прямо-таки голыми руками» (Сорокина). Подобные эмоции вызывает не только ощущение неизвестности, но и ситуация смысловой неопределённости . Авторы признаются в «отсутствии рационального объяснения своего поступка» , пытаются аргументировать возникновение потребности совершить пешее паломничество вмешательством «неведомых сил» (Доброва, 2019) или инстинктивным влечением: «…вдруг поняла, что обязательно должна пройти путь вслед за чудотворной иконой Николая» (Галицына, 2019).
Среди рациональных способов объяснения – стремление к духовному росту, который понимается и в категориях светской этики, и как приобщение к конфессиональной практике ( Доброва: «Я возлагала большие надежды на Великорецкий в духовном плане… последние несколько лет стала редко причащаться, рассеянно молиться» ). И, наконец, доля любопытства также является стимулом совершения паломничества к Великорецкому священному месту (Сорокина: это «проект по изучению жизни» ).
Во многих фрагментах текста паломническая практика описывается как процесс поиска индивидуального смысла. Например, авторы пишут: «Я задавалась все время вопросом: почему люди идут в этот крестный ход? … я спрашивала у паломниц: “ЧТО заставляет их идти сюда и в четвертый, и в пятый раз?!”» (Доброва). Показательно, что если высказывания от первого лица составляют 41%, то описания от третьего лица – 25% текстов.
Самая объёмная часть текстового массива посвящена описанию увиденного и услышанного в крестном ходе – познание новой реальности происходит через наблюдение и общение. Закономерно, что описание сопровождается интерпретацией. Изучение посвящённых этому фрагментов нарратива позволило выделить три значения пешего паломничества.
Во-первых, он осмысливается как особая духовная общность, частицей которой новички становятся лишь постепенно. Совместное преодоление трудностей, атмосфера взаимовыручки, сопричастности и доверия сближает участников крестного хода – делает «нас одной силой» (Сорокина). Субъективное ощущение духовной общности рождается в процессе погружения в коммуникативную среду. Также оно обусловливается общей направленностью действия и его цели – «Представьте себе, какую великую силу обретают молитвы, когда одновременно молятся от 30 до 100 тысяч человек» (Галицына). Это маркируется с помощью традиционных понятий: крестный ход – «открытое богослужение» (Сорокина), «непрерывная движущаяся церковь» (Власенко, 2019). В то же время образ духовного единства конкретизируется в субъективных размышлениях о ценностях семьи, родины: «Вспомнилось старинное русское слово лад… Родина моя жива. Люди живы» (Власенко).
Во-вторых, в интерпретации паломнической практики значима тема личного нравственного развития. Пешее паломничество – это путь к развитию «умения любить», «преодолевать себя», «работать на дальнюю перспективу», «просто относиться к трудному» (Сорока). На первый взгляд светские категории нравственности рассматриваются через православное видение духовнонравственного становления человека. В этом видится особое значение крестного хода как «школы молитвы и терпения» (Доброва), «благотворной для грешной души» (Власова).
Всё это подчинено цели обретения подлинного «духовного счастья» через тяжёлые физические нагрузки. Теме физических испытаний посвящён наиболее объёмный массив текста, посвящённый передаче личных ощущений. Усталость, холод, изнеможение, боль, чувство безысходности – всё это для современного горожанина – исключительный «опыт физических испытаний: «…люди спят прямо на земле, под открытым небом, даже без спальников. В 21 веке! … куда же мы приехали, почему нас никто не предупредил, что такое может быть» (Доброва). Через физические страдания происходит переосмысление системы ценностей. Физические страдания признаются необходимыми для «очищения грехов», для того, чтобы «через… телесность» «прийти к себе» (Власова). И, наконец, в третьей интерпретации пешего паломничества оно осмысливается как опыт приобщения к реальности, внеположенной повседневному миру, как «дорога к живой вере» (Сорокина) или «путь… к Богу» (Галицына, 2019).
В некоторых случаях символами этой реальности выступают традиционные священные образы:
«В Крестном ходе… рядом с тобой Господь, Божья Матерь и Святитель Николай, который близок к тебе, как никогда» (Власенко).
С другой стороны, явления сакральной действительности обозначаются с помощью нетрадиционных понятий: «Собеседник» (Власенко), «энергия», «верная сила, которая управляет всем» (Сорокина).
IV. ОБСУЖДЕНИЕ
Концепция П. Бергера о религиозном опыте как разновидности «опыта прорыва реальности» конкретизирует понимание процесса конструирования религиозной идентичности в постсекулярном обществе. По утверждению исследователя, религия «включает в себя набор установок, верований и действий, связанных с двумя типами опыта – опытом сверхъестественного и опытом священного» (Бергер, 1996). Сверхъестественный мир противостоит обыденности, захватывает и делает её малозначимой, категории обыденной реальности «опровергаются, взрываются, снимаются» (Бергер, 1996). Этот опыт проявляется в видениях, переосмыслении категорий пространства, времени, преображении самой личности верующего. В паломничестве опыт сверхъестественного проявляется наиболее ярко. Как писал В. Тёрнер, паломничество, понимаемое как «поиск остатков сакрального», «выводит человека за границы повседневности» (Воронкова, 2013). Так, по мнению авторов текстов, крестный ход подводит «к той границе, где возможно восприятие Слова Божия и вхождение в жизнь более подлинную» (Власенко) – к границе между профанным и сакральным. «Разрыв» между двумя системами координат переживается как постепенно происходящий процесс внутренних, «глубинных» изменений – то экспрессивно переживаемых ( «Подступают слёзы, и… ком в горле» (Власенко)), то выражающихся в ощущении «тепла и защиты, покоя и мира , обозначаемом с помощью понятия «благодать».
В исследованиях В. Тёрнера, основной функцией паломничества является совместное переживание «лиминальности» как отделения «от ранее фиксированного положения, социального статуса или от набора прежних культурных состояний» (Воронкова, 2013), что проявляется даже в таких светских явлениях как туризм. Это объясняется тем, что «священными» люди нередко воспринимают вполне «мирские сущности», например, социальные образования (Дульянинов, 2012), к которым можно отнести и общность крестного хода.
Преимущественно светские ориентации авторов исследуемых текстов подтверждаются некоторыми лингвистическими характеристиками нарратива. Из 17893 слов лишь 18 раз употребляются понятия Бог, Господь, Божья Матерь, 22 раза – Николай Чудотворец, 8 раз – православие, цитаты из религиозной литературы (всего – 4) используются только в двух текстах при наличии цитат из светской научно-популярной и художественной литературы. При этом с помощью религиозных понятий часто описывается чужой опыт и внешние события. Светская языковая практика приводит к формулировке основных значений крестного хода как «экзистенциальной терапии» через встречу «с образом собственного бытия» (Власенко, 2019). Символическим выражением сакрального опыта является ритуал. В одном тексте он предстаёт преимущественно как уединённая молитвенная практика. Однако в большинстве рассматриваемых случаев паломники, претерпевая серьёзные физические испытания, пытаются участвовать в традиционных обрядах и таинствах: читают акафист Николаю Чудотворцу, по мере возможности прикладываются к Великорецкому священному образу, причащаются на берегу реки Великой. В одном из текстов процесс приобщения новичка к ритуалу раскрыт наиболее ярко. Сначала автору казались действия окружающих странными, затем началось привыкание – стала « прислушиваться, подходить ближе к иконе и участвовать в молебнах» (Сорокина). Переход в сакральную реальность, таким образом, не является одномоментным, и слабовоцерковленный новичок может ощущать себя в крестном ходе чужаком.
Например, это проявляется в переживании своего «абсолютного недостоинства» (Доброва) участвовать в священном действе по причине отсутствия глубокой воцерковленности. При доминирующей роли светского нарратива крестный ход здесь рассматривается как «опыт сакрального», что можно объяснить универсальной сущностью путешествия. К изучению паттернов этого феномена обращался С.П. Гурин (Гурин, 2004). В наделении пешего паломничества своими смыслами проявляется «поиск себя», самоидентичности, а в интересе к православной традиции, к «способу мышления» многочисленных участников крестного хода, в соотнесении собственной системы ценностей с их смысловыми ориентациями, – «поиск Иного». Результатом является выход за пределы привычного, обыденного – «поиск Другого». Совершивший крестный ход сам становится «немного другим»: «что-то происходит внутри глубинное» (Власенко), «как будто душа выпрямляется» (Сорокина 2015).
V. РЕЗУЛЬТАТЫ
Основной функцией рассматриваемого нарратива в публичном пространстве интернета является поиск и формулировка индивидуального смысла крестоходческой практики. По утверждению Е.Ю. Рождественской, «нарративная идентичность возникает через перенимание канонических нарраций соответствующих групп, к которым индивид испытывает чувство принадлежности» (Рождественская, 2010).
Для слабовоцерковленных новичков в крестном ходе такой группой выступают представители РПЦ и более опытные паломники, являющиеся носителями православной традиции. Символы этой культуры становятся средством, с одной стороны, описания и интерпретации наблюдаемого события, с другой – осмысления субъективного паломнического опыта как нового для них «опыта прорыва реальности».
VI. ВЫВОДЫ
Нарратив, направленный на рефлексию и трансляцию смыслов Великорецкого крестного хода, является языковой практикой, в которой пространство религиозных смыслов существует наравне с чисто светским поиском смысла жизни и сакрализацией национальной общности как православного социума, укоренённого во многовековой традиции. Три вида опыта – индивидуальный «опыт сверхъестественного», «священного», «опыт физических испытаний» – соединяются в единый «опыт сакрального».
Потенциально результатом осмысления нового опыта является конфессиональная социализация. Одновременно с этим, будучи представленной в публичном информационном пространстве, репрезентация социально-сконструированного мира крестного хода способна влиять на восприятие феномена и создавать новые дискурсы.