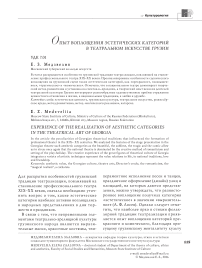Опыт воплощения эстетических категорий в театральном искусстве Грузии
Автор: Медзвелия Е.З.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 5 (73), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются особенности грузинской традиции театрализации, повлиявшей на становление профессионального театра XIX-ХХ веков. Проанализированы особенности сценического воплощения на грузинской сцене таких эстетических категорий, как «прекрасное», «возвышенное», «трагическое» и «комическое». Отмечено, что в национальном театре доминирует творческий метод романтизма и установка на спектакль-праздник, а творческий опыт великих деятелей театральной культуры Грузии интегрирует разнообразные художественные приёмы отражения ценностного отношения к жизни, к национальным традициям, к любви и дружбе.
Эстетическая ценность, грузинская культура, театральное искусство, режиссёрское кредо, метод романтизма, метод "магического реализма", катарсис
Короткий адрес: https://sciup.org/144160633
IDR: 144160633 | УДК: 7.01
Текст научной статьи Опыт воплощения эстетических категорий в театральном искусстве Грузии
Для раскрытия особенностей грузинской традиции театрализации, повлиявшей на становление профессионального театра ХIХ–ХХ веков, сначала необходимо уточнить вопрос о том, какие эстетические категории наиболее активно воплощались в народных представлениях в дни торжеств и праздников.
В связи с тем, что непременными элементами театрально-зрелищной культуры грузинского народа являются выразительные маски, красочные костюмы, тем- пераментное исполнение песен и танцев, праздничное оформление (дизайн) улиц и площадей, на которых даются представления, можно утверждать, что разностороннее воплощение получила категория «эстетическое» в значении «выразительное» (А. Ф. Лосев). Однако следует отметить, что наиболее ярко в стихии фольклорной традиции театрализации проявляется опыт воплощения категорий прекрасного и комического, благодаря присущему грузинскому менталитету культу
МЕДЗВЕЛИЯ ЕЛЕНА ЗААЛОВНА – аспирантка кафедры теории культуры, этики и эстетики социально-гуманитарного факультета Московского государственного института культуры
MEDZVELIIA ELENA ZAALOVNA – doctoral student of Department of the theory of culture, ethics and aesthetics, Faculty of Social Studies and Humanities, Moscow State Institute of Culture
красоты как высшей ценности и развитому чувству народного юмора, а категории трагического, возвышенного и безобразного были позднее воплощены в спектаклях профессиональных театров Грузии в ХIХ–ХХI веках.
Развитие национального театра, эстетические характеристики актёрской, режиссёрской и сценографической деятельности этого института связаны, с одной стороны, с традициями народных зрелищ и представлений, а с другой – с использованием плодотворных идей и концепций европейского театра, включая и русский. Для эстетического анализа особенностей сценического искусства Грузии важно обратиться к начальному этапу утверждения театра как одного из символов национальной государственности и художественной культуры. Время формирования профессионального театра Грузии – это период её социально-культурного развития в составе Российской империи.
Расширению театрального пространства национальной культуры способствовало создание в 1878 году «Драматического общества Грузии», которым руководили великие деятели национальной культуры – И. Чавчавадзе, А. Церетели, Д. Кипиани, Н. Николадзе, И. Мачабели, В. Абашидзе. По утверждению И. И. Ратиани, в этом творческом коллективе была создана особая психологическая и общественная атмосфера, которая способствовала тому, «что на грузинской сцене стало возможным утвердить русскую драматургию. Спектакли, созданные на материале русских пьес, порой становились неотъемлемой частью духовного мира и превращались в значительное событие культурной жизни Грузии» [7, с. 10]. «Драматическое общество Грузии» успешно просуществовало почти полвека, утверждая в яркой зрелищной форме дух гуманизма и идею свободы.
Стоит подчеркнуть, что в комических пьесах грузинских драматургов своеобразное воплощение получала категория прекрасного – особенно в исполнении «положительных героев». Яркий образец успешного сочетания категорий комического и прекрасного – «Ханума» Авксентия Цагарели, которую первым на грузинской сцене поставил Роберт Стуруа, после чего она надолго вошла в репертуар многих театров (и прежде всего – в БДТ имени М. Горького в постановке Г. А. Товстоногова в 1972 году).
Особое чувство юмора грузин в сочетании с их темпераментом и музыкальностью в немалой степени влияло на эстетический уровень комедийных спектаклей на основе не только национальной драматургии, но и пьес зарубежных авторов.
И всё-таки яркие достижения в сфере театральной эстетики Грузии осуществлялись в границах не бытового реализма, а романтизма, и этот факт в немалой степени подтверждает взаимосвязь художественной культуры с географическими, историческими и ментальными факторами самобытности национального искусства. Уникальность природной среды, то есть живописность ландшафта, драматическая история борьбы народа за свою независимость, психологические особенности и ценностные предпочтения грузин – всё это совпадало с духом романтического мировосприятия и способа его воплощения средствами искусства. Как утверждают в своей книге «Эстетика природы» А. Ф. Лосев и М. А. Тахо-Годи, для романтизма характерны «… возвышенное настроение духа, это постоянное идейное искательство, это интимнейшее использование образов природы для описания глубинных судеб человека, это небывалое превознесение искусства … вся эта глубочайшая связь и образов природы, и внутренних переживаний человека» [5, с. 218].
Именно эти черты романтизма являются одной из ярких особенностей эстетики грузинского театра. Органичны для романтического направления сценического искусства Грузии и такие эстетические категории, как «возвышенно-героическое» и «трагическое». Это видно по репертуару, по манере актёрской игры и по художественному оформлению спектаклей. Наиболее активно романтизм проявился в постановках на историческую тему.
Романтический мотив недостижимости идеала выражался театральными средствами как в жанровой определённости спектакля (историческая драма, трагедия и мелодрама), так и в экспрессивной манере актёрской игры, в том огромном накале переживаний персонажей, какой темпераментно и в то же время убедительно воспроизводился на сцене грузинскими артистами. В связи с этим важно отметить, что характерный для эстетики романтизма культ страсти (а не рассудочно-пафосных монологов героев в пьесах классицизма) очень близок эмоциональной природе грузинского менталитета. Эта особенность наиболее ярко проявляется в тех достижениях театральной культуры Грузии, которые связаны с жанром трагедии.
Вклад деятелей грузинского театра в мировой опыт сценического воплощения классических трагедий Софокла, Еврипида, В. Шекспира и Ф. Шиллера обладает огромной эстетической ценностью. Ценностный аспект режиссёрского и актёрского творчества в сфере постановки пьес трагедийного жанра включает ряд тех моментов, которые отражают специфику эстетики грузинского театра и потому заслуживают более пристального внимания.
Первый момент заключается в том, что в постановках грузинских режиссёров, ориентированных на эстетические принципы романтизма, категория возвышенногероического тесно переплеталась с категорией трагического, благодаря чему реакция зрителя и на сюжет трагедии, и на страстную манеру актёрской игры вызывала чувство катарсиса.
Второй момент, позволяющий говорить об эстетической ценности лучших достижений грузинского театра в жанре трагедийного представления, связан, на наш взгляд, с характерной для романтического искусства темой глубокого разрыва между идеалом как возвышенно-поэтической мечтой и «унылой и жестокой» прозой жизни. Контраст высокого и низкого, светлых и тёмных сил, любви и ненависти – один из тех принципов эстетики романтизма, который наиболее ярко воплощается через синтез таких категорий, как «возвышенно-героическое» и «трагическое». Причём присущая античной культуре тема рока именно в постановках трагедий великих драматургов вновь «вошла» в культурное пространство ХХ века.
Третий момент, свидетельствующий о глубине ценностных оснований сценического воплощения трагедий, состоит в высокой культуре режиссёрского прочтения, то есть интерпретации драматургического материала. Этой важной стороне художественно-творческого опыта постановщиков посвящена диссертация Т. И. Камушадзе «Интерпретация древнегреческой трагедии в грузинском театре» [4]. В этой содержательной и интересной работе подробно раскрыты в рамках театроведческого подхода начальный период традиции обращения национального театра Грузии к бессмертным произведениям драматургов Эллады; история сценического воплощения древнегреческих трагедий; особенности лучших образцов воплощения этого древнего жанра режиссёрами и актёрами в ХХ веке.
Осмысление данного исследования позволяет нам соотнести ряд положений Т. И. Камушадзе с ценностным аспектом уникальности грузинского опыта постановки древнегреческих трагедий в соотнесении с эстетикой романтизма. При этом учитываются те содержательные акценты автора диссертации, которые расставляются в связи с каждым из тех периодов развития театральной культуры Грузии, когда постановки древнегреческой трагедии достигали высокого профессионального уровня.
Согласно Т. И. Камушадзе, традиция обращения к жанру трагедии возникает в начале второго десятилетия ХХ века, в контексте возрастания интереса к античному наследию. Из трёх драматургов Эллады, писавших трагедии, раньше всех был выбран Софокл с его «Антигоной» и «Царём Эдипом». Самым первым режиссёром, поставившим на грузинской сцене в 1912 и в 1913 году обе трагедии, был Константин Андроникашвили. Вслед за ним к трагедиям Софокла обратились и другие яркие представители первого поколения театральных режиссёров Грузии: Михаил Корели поставил в Кутаиси спектакль о фиванском царе, Валериан Шали-кашвили осуществил постановку «Антигоны», и эту же пьесу через несколько лет поставил В. Кушиташвили. Общим моментом этих постановок был поиск средств сценического воплощения темы рока и человека, вовлечённого в цепь трагических событий и переживаний. Описание спектаклей, созданных в период между 1912 и 1918 годами, позволяет сделать вывод о том, что воплощение эстетической категории возвышенного было связано с темой сохранения чувства достоинства и чести героев трагедий Софокла перед роковыми испытаниями, а категория трагического отражала идею обречённости человека на страдания по вине рока. Именно поэтому романтическое звучание спектаклей проявлялось на первом этапе сценического воплощения на грузинской сцене трагедий Софокла в том, что в игре исполнителей главных ролей особое внимание уделялось эмоциональному выражению нравственных страданий.
Второй этап активного включения в репертуар театров Грузии древнегреческих трагедий наступил, по утверждению Т. И. Камушадзе, после Великой Отечественной войны. Естественно, что обе эстетические категории – трагического и возвышенного – соединились с этическим понятием героического. Как подчёркивает исследователь, именно на этом этапе плодотворно осуществлялась «идея героического театра трагедии» [4, с. 10], начиная с постановки в Батумском театре в 1946 году «Царя Эдипа».
Эстетические принципы, присущие романтическому направлению, в национальном театре ярко проявились также в сценическом воплощении трагедий Шекспира и Шиллера, которые получили известность в Грузии благодаря переводам великого писателя Ильи Чавчавадзе.
С конца ХIХ века постановки трагедий английского и немецкого драматургов осуществлялись в основном в традициях эстетики романтизма. Вероятно, потому, что поэтичность и экспрессивность, характерные для романтизма, близки ментальности грузинского народа.
Если для романтической и символистской линий в театральной культуре Грузии характерно доминирование эстетических категорий возвышенного и трагического в сочетании с понятиями героического и поэтического, то в границах реалистически бытового и натуралистического направлений режиссёры предпочитали иные категории, отражающие определённый тип творческой установки. И в драматургии, и в режиссуре этих направле- ний прослеживается интерес к выразительным возможностям прекрасного и безобразного, а также к таким смеховым оттенкам комического, как ирония и сарказм. Однако в художественном отношении натуралистическое и символистское направления заметно расходятся между собой и в ценностном и собственно эстетическом.
Творческий отклик грузинских режиссёров на натуралистическое направление, являющееся, как всем известно, эстетическим вызовом романтизму, происходит, согласно М. Г. Каландаришвили [3], в начале ХХ века. В Западной Европе интерес к этому новому направлению, альтернативному по эстетическим принципам как классицизму, так и романтизму, возник раньше, в связи с появлением знаменитой статьи французского писателя Эмиля Золя «Натурализм в театре». В этой статье, как и в работе И. Тона о новом художественном методе, обосновывалась его эстетическая ценность. При этом особое внимание уделялось принципу следования «бытовой, психологической и исторической правде».
Данный эстетический принцип получил распространение и в художественной культуре Российской империи, частью которой являлась и Грузия. Поэтому логика утверждения метода натурализма и в русском, и в грузинском театре – одна и та же. И в связи с этим, прежде чем раскрывать специфику использования режиссёрами Грузии нового (по сравнению с классицизмом, романтизмом и реализмом) натуралистического направления, мы обратимся к его характеристике, данной Т. М. Родиной в монографии «Александр Блок и русский театр начала ХХ века» [8]. Это обосновано тем, что ряд тех ценностных ориентаций и творческих установок на эстетические изменения в сценическом искусстве, которые были рассмотрены
Т. М. Родиной, был характерен не только для русского, но и для грузинского театра.
Часть своего исследования, посвященного эстетическим особенностям театральных практик в этот период, когда утверждалась и ярко проявлялась и новая драматургия, и новая профессия режиссёра-постановщика, Т. М. Родина отвела выявлению природы натуралистического метода в искусстве. Её объяснение сути натурализма помогает понять, почему он в течение нескольких лет привлекал художественных руководителей многих национальных театров, в том числе и грузинского [8]. Ведь, по утверждению М. Г. Каландаришвили, «при всей разнородности репертуара грузинского театра уже с начала века нельзя не ощутить давления огромной центробежной силы, приземляющей искусство, ещё недавно парящее в заоблачных далях» [3].
Автор этих строк имеет в виду рубеж ХIХ–ХХ веков, когда классический тип искусства вытеснялся новыми художественными идеями, направлениями и экспериментами, а в сфере театрального творчества ярко проявляло себя самое первое поколение режиссёров, к которому принадлежал и грузинский режиссёр Котэ Марджанишвили (известный русскому зрителю как Константин Марджанов).
Рассмотренные нами особенности сценического воплощения на грузинской сцене таких эстетических категорий, как «прекрасное», «возвышенное», «трагическое» и «комическое», позволяют ещё раз подчеркнуть, что в национальном театре доминирует творческий метод романтизма и установка на спектакль-праздник. Творческий опыт великих деятелей театральной культуры Грузии интегрирует разнообразные художественные приёмы отражения ценностного отношения к жизни, к национальным традициям, к любви и дружбе.
Утверждению в поэтике театрального искусства идеи ценности жизни и важности серьёзного и благодарного отношения к ней человека, который и сам является ценностью особого порядка, в немалой степени способствуют эстетические факторы постановки пьесы, особенно на тему национальной истории и реальности. «Уже стало прописной истиной, – отмечает в своей книге о феномене режиссёрского театра Наталья Казьмина, – что грузинская декорация живописна, что в ней сильны мотивы национального народного творчества, что костюм в ней – символичен, а спектакль понимается как праздничное красочное зрелище, свободное, восходящее к народному импровизационному театру» [2] Интересно, что в беседе с ней режиссёр Роберт Стуруа высказал следующую мысль: «Мы, грузины, любим праздники, являющиеся наивысшей формой, приемлемой для бытия… Она связана с самыми сакральными пластами нашего сознания» [цит. по: 2].
В этих словах – объяснение ещё одной черты национальной художественной культуры Грузии и её театрального искусства. Действительно, для ярких представителей грузинской режиссуры, актёрского творчества, сценографов и композиторов характерно сочетание экспрессивной манеры выражения самых тонких нюансов эмоционального состояния героев и главной мысли спектакля с использованием разнообразных средств художественной выразительности, в результате чего лучшие спектакли становятся культурным событием – праздником. Благодаря этому их лучшие постановки являются не только зрелищными, но и концептуальными.
Список литературы Опыт воплощения эстетических категорий в театральном искусстве Грузии
- Каган М.С. Эстетика как философская наука: Университетский курс лекций / Санкт-Петербургский государственный университет, Академия гуманитарных наук. Санкт-Петербург: ТК «Петрополис», 1997. 544 с.
- Казьмина Н.Ю. Грузинский пейзаж: голоса моей Родины. Москва: Зебра Е, 2013. 590 с.
- Каландаришвили М.Г. Основные направления грузинского театра (начало ХХ века): дис.. на соиск. учён. степ. доктора искусствоведения: 17.00.01 / Каландаришвили Михаил Григорьевич; Грузинский государственный театральный институт имени Шота Руставели. Тбилиси, 1993.
- Камушадзе Т.И. Интерпретация древнегреческой трагедии в грузинском театре: автореф. дис.. на соиск. учён. степ. кандидата искусствоведения: 17.00.01 / Камушадзе Тамила Ивановна; Грузинский государственный театральный институт имени Шота Руставели. Тбилиси, 1990. 26 с.
- Лосев А.Ф., Тахо-Годи М.А. Эстетика природы: природа и её стилевые функции у Ромена Роллана. Москва: Наука, 2006. 419 с.
- Мамардашвили М.К. Время и пространство театральности // Театр. 1989. № 4. С. 105-108.
- Ратиани И.Г. Взаимосвязь искусств в культуре Грузии: На примере немого кино 1912-1934: дис.. на соиск. учён. степ. кандидата культурологии: 24.00.01 / Ратиани Ирина Ивановна; Российский институт культурологии. Москва, 2004. 209 с.
- Родина Т.А. Александр Блок и русский театр начала ХХ века. Москва: Наука, 1972. 312 с.