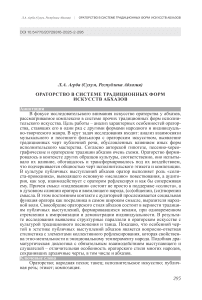Ораторство в системе традиционных форм искусств абхазов
Автор: Агрба Л.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Речевые практики
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
В фокусе исследовательского внимания искусство ораторства у абхазов, рассматриваемое комплексно в системе прочих традиционных форм исполнительского искусства. Цель работы - анализ характерных особенностей ораторства, ставящих его в один ряд с другими формами народного и индивидуально творческого жанра. В круг задач исследования входит: анализ взаимосвязи музыкального и песенного фольклора с ораторским искусством, выявление традиционных черт публичной речи, обусловленных влиянием иных форм исполнительского мастерства. Согласно авторской гипотезе, песенно хореографические и ораторские традиции абхазов очень схожи. Ораторство формировалось в контексте других образцов культуры, соответственно, оно испытывало их влияние, обогащалось и трансформировалось под их воздействием, что подчеркивается общностью черт исполнительского этикета и композиции. В культуре публичных выступлений абхазов оратор выполняет роль «солиста проводника», выводящего основную «мелодию» повествования, а аудитория, как хор, взаимодействует с оратором рефлексируя и как бы сопереживая ему. Причем смысл «подпевания» состоит не просто в поддержке «солиста», а в духовном слиянии оратора и внемлющего народа, (со)общении, (со)творении смысла. В этом постоянном контакте с аудиторией прослеживается социальная функция оратора как посредника в самом широком смысле, выразителя народной воли. Своеобразие ораторского стиля абхазов состоит в верности традициям публичных выступлений, формировавшихся веками, при одновременном стремлении к импровизации и демонстрации индивидуальности. В результате исследования выявлены структурные параллели в ораторском искусстве с культурой традиционного песнопения и танца. Показано, что особенной чертой в эстетике публичных выступлений абхазов является вопросно ответная стилистика с элементами коллективного рефлексирования, которая свойственна этно ментальности и эмоциональному темпераменту народа. Подобная драматургическая диалогика с обязательным взаимодействием выступающего и слушателей - отличительная особенность ораторского стиля многих народов, сохранивших архаичные черты, в том числе и абхазов.
Ораторство, народная песня, танец, исполнительское искусство, публичная речь, этикет, композиция
Короткий адрес: https://sciup.org/149148620
IDR: 149148620 | DOI: 10.54770/20729316-2025-2-295
Текст научной статьи Ораторство в системе традиционных форм искусств абхазов
Искусство слова тесно связано с национально-исполнительской традицией и ею обусловлено, поэтому ораторство должно рассматриваться в контексте других образцов исполнительского искусства, как неотъемлемое звено этнокультуры. Ораторство в определенной степени является выразительным эквивалентом народной песни и танца, которые сопровождаются определенными типами жестов и телодвижений (кинесика); учитывают пространственную дистанцию участников (проксемика); передают содержание музыки через мимику и т.д. Вообще для риторики важное значение имеет связь вокальных, инструментальных и танцевальных жанров. Общей для данных видов искусств является возможность с их помощью выражать эмоции, порывы души. Связь движения, музыки и слова описана многими исследователями [Mather 1987; Ranum 1986; 2001; Дружинин 2002; Захарова 1983; Пылаева 2011; 2015]. В частности, они обосновали соотношение музыкального и визуально-хореографического компонентов, координируемых риторикой.
Риторические традиции, уходящие корнями в глубокую античность, пронизывают все сферы художественного творчества, которые связаны с владением голосом ( pronuntiatio – произнесение), владением телом ( executio – исполнение) и умением донести свои мысли и чувства ( expressio – выражение). Считалось, что тот, кто не знаком с правилами ораторского и поэтического искусства не может написать хорошую музыку, поставить танец или спектакль. К примеру, считалось, что И.С. Бах прекрасно разбирался в риторике, поэтому современники писали о нем: «…не только с удовольствием слушаешь его, когда он с основательным знанием говорит о сходстве и согласии музыкального и ораторского искусства, но восторгаешься мастерским применением сказанного в его сочинениях» [цит. по: Швейцер 1965, 133].
Ну и конечно, все жанры исполнительского искусства, которые так или иначе связаны с ораторством, объединены творческими потенциями в самом широком смысле и общей целью – желанием растрогать публику и понравиться ей, или, как писали античные философы, docere, delectore, movere – убедить, усладить, взволновать, ведь «жизнь находится не только вне искусства, но и в нем, внутри его, во всей полноте своей ценностной весомости: социальной, политической, познавательной и иной» [Бахтин 1975, 29]. Именно риторика с ее изначальным универсализмом раздвинула границы искусств, от театра до поэзии, стимулировав многие важные открытия, поэтому по сей день эта наука остается востребованной и представляет значительный интерес для специалистов, изучающих определенные пласты этнокультуры.
Основная часть
Культура ораторства у абхазов происходит из глубоких по содержанию и красивых по форме образцов устного народного творчества. Эпические фольклорные традиции стали питательной средой для становления словесного искусства, которое формировалось на основе традиционных форм сказитель-ства. Оно также заимствовало композиционно-стилистические особенности народных песен и танца. Нартский эпос, песни, сказки, притчи и сказания, пронизанные мудростью и этнической аксиологией, существенно повлияли не только на формирование нравственного самосознания народа, но и на его интеллектуальные и творческие потенции.
И по сей день фольклорные вкрапления отличают речь оратора-абхаза. Красноречивым считается человек, который широко использует изобразительно-выразительные средства, традиционные формулы и клише, риторические принципы, характерные для устного народного творчества. Мастер слова в представлении абхазов должен быть настоящим знатоком фольклора и часто приводить пословицы и поговорки, чтобы в полной мере задействовать образное мышление для передачи своих мыслей. Обычно оратор начинает свою речь с пословицы: «Не сказав начало (речи), не скажешь и конца». Подобным зачином оратор погружает слушателей в предысторию вопроса, создает соответствующий контекст для своего выступления. Употребляя в речи пословицы, поговорки, афоризмы и фразеологические обороты, составляющие фольклорный фонд лингвокультуры, оратор диалектически продолжает национальные художественные традиции и создает фон, который актуализирует коллективную память, а также придает структурную оформленность речи и фокусирует внимание слушающих на теме.
Фольклорные виды искусства построены на обязательном соучастии-импровизации. Стихийная свобода изложения мыслей – характерная черта иди-остиля оратора-абхаза. В этом осознанном стремлении личности выразить важное по-своему, оставаясь при этом строго в пределах допустимого по этикету, в рамках символико- и ценностно модулирующей системы, состоит оригинальность оратора-абхаза. Собственный стиль и манера мыслить, выражать чувства и описывать окружающую действительность – делало фигуру оратора узнаваемой, а значит особо почитаемой в обществе [Агрба 2020, 100–101].
Традиционная ораторская речь абхазов – это структурно и содержательно оформленная согласно традиционным канонам и речевому этикету импровизация. Г.Д. Гачев считает, что вообще импровизация свойственна народам южным, темпераментным, общительным, в отличие от словесной драмы, которая «развилась у народов северных, где природа располагает к сидению, замкнутости в помещении, к сосредоточению, уходу в себя…» [Гачев 2008, 229]. Российский кавказовед П.К. Услар охарактеризовал импровизацию в исполнительстве горцев следующим емким определением: «Если импровизация была удачна, то она повторяется не раз и, наконец, становится ходячею песнею, но к ней неприменима русская пословица “из песни слова не выкинешь”» [Услар 1868, 33]. «Солист в абхазских народных песнях свободен в проявлении великолепия своего голоса и богатого импровизаторского искусства. Он уверен, что хор внимательно слушает и поддерживает его, и в любой момент готов эмоционально откликнуться нахлынувшему на него чувству» [Чанба 2011, 188].
Неслучайно мы находим структурные параллели в ораторском искусстве с культурой традиционного песнопения. Здесь также взаимодействие с аудиторией строится по принципу противопоставления-отталкивания и притяжения-слияния. Подчеркнем, что «хоровая песня: диафония, антифонный стиль исполнения, мелодические рецитации солиста на фоне хора – типичная форма абхазского музыкального фольклора. Эта особенность в частности характерна для героических песен, в которых солисту (абх. ахкызхуо, ахкызку – говорящий главное), так же, как и оратору, отводится главенствующая роль. Хор же (абх. аргызра – досл. “стонать”) сопровождает его “почтительно” тихим пением, иногда сливаясь с солистом в окончаниях музыкальных фраз строгим, непрерывным “о…”, “уа…”, как бы в знак одобрения и поддержки. Примечательно, что каждый абхазец может и должен участвовать в “аргыз-ра”, когда звучит коллективная песня, тогда как “ахкызхуо” может быть не каждый» [Судакова 1984, 29–32].
Подобная специфика обусловлена историческими условиями жизни и развития народа, а также своеобразием национальных черт психики. «Солист выступает лидером в создании композиционного целого, творцом в поиске оптимального интонационного воплощения поэтического текста, “режиссером” ансамблевой “постановки” песни. Ролевая “обозначенность” солиста отражает отношение этнических сообществ к музыкантам… Личность солиста представительствовала в качестве носителя и законодателя певческой традиции, а его музыкально-поэтическое мастерство уподоблялось ораторскому искусству тхамады. Так лидер певческого ансамбля (так же, как и лидер в игрище) призван создать атмосферу высокого эмоционального накала, настроить коллектив на определенный тип деятельности… Напев ансамблевой партии ассоциируется с общиной, коллективом, который подхватывает, поддерживает и оценивает напев солиста» [Вишневская 2015, 188].
Подобным же образом и в культуре публичных выступлений абхазов – оратор выполняет роль «солиста-проводника», выводящего основную «мелодию» повествования, а аудитория, как хор, взаимодействует с оратором, рефлексируя и как бы поддерживая его. Причем смысл «подпевания» не столько в поддержке выступающего, сколько в духовном единении с ним. «Солист – оратор, хор – слушающий народ, соучастник события… В музыкальном выражении эта этическая установка абхазов представляет собой сольно-ансамблевое, контрастно-регистровое пение, диафония соло и бурдонного баса, близкая к ре-спонсорному пению, столь традиционного для христианского храмового пения и более архаичной древнееврейской псалмодии… Солиста в героической песне и оратора у абхазов роднит торжественная интонация, призванная оказать сильное эмоциональное воздействие на слушателя» [Чанба 2011, 186–190].
При этом оратор не возвышает себя и не противопоставляет себя публике. Он понимает свою миссию выразителя воли народа и осознает свой долг служения, поэтому регулярно вопрошает слушающих, правильно ли он передает их чаяния и мысли. Речь выступающего часто поддерживается одобрительными возгласами присутствующих, которые задают атмосферу, подхватывают и отражают настроение оратора. Восклицания публики создают определенный фон, ауру, ритмику, эмоционально организуют выступление. Мушни Хашба так описывает знаменитый народный сход 1931 г. в селе Дурипш: «Оратор гремел на всю площадь своим ровным голосом <…>, внимательно обозревая публику, ни на миг не упуская контакта с народом, и, часто обращаясь к нему с вопросом: “не так ли вы говорите?”, и каждый раз получая в ответ единодушное подтверждение народа: “так есть, дад, так есть!” ( убасоуп, дад, убасоуп! ), “иди так как идешь, хорошо идешь!” ( ушаиуа уааила, ушаиуа бзиоуп! ) [цит. по: Куправа 2008, 8–9].
В традиционной культуре абхазов лексика возгласов, междометий, призывов, выкриков, выражающих спектр различных смыслов и эмоций, от подражания рыку зверя – до сублимации особых состояний человека, очень богата. Композитор и дирижер Н. Чанба отмечает обилие в абхазских народных песнях слов-рефренов при довольно ограниченном использовании вербального текста. «Здесь надо вести речь не об утере слов, а о феномене немногословного и невербального песнетворчества абхазов, в котором музыкальная выразительность сочетает в себе эстетическую и повествовательную функции» [Чан-ба 2011, 184]. Слова-экспрессии создают особый эмоциональный подтекст смысловой общности в передаче чувств. В культуре абхазов «этот древнейший тип лексики стал “опознавательным знаком” традиции, средством создания экзальтированно-эмоциональной звуковой ауры, важнейшим психологическим компонентом обрядов и празднеств, фонетико-выразительным компонентом народных песнопений и танцев» [Вишневская 2015, 189].
Оратор делится со слушателями собственными оценками и переживаниями, но также он передает информацию о коллективном (на уровне образов и символов), актуализируя опыт предыдущих поколений, память о событиях, актуальных для общества и т.д. Публика, воспринимая речь оратора, приобщается к коллективному мнению, а с другой стороны – индивидуализирует ее, соотнося информацию с личным опытом и соглашаясь или отвергая его. В результате нечто «внешнее» в тексте выступающего становится не просто «внутренним», но «своим» для слушающего, так как он становится (со)участни-ком, обретая определенную роль в этом диалоге с оратором. Так выступление «самоорганизуется», – текст, который призван воздействовать на аудиторию, сам становится частью народного высказывания, а речь оратора, выходя из его личного управления, через взаимодействие с публикой, начинает творить самое себя.
Можно обнаружить параллели между культурой ораторства и традиционным абхазским танцем, где зрители также являются участниками танцевального действа и выкриками, свистом подбадривают и раззадоривают танцующих. Традиционный танец – это и массовое представление, за которым наблюдают все присутствующие, и соревнование, где каждый хочет показать свое мастерство как между танцевальными парами, так и внутри каждой танцевальной пары. Это своеобразный театр, где аплодисментами и возгласами подбадривают того, кто танцует ярче, темпераментнее, выразительнее и, таким образом, отдают ему (ей) свой голос.
Обычно танцы исполняются в центре круга, где сама игровая ситуация провоцирует сравнение и состязание, и здесь каждому хочется быть отмеченным, получить похвалу друзей, любимой девушки, всего общества. «Действенность этого возвышения имеет склонность разрастаться до иллюзии верховенства вообще. И тем самым выигрывается нечто большее, нежели только игра сама по себе. Выигрывается почет, приобретается честь. И эта честь, и этот почет всегда полезны непосредственно всей группе, отождествляющей себя с победителем» [Хейзинга 1997, 62].
Вообще традиции народно-обрядовых игр, включающие элементы танца, музыки, поэтических и сатирических турниров серьезно повлияли на импровизаторское мастерство и ораторское искусство абхазов. Подобные конкурсы сопровождались, как правило, песнями и плясками, общим весельем при большом скоплении народа, причем они не регламентировались ни во времени, ни по содержанию, – допускались осмеяние, острые, порой непристойные шутки, вымысел, – обижаться на такое означало проиграть состязание. Публика могла свободно реагировать на поединок и принимать сторону любого из участников, а победитель удостаивался главного – народной молвы, заслуженной известности.
Танец и ораторское искусство объединяет и композиционная драматургия выступления. В традиционном абхазском танце резкие, стремительные движения мужской хореографии содержат элементы вербальной и невербальной экспрессии, выраженные в противопоставлении возгласов, выкриков, междометий, а также пантомимы, нередко используемые во время исполнения. Они совмещаются с лиричной, спокойной и грациозной женской партией, поддерживающей линию танца плавными движениями и уравновешивающей общий рисунок танца. Пульсирующая ритмика, четкость, задаваемая исполнителем, сливаются с пластичными движениями исполнительницы, и эта условная борьба мужской и женской партии придает танцу дополнительную изобразительную и содержательную наполненность. На основе подобной энергетической сбалансированности движений с богатым использованием средств выразительности партнера и одновременно грациозными, мягкими линиями партнерши, обеспечивающими динамическое равновесие, гармонизируется импровизированная композиция танца. Так и «ритмика песни (и напева, и текста) всецело организуется под воздействием ровного темподвижения, в основу которого кладется мерность двудольной пульсации, созвучной с жизненными ситуациями, с естественной природной круговертью, с гармонией микро- и макрокосма человека» [Ашхотов 2011, 406].
Часто интонация танца – это условно два тона, каждый из которых обладает своей частотой и длиной, но объединяясь, они создают целостную композиционную канву, что приводит к эмоциональной сбалансированности и гармонии. Так и в выступлении оратора, – композиционный и ритмический рисунок выступления, базирующийся на диалоге солиста-оратора, контактирующего со слушателями короткими энергичными репликами, создают единое информационно-энергетическое поле.
Принцип градации, а также переключения регистров, характерные для инструментально-танцевальной музыки, свойственны и драматургии публичных выступлений. Эмоциональный накал здесь достигается не благодаря экспрессии речи, но посредством темпо-ритма, создающего определенное напряжение и, как ни парадоксально, сдержанной, порой закрытой подачи сообщения. Особенность подобного донесения информации до слушателей заключается не в последовательном изложении событий, а в передаче сути в художественных образах и обобщениях, которые нужно расшифровать, чтобы понять скрытый в них смысл. Абхазы высоко ценят недосказанность, намек, умалчиваемое, что говорит об искушенности, богатом жизненном опыте слушателей. Здесь любят находить тайный смысл, в котором заключена гораздо большая привлекательность по сравнению с высказываемым явно. Поэтому «затемненная» подача информации оратором вполне оправдана, в том числе желанием видеть перед собой думающую, рефлексирующую публику. Аналогично специалисты считают особенностью песенного фольклора абхазов «недоговоренность, незавершенность предложения… Отсутствие слов или их ограниченное использование прямо или косвенно указывает на стремление абхазской народной песни “скинуть с себя материальную оболочку” слов, и вспорхнуть в свободном полете как птица, выпущенная из клетки на волю» [Чанба 2011, 184]. Такую же удивительную ритмичность узора и графическую соразмерность орнамента на предметах быта и украшениях археологи отмечают на территории Абхазии начиная с дольменной культуры. Искусство колхидской и кобанской культур на территории проживания протоабхазо-адыгских племен отмечено схематичностью в изображении и аскетичностью стиля. Так и в ораторстве, динамизм выступления достигался не за счет эмоциональности оратора, но благодаря богатству языковых средств, передающих эмоционально-психологическую глубину выражаемого.
Заключение и выводы
Творческое освоение жизни абхазов, веками формировавшиеся фольклорные и эстетические традиции с собственными национально-специфическими характеристиками, конечно, обусловили культуру исполнительского мастерства, от музыкально-песенного до ораторского искусства. Однако их становление происходило не изолированно: в силу своего географического положения оно подвергалось различным влияниям, обогащалось плодами древних культур и цивилизаций, ведь «каждый этнос является носителем не только национальной, но и общечеловеческой культуры» [Бгажноков 1978, 40].
В предлагаемой статье мы попытались показать важность проведения параллелей между народной музыкой, танцем, пением и словесным творчеством, как ключевыми элементами художественно-исполнительского потенциала народа, которые отражают мировоззрение и логику мышления представителей этнокультуры. Все они – часть социально-знаковой системы, объединяющей языковую, музыкальную и танцевальную матрицы. Эстетика и законы народ- ного танца, песни и риторики находятся в гармоничном синтезе, что делает правомерным и оправданным их сравнение.
В анализе общих черт традиционного исполнительского творчества с ораторским искусством возможен более детальный анализ, но мы лишь хотели подчеркнуть сходство некоторых позиций композиционного строения и воспроизводства, наблюдаемых в танце, народных песнях и ораторстве абхазов. Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что ораторство входит в число основных видовых форм традиционной творческой культуры абхазов, наряду с хоровым, музыкальным, танцевальным исполнительским искусством, которые отмечены характерными этническими особенностями. Стремительные, вибрирующие, ритмичные движения (высказывания) солиста (оратора) поддерживаются хором (репликами рефлексирующих зрителей), – такова основная схема (диспозиция) народной творческой выразительности. Форма исполнения (артикулирования) мелодии (текста) импровизационная, динамичная, имеет тенденцию к резким эмоциональным взрывам (выпадам), вслед за чем идет угасание. В целом, связь вокальной традиции и исполнительского этикета с ораторским искусством у абхазов очевидна.