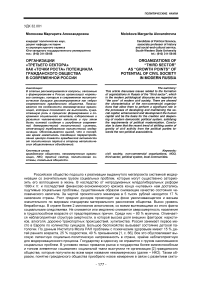Организации «третьего сектора» как «точки роста» потенциала гражданского общества в современной России
Автор: Молокова Маргарита Александровна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Политические науки
Статья в выпуске: 6, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием в России организаций «третьего сектора», которые в современном политологическом дискурсе рассматриваются как «ядро» современного гражданского общества. Показываются те особенности некоммерческих организаций, которые позволяют им выполнять существенную роль в процессах формирования и сохранения социального капитала, оздоровления и развития человеческого капитала и при этом быть основой создания и углубления современной демократической политической системы, отвечающей требованиям политической модернизации. Обосновывается вывод, что в последнее время наметилась тенденция перераспределения центра тяжести гражданской активности от политических партий в сторону неполитических общественных объединений.
Гражданское общество, некоммерческие организации, нко, третий сектор, политическая системы, локальные общности
Короткий адрес: https://sciup.org/14933458
IDR: 14933458 | УДК: 32.001
Текст научной статьи Организации «третьего сектора» как «точки роста» потенциала гражданского общества в современной России
Российское общество подошло к реализации выдвинутого мегапроекта системной модернизации со значительным грузом социальных проблем, которые могут существенно затормозить его воплощение в жизнь. В наследство от непродуманных младолиберальных реформ 1990-х гг. и последствий финансово-экономического кризиса конца «нулевых» нам достались ощутимые социальные проблемы, существенным образом снижающие качество состояния человеческого капитала. За чертой прожиточного минимума в 5 тысяч рублей находится 17 % населения страны. Рост средних доходов происходит на фоне увеличивающегося и весьма значительного по мировым стандартам материального расслоения общества. Высок уровень безработицы. В стране более 2 миллионов алкоголиков, со всеми вытекающими из этого факта социальными следствиями. Не снижается или медленно снижается сверхсмертность населения в трудоспособном возрасте от предотвратимых причин. Среди них – 80 % мужчины. Отмечается неблагоприятная структура смертности, в которой высока доля внешних факторов: наркотиков, алкоголя, дорожно-транспортных происшествий, хулиганства. Россия занимает первое место в Европе по количеству суицидов. Большое беспокойство вызывает состояние детской патологии. По данным Института Мозга РАН проблемы с психическим здоровьем имеют 15 % детей раннего возраста, 25 % подростков, 40 % призывников [1, c. 66]. Все это обусловливает высокую латентную социально-политическую напряженность в стране, крайне неблагоприятную для модернизационного процесса. Государству в одиночку не справится с грузом накопившихся социальных проблем. В условиях явных провалов рынка и государства более жизнеспособным и тонким элементом «сшивания» социальной ткани выступили те организации [2] гражданского общества, которые получили во всем мире название некоммерческих (далее – НКО). Таким образом, понятие гражданского общества приобрело новое измерение в связи с развитием секто- ра некоммерческих организаций, или «третьего сектора». Под неприбыльным («третьим») сектором понимается совокупность (система) групп населения и организаций, не ставящих перед собой целей увеличения личного дохода непосредственно через участие в работе таких групп и организаций или через владение ими. Термин «неприбыльные» означает, что получаемая в результате деятельности таких групп и организаций прибыль не распределяется между их участниками, а идет на реализацию целей группы или организации. Первые два сектора – это совокупность государственных институтов и деловых частных организаций и предприятий. К. Маккарти с коллегами [3, p. 1–25] рассматривают «третий сектор» как сферу активности, развиваемую между семьей и более широкими бюрократическими секторами прибыльного бизнеса и правительства. В рамках этой концепции говорят о неприбыльном секторе, секторе добровольной активности, «третьем секторе», неправительственном секторе. Для всех подобных организаций характерна деятельность ради общественного благополучия. Главной функцией таких организаций является, в той или иной степени, расширение пределов свободы и наделение населения властью, вовлечение населения в процесс социальных изменений и активности, в развитие социальной защиты. Организации «третьего сектора» ближе всего расположены к массовым слоям общества, более активно взаимодействуют с ним, выражают его ожидания и формируют его «качество». Если иметь в виду эти признаки, органичным для сектора предстает такой путь развития, при котором основной движущей силой выступает естественное стремление людей сотрудничать для реализации альтруистических устремлений и коллективного обустройства своей частной жизни. Этому, вообще говоря, соответствует развитие «снизу-вверх», максимальное разнообразие и децентрализация, преобладание горизонтальных связей над иерархическими и опора на добровольно предлагаемые ресурсы: взносы, пожертвования, трудовой вклад и т. д.
Таблица № 1 - Секторная структура общества
|
Сектор Уровень |
I cектор |
II cектор |
III cектор |
|
Деятельностный |
Государство |
Экономика, частный бизнес |
Сфера деятельности НКО |
|
Гражданское общество |
Политическое сообщество (партии, движения) |
Экономическое сообщество (профсоюзы, бизнес-ассоциации) |
Сообщество третьего сектора НКО |
|
Негражданское общество |
Подпольные и террористические общества |
Организованная преступность |
Агрессивные секторы |
Обладая возможностью выражать самые разнообразные и конкретные интересы больших и малых общественных групп, они сегодня составляют наиболее разветвленный и, в совокупности, наиболее весомый сектор гражданской сферы. Многие западные исследователи относят появление подобного рода новых общественных ассоциаций к понятию «новые общественные движения», в противовес старым, основу которых составляли профсоюзы [4]. Преимущества НКО перед госсектором в сфере тонкой «настройки» социальной ткани общества очевидны. Во-первых, НКО отличает глубокое знание проблем, наличие высококвалифицированного персонала, адресность, гибкость и быстрота реагирования. Во-вторых, НКО менее бюрократизированы, для них характерны преобладание горизонтальных связей и плюрализм в принятии решений. В-третьих, действия НКО более эффективны (в частности, за счет более низких расценок и привлечения волонтеров) и обеспечивают значительную экономию государственных средств, сводят к минимуму случаи нецелевого использования финансов. Глобализация открыла перед сектором неправительственных организаций новые перспективы, и поставила новые проблемы. На мировой арене НКО гораздо раньше Правительств и финансово-промышленных групп объединились в международные сети, причем в целях более благородных и гуманных, нежели получение сверхприбылей и установление финансово-политического контроля за странами «третьего мира».
Представляется, что «сообщество NGO» в посткоммунистических странах и, в частности, в современной России можно рассматривать как ядро, основную, более современную часть гражданского общества, потому что в этом сообществе в наибольшей степени сохранился сегодня приоритет гражданских и моральных ценностей. Можно надеяться также, что именно отсюда реальные гражданские и моральные стандарты распространятся на другие части гражданского общества, на политическое сообщество, в виде отрицания имморализма в политике, и экономическое сообщество, в виде новой этики бизнеса или корпоративной морали. Именно разочарование в качестве политических процессов в «нулевые» годы, нарастание в них большой доли отчужде- ния от власти и имитации заставили многих активных членов общества искать проявление своей социальной активности в решении «малых» дел в среде некоммерческого сектора.
Немаловажным моментом стремительного конституирования НКО и их органичного врастания в социальную ткань общества стала мобилизация в рамках НКО социальноинновационных сил общества. Учитывая значительный раскол российского общества по социокультурным и экономическим осям, опору социально-ориентированной политической модернизации следует искать в тех слоях общества, которые, не образуя большинство, осознанно заинтересованы в продолжении социально-политических изменений. Имеются в виду все те весьма разнородные в социально-профессиональном отношении группы, которые объединяет инновационная ориентация, практическое участие в модернизационном процессе. В их числе значительная часть среднего и малого бизнеса, современный менеджмент, множество представителей науки, образования, медицины и других видов высококвалифицированного труда, а также простые люди, в том числе широкие слои молодежи. Обнаружив благоприятную институциональную нишу в лице НКО, социально-инновационные силы сформировали тот сектор гражданского общества, который сегодня вполне конкурентоспособен наравне с аппаратнобюрократическими силами по своим организационным, профессиональным и научнотехническим критериям.
Вопрос о необходимости формирования в России эффективно действующего гражданского общества стал активно обсуждаться с начала 1990-х гг. Причем не только в научной среде. Российские политики всех уровней также постоянно заявляли о том, что без гражданского общества невозможно функционирование демократической политической системы. При этом почти 15 лет в России не было четко сформулированной государственной политики в отношении гражданского общества.
В период президентства Б.Н. Ельцина в стране появилось большое количество НКО, которые «росли без присмотра» при безразличном отношении государства, активно пользовались налоговыми льготами. В то время НКО в основном финансировались за счет зарубежных грантов, так как российский бизнес особо не стремился помогать такого рода организациям. Правительство РФ практически не проводило целенаправленной политики в отношении растущего сектора НКО, но и не мешало ему. Власть не определяла «третий сектор» как приоритетный, что, по замечанию Д.Н. Нечаева, сформировало «специфическое недоверие актива НКО к стилю действия властей и самому институту государства» [5, c. 34]. Предложение гражданских организаций наладить партнерские отношения ради решения проблем общества не получило в 1990-е гг. заметного развития, распространения и реализации. В то же время президент Б.Н. Ельцин и другие ведущие политики страны всегда декларативно заявляли о своей поддержке формирующемуся гражданскому обществу.
С приходом к власти В.В. Путина проблемы развития и функционирования в России гражданского общества не отошли на второй план, а, наоборот, стали более дискуссионными, чем раньше. Этому, в немалой степени, способствовало то, что ежегодно в своих Посланиях Федеральному Собранию Президент РФ уделял особое внимание этой теме. Так, выступая в 2000 г. со своим первым Посланием, В.В. Путин заявил: «Политика, построенная на основе открытых и честных отношений государства с обществом, защитит нас от повторения прежних ошибок, явится базовым условием нового «общественного договора»» [6, c. 3]. Тем самым президент подчеркнул, что власть в нашей стране готова идти на диалог с гражданским обществом, согласна налаживать с ним конструктивное взаимодействие, признает важность такого сотрудничества. Ведь «в условиях демократии невозможно представить себе политический процесс без участия неправительственных объединений, без учета их мнений и позиций» [7, c. 3]. Поэтому, «развитие в России институтов гражданского общества – это одна из важнейших задач, которая и дальше будет находиться в поле нашего зрения» [8, c. 3], – подчеркнул В.В. Путин на встрече с членами Совета по содействию развития институтов гражданского общества и правам человека, так как «без зрелого гражданского общества невозможно эффективное решение насущных проблем людей» [9, c. 3]. В целом эти слова подтверждаются реальными тенденциями роста числа НКО-организаций. По сведениям Госкомстата, представленным по запросу Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Государственной Думы РФ, количество некоммерческих организаций всех организационноправовых форм составляло на 1 января 2000 г. 484 989. По данным исследования, проведенного в 1999 г. Центром развития демократии и прав человека, «ядро третьего сектора составляют не менее 25 % НКО, поименованных в списках Минюста» [10]. По другим данным, из 275 тысяч НКО «70 тысяч вели активную реальную деятельность, в которой участвовало 2,5 миллиона человек, включая штатных сотрудников и добровольцев» [11]. По данным того же источника, в 1998 г. услугами НКО воспользовались до 30 миллионов человек (консультации, курсы, семи- нары, защита в суде, гуманитарная помощь и пр.). Совокупный ежегодный бюджет всех НКО исчислялся сотнями миллионов рублей.
В настоящее время в стране насчитывается 360 тысяч некоммерческих организаций (без государственных и муниципальных учреждений) [12]. С 2001 г. число НКО выросло на треть. Среди них 22 % занимаются оказанием социальных услуг, 17 % культурных и образовательных, столько же правозащитных, 11 % развивают жилищно-коммунальные виды деятельности и т.д. Показателями развития «третьего сектора» является не только разнообразие и широта спектра НКО, но и количество людей вовлеченных в сферу гражданской активности. Услугами НКО при решении различного рода социальных проблем (социальное сиротство, борьба с наркоманией и туберкулезом, гуманитарная помощь и реабилитация, экологические проблемы) ежегодно пользуются 15 % населения страны.
Существенным катализатором процессов развития некоммерческого сектора стало принятие Федерального закона № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». В соответствии с принятым законом социально ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных настоящим Федеральным законом формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.
Таким образом, мы видим, что в последнее время наметилась тенденция перераспределения центра тяжести гражданской активности от политических партий в сторону неполитических общественных объединений. Это обусловлено снижением эффективности функционирования государственных органов на местах, ответственных за четкую и бесперебойную систему жизнеобеспечения. А поскольку эти провалы государственная власть в регионах и на местах не успевает решить, активность граждан автоматически сосредоточилась на восполнение этого пробела. Таким образом, естественным путем начало складываться межсекторное социальное партнерство в решении повседневных социальных задач, которое пока еще плохо осознается государством, но уже хорошо понятно обществу [13, c. 10].
В целом, как свидетельствуют эксперты, идет «процесс импортозамещения институтов и ресурсов российского третьего сектора:
-
– постепенно усиливаются самоорганизация граждан (прежде всего, относящихся к среднему классу) и филантропическая активность бизнеса;
-
– ведущая роль в финансировании НКО переходит от зарубежных источников к отечественным;
-
– ослабевает влияние зарубежных доноров на формирование приоритетов сектора и моделей поведения ячеек;
-
– происходит структурный сдвиг в пользу неполитизированной благотворительности, образовательной и культурно-досуговой деятельности;
-
– складываются предпосылки постепенной консолидации сектора» [14, c. 55].
Говоря коротко, впервые в постсоветской истории начала формироваться ситуация, когда развитие «третьего сектора» идет по-настоящему «снизу», на собственной (а не государственной или внешней) ресурсной и институциональной основе . Социальной базой сектора становится формирующийся массовый средний класс. Это происходит в условиях, когда большинство населения проявляет «усталость» от политики, переключившись на обустройство частной жизни, когда широкие групповые интересы, в условиях незавершенности социальной модернизации, слабо отрефлексированы и артикулированы еще не полностью, а самоорганизация достигается, прежде всего, в локальных общностях , складывающихся вокруг ближайших повседневных проблем. Более того, и на локальном уровне самоорганизация сдерживается недостатком взаимного доверия, информированности и практических навыков добровольного продуктивного взаимодействия, что объяснимо в свете предшествовавшего опыта «травм транзита».
Но вектор развертывания самоорганизации «снизу вверх и вширь», насколько можно судить, определился. В итоге складывается новая и, по-видимому, жизнеспособная модель развития российского «третьего сектора», для которой характерны доминирование внутренних движущих сил, широкое разнообразие целей и форм некоммерческой активности, достаточно мирное сосуществование противостоящих друг другу идеологий и распространенность идеологически нейтральных инициатив, а также сосуществование и постепенная конвергенция несхожих организационных культур. Данная модель, в принципе, благоприятствует, пусть и небыстрому, формированию плотной среды добровольных общественных взаимодействий некоммерческого характера с перспективой усложнения их форм и актуализации менее «приземленных» интересов.
При определенных условиях (среди которых действия властей занимают, как и при становлении нынешней модели, заметное, но не главное место) это может привести к созданию в России базы для зрелой и устойчивой демократии. Ее непременным условием выступает не только доступность соответствующих процедур, но и их востребованность широкими коалициями самоорганизующихся структур, причем не сугубо верхушечных, а вырастающих «снизу» и в той или мере пронизывающих все общество. Значит, необходима, как минимум, развитость таких структур, чего в нашей стране до сих пор никогда не было. И развитие «третьего сектора», таким образом, толкает формирование политической системы к углублению ее демократического содержания, закреплению ее институтов на системном уровне и «укоренению» соответствующих им демократических ценностей.
Ссылки и примечания: References (transliterated) and notes:
-
1. Рогачев С.В. Российская модернизация в контексте теории социальных альтернатив // Модернизация и политическое развитие России на современной этапе: материалы международной научной конференции. М., 2010.
-
2. Термин «организация» в данном случае используется в широком понимании, принятом в институциональной экономике, которое не требует непременной правовой фиксации (Фуроботн Э., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной экономической теории. СПб., 2005).
-
3. McCartby, Katbleen D., Virginia A. Hodgkinson, Russy D. Summariwalla and Assosiates. The Nonprofit Sector in the Global Community. Voices from Many Nations. Jossey-Bass Publishers, San Fran-cisсo, 1992.
-
4. Cohen J. Strategy and identity: new theoretical paradigms and contemporary social movements. Social Research. 1985. Vol. 52. № 4.
-
5. Нечаев Д.Н. Гражданское общество и государство: концепции и модели взаимодействия // Институт государства и гражданское общество: модели взаимодействия: сб. науч. трудов. Воронеж, 2005.
-
6. Какую Россию мы строим. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 8 июля 2000 г. // Российская газета. 2000. 11 июля.
-
7. Послание Федеральному Собранию РФ Президента России Владимира Путина // Российская газета. 2007. 26 апреля.
-
8. О тюрьмах и прессе поговорили правозащитники и президент // Российская газета. 2007. 12 января.
-
9. Выступление Президента РФ В. Путина перед депутатами Федерального Собрания в Кремле // Российская газета. 2004. 27 мая.
-
10. Севортьян А. Территория НКО: границы открыты // Информационно-аналитический бюллетень АСИ. 2000. № 16 (46).
-
11. Якимец В.Н. Создание работающих механизмов социального взаимодействия – шанс для возрождения России // Материалы международной конференции «Россия в XXI веке: проблемы и перспективы». Иркутск, 2000
-
12. Мерсиянова И.В. Тенденции развития гражданского общества (по результатам эмпирического исследования) // М., 2010.
-
13. Якобсон Л.И. Российский третий сектор: от импорта к импортозамещению // Некоммерческий сектор: экономика, право, управление. Материалы международной конференции. М., 2007.
-
1. Rogachev S.V. Rossiyskaya modernizatsiya v kontekste teorii sotsialʹnyh alʹternativ // Modernizatsi-ya i politicheskoe razvitie Rossii na sovremennoy etape: materials of international scientific conference. M., 2010.
-
2. The term “organization” in this case is used in the broadest sense, adopted in institutional economics, which requires an indispensable legal fixation (Furo-botn E., Rihter R. Instituty i ekonomicheskaya teoriya: Dostizheniya novoy institutsionalʹnoy ekonomich-
eskoy teorii. SPb., 2005).
-
3. McCartby, Katbleen D., Virginia A. Hodgkinson, Russy D. Summariwalla and Assosiates. The Nonprofit Sector in the Global Community. Voices from Many Nations. Jossey-Bass Publishers, San Francis-so, 1992.
-
4. Cohen J. Strategy and identity: new theoretical paradigms and contemporary social movements. Social Research. 1985. Vol. 52. No. 4.
-
5. Nechaev D.N. Grazhdanskoe obshchestvo i gosudar-stvo: kontseptsii i modeli vzaimodeystviya // Institut gosudarstva i grazhdanskoe obshchestvo: modeli vzaimodeystviya: collection of scientific works. Voronezh, 2005.
-
6. Kakuyu Rossiyu my stroim. Poslanie Prezidenta RF Federalʹnomu Sobraniyu ot 8 iyulya 2000 g. // Ros-siyskaya gazeta. 2000. July 11.
-
7. Poslanie Federalʹnomu Sobraniyu RF Prezidenta Rossii Vladimira Putina // Rossiyskaya gazeta. 2007. April 26.
-
8. O tyurʹmah i presse pogovorili pravozashchitniki i prezident // Rossiyskaya gazeta. 2007. 12 yanvarya.
-
9. Vystuplenie Prezidenta RF V. Putina pered deputa-tami Federalʹnogo Sobraniya v Kremle // Rossiyskaya gazeta. 2004. May 27.
-
10. Sevortʹyan A. Territoriya NKO: granitsy otkryty // In-formatsionno-analiticheskiy byulletenʹ ASI. 2000. No. 16 (46).
-
11. Yakimets V.N. Sozdanie rabotayushchih mehanizmov sotsialʹnogo vzaimodeystviya – shans dlya vozrozh-deniya Rossii // Materialy mezhdunarodnoy konfer-entsii “Rossiya v XXI veke: problemy i perspektivy”. Irkut·sk, 2000
-
12. Mersiyanova I.V. Tendentsii razvitiya grazhdanskogo obshchestva (po rezulʹtatam empiricheskogo issledo-vaniya) // M., 2010.
-
13. Yakobson L.I. Rossiyskiy tretiy sektor: ot importa k importozameshcheniyu // Nekommercheskiy sektor: ekonomika, pravo, upravlenie. materials of international scientific conference. M., 2007.
Список литературы Организации «третьего сектора» как «точки роста» потенциала гражданского общества в современной России
- Рогачев С.В. Российская модернизация в контексте теории социальных альтернатив//Модернизация и политическое развитие России на современной этапе: материалы международной научной конференции. М., 2010.
- Фуроботн Э., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной экономической теории. СПб., 2005).
- McCartby, Katbleen D., Virginia A. Hodgkinson, Russy D. Summariwalla and Assosiates. The Nonprofit Sector in the Global Community. Voices from Many Nations. Jossey-Bass Publishers, San Francisas, 1992.
- Cohen J. Strategy and identity: new theoretical paradigms and contemporary social movements. Social Research. 1985. Vol. 52. № 4.
- Нечаев Д.Н. Гражданское общество и государство: концепции и модели взаимодействия//Институт государства и гражданское общество: модели взаимодействия: сб. науч. трудов. Воронеж, 2005.
- Какую Россию мы строим. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 8 июля 2000 г.//Российская газета. 2000. 11 июля.
- Послание Федеральному Собранию РФ Президента России Владимира Путина//Российская газета. 2007. 26 апреля.
- О тюрьмах и прессе поговорили правозащитники и президент//Российская газета. 2007. 12 января.
- Выступление Президента РФ В. Путина перед депутатами Федерального Собрания в Кремле//Российская газета. 2004. 27 мая.
- Севортьян А. Территория НКО: границы открыты//Информационно-аналитический бюллетень АСИ. 2000. № 16 (46).
- Якимец В.Н. Создание работающих механизмов социального взаимодействия -шанс для возрождения России//Материалы международной конференции «Россия в XXI веке: проблемы и перспективы». Иркутск, 2000
- Мерсиянова И.В. Тенденции развития гражданского общества (по результатам эмпирического исследования)//М., 2010.
- Якобсон Л.И. Российский третий сектор: от импорта к импортозамещению//Некоммерческий сектор: экономика, право, управление. Материалы международной конференции. М., 2007.