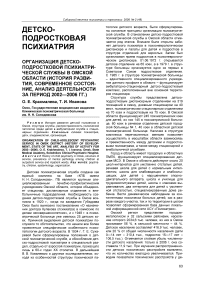Организация детско-подростковой психиатрической службы в Омской области (история развития, современное состояние, анализ деятельности за период 2002-2006 гг.)
Автор: Крахмалева О.Е., Иванова Т.И.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Детско-подростковая психиатрия
Статья в выпуске: 2 (49), 2008 года.
Бесплатный доступ
История развития детской психиатрии в Омске, структура службы, распространенность психической патологии среди детей в амбулаторной службе и стационарных отделениях
Психиатрия, дети, эпидемиология, организация
Короткий адрес: https://sciup.org/14295241
IDR: 14295241
Текст научной статьи Организация детско-подростковой психиатрической службы в Омской области (история развития, современное состояние, анализ деятельности за период 2002-2006 гг.)
Омск, Государственная медицинская академия Клиническая психиатрическая больница им. Н. Н. Солодникова
Р е з ю м е : История развития детской психиатрии в Омске, структура службы, распространенность психической патологии среди детей в амбулаторной службе и стационарных отделениях. Ключевые слова : психиатрия, дети, эпидемиология, организация.
ORGANIZATION OF CHILD-ADOLESCENT PSYCHIATRIC SERVICE IN OMSK DISTRICT (HISTORY OF DEVELOPMENT, STATE OF THE ART, ANALYSIS OF ACTIVITY FOR 2002—2006). O. E. Krakhmaleva, T. I. Ivanova. Omsk, State Medical Academy, Solodnikov Clinical Psychiatric Hospital. A b s t r a c t : History of child psychiatry in Omsk, structure of service, prevalence of mental pathology among children at outpatient service and inpatient wards. Key words : psychiatry, children, epidemiology, organization.
Детская психиатрическая служба создана как единый комплекс на базе «КПБ имени Н. Н. Солодникова». ПБ является крупным специализированным лечебно-профилактическим учреждением Омской области, которое объединяет стационар, диспансерные отделения и вне-больничные подразделения. Необходимость создания детско-подростковой службы в Омске возникла в 1920 г., когда на заседании Губздрава Омск было вынесено постановление «О назначении доктора Кулакова (психиатра) в комиссию по делам несовершеннолетних», и к 1948 г. в психиатрической больнице уже имелось 25 детских коек. Причиной выделения детской психиатрии послужило то обстоятельство, что начали все более проявляться специфические особенности психопатологии детского возраста. В 1934 г. Г. Е. Сухаревой были сформулированы положения о детской психиатрической службе, а обособление детско-подростковой психиатрии в специальный раздел, отдельно от взрослой психиатрии, произошло лишь в 60-х годах ХХ столетия. В дальнейшем В. В. Ковалевым и другими исследователями, исходя из особенностей структуры психической па- тологии детского возраста, были сформулированы основные принципы организации психиатрической службы. В становлении детско-подростковой психиатрической службы в Омской области отмечается ряд этапов. Вначале были открыты кабинет детского психиатра в психоневрологическом диспансере и палаты для детей и подростков в структуре отделений для взрослых. Затем был организован прием подростков в психоневрологическом диспансере. 01.06.1972 г. открывается детское отделение на 65 коек, а в 1979 г. в структуре больницы организуется одно из первых в Советском Союзе подростковое отделение. С 1985 г. в структуре психиатрической больницы – единственного специализированного учреждения данного профиля в области – функционирует амбулаторно-стационарный детско-подростковый комплекс, расположенный вне основной территории стационара.
Структура службы представлена детско-подростковым диспансерным отделением на 319 посещений в смену, дневным стационаром на 40 мест, психиатрическим стационарным отделением на 70 коек и подростковым на 75 коек. В Омской области функционируют 245 психиатрических коек для детей, из них 145 в психиатрической больнице, 60 коек в речевом отделении детской городской больницы № 1, 40 коек в областной детской психиатрической больнице. Наличие в структуре комплекса перечисленных звеньев позволяет осуществлять в масштабах области взаимосвязь и преемственность между детскими и подростковыми психиатрами, а также между стационарной и внебольничной службами.
Город и область имеют городскую и областную ПМПК, функционирует специализированная детская МСЭ. В Омске и области действуют около 20 школ-интернатов для умственно отсталых детей, речевая школа для детей с нормальным интеллектом, школы для слабовидящих и слабослышащих, для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата, школа и училище для трудновоспитуемых детей, школы с классами выравнивания, два интерната для детей с умственной отсталостью, специализированные дома ребенка. Вести динамическое наблюдение за контингентами психически больных детей, как в разрезе каждого участка, так и по территории в целом позволяет сформированная база данных локальной информационной сети АСУ «Психиатрия».
Омский регион представлен городом-мегаполисом и 32 сельскими районами, население которого 2034,6 тыс. человек, из них в Омске проживают 56 %, в сельской местности – 44 %. Детское население составляет 416,9 тыс. человек, или 20 % от общей численности населения (дети 0—14 лет – 310,4 тыс., подростки 15—17 лет – 106,5 тыс.). Отмечается стойкая убыль численности детского населения: только в 2006 г. она составила 11,9 тыс. При изучении распространенности детских психических расстройств выявлено, что их количество ежегодно увеличивается. Приводим показатели психических расстройств у де- тей на территории Омской области в динамике за 2002—2006 гг.
Число зарегистрированных детей 0—18 лет с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства в 2006 г. составило 2800, что несколько ниже 2005 г. Этот факт отмечается впервые за последние 10 лет и требует дальнейшего наблюдения. В 2006 г. наметилась тенденция снижения первичной заболеваемости детей и подростков, но показатели всё же несколько превышают среднероссийские данные. В таблице приведены различия структуры выявленных психических расстройств у детей, проживающих в городе и сельской местности (табл. 1).
Таблица 1
Первичная заболеваемость психическими расстройствами детей 0—14 лет и 15—17 лет на 100 тысяч соответствующего населения
|
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
||||||
|
Возраст (в годах) |
||||||||||
|
0—14 |
15—17 |
0—14 |
15—17 |
0—14 |
15—17 |
0—14 |
15—17 |
0—14 |
15—17 |
|
|
1 |
853,7 |
894,7 |
1008,1 |
634,9 |
1374,8 |
534,6 |
1528,9 |
971,9 |
1218,3 |
438,7 |
|
2 |
281,3 |
813,4 |
255,5 |
881,8 |
263,2 |
766,1 |
380,3 |
787,2 |
253,4 |
645,2 |
|
3 |
553,8 |
853,6 |
610,6 |
762,8 |
796,1 |
651,3 |
936,9 |
878,3 |
716,4 |
540,8 |
|
4 |
656,9 |
575,0 |
638,9 |
574,2 |
670,2 |
549,1 |
676,4 |
523,1 |
- |
- |
Примечание. В таблицах 1 и 3 приведены обозначения: 1 – город, 2 – село, 3 – область, 4 – РФ
Число детей с психическими расстройствами в селе выявляется меньше, чем в городе, что объясняется значительной удаленностью места проживания и низкой обращаемостью этой части населения. Выявляемость повышается в подростковом возрасте в связи с проведением обязательных осмотров в данной возрастной группе (приписка, призыв, поступление на учебу или работу). Это отражается в показателях первичной заболеваемости в возрастной группе 15—17 лет. Ниже приведены показатели первичной выявляемость детей и подростков в разрезе сельских районов области. Она неравномерная, так как в части районов нет врачей, а в части из них работают врачи-совместители, не имеющие подготовки по детской психиатрии (табл. 2).
Таблица 2
Первичная заболеваемость психическими расстройствами детей 0—14 лет и 15—17 лет в 2006 г. в разрезе нозологических форм на 100 тысяч соответствующего населения
|
Нозологии |
Город |
Село |
РФ (2005 г.) |
|||
|
0—14 лет |
15–17 лет |
0—14 лет |
15–17 лет |
0—14 лет |
15–17 лет |
|
|
Психозы |
12,1 |
33,4 |
11,1 |
26,6 |
13,2 |
25,0 |
|
в том числе шизофрения |
7,4 |
22,3 |
0,6 |
11,4 |
2,7 |
13,4 |
|
Непсихотические р-ва |
1108,2 |
364,3 |
87,9 |
111,9 |
545,7 |
369,2 |
|
Умственная отсталость |
97,9 |
40,9 |
154,2 |
506,6 |
117,5 |
128,9 |
|
Всего |
1218,2 |
438,6 |
253,2 |
645,1 |
676,4 |
523,1 |
Преимущественно наблюдаются дети с непсихотическими расстройствами (невротические, экзогенно-органические, нарушения психологического развития, поведенческие и эмоциональные расстройства и т. д.). До сих пор не решены вопросы изучения факторов риска возникновения и распространения психических расстройств в детско-подростковом контингенте, особенно молодежи, проживающей в сельской местности. Отсутствие в селе должностей детских психиатров приводит к позднему выявлению у детей отклонений в психическом здоровье, не позволяет своевременно приступать к оздоровлению, проведению реабилитационных мероприятий, оформлению ребенка в специализированный детский сад, коррекционную школу, где работает подготовленный персонал. Поэтому в сельских районах наблюдаются преимущественно дети с тяжелыми психическими заболеваниями и инвалидностью.
Определены показатели общей заболеваемости детей, страдающих психическими расстройствами (табл. 3). Группа консультативного наблюдения составила 61,6 %, диспансерного – 38,4 %.
Таблица 3
Общая заболеваемость психическими расстройствами детей от 0—14 лет и 15—17 лет на 100 тысяч соответствующего населения
|
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
||||||
|
Возраст (в годах) |
||||||||||
|
0—14 |
15—17 |
0—14 |
15—17 |
0—14 |
15—17 |
0—14 |
15—17 |
0—14 |
15—17 |
|
|
1 |
3095 |
4063 |
3437 |
4455 |
3947 |
4285 |
4168 |
4908 |
4198 |
4361 |
|
2 |
1555 |
3762 |
1503 |
4032 |
1606 |
3937 |
1591 |
3928 |
1546 |
3702 |
|
3 |
2288 |
3911 |
2415 |
4236 |
2664 |
4110 |
2839 |
4412 |
2819 |
4034 |
|
4 |
2791 |
3468 |
2817 |
3543 |
2840 |
3492 |
2909 |
3498 |
- |
- |
Число наблюдаемых детей 0—14 лет находится на уровне среднероссийских показателей. Однако этот показатель ниже в сельских районах области. Недостаточная работа с детьми 0—14 лет в последующем приводит к увеличению наблюдаемого контингента в группе подростков.
Распределение по нозологическим формам контингентов детей, страдающих психическими заболеваниями, соответствует данным РФ, однако в разрезе территорий (город и село) имеются различия (табл. 4).
Таблица 4 Общая заболеваемость психическими расстройствами детей 0—14 лет и 15—17 лет в 2006 г. в разрезе нозологических форм на 100 тысяч соответствующего населения
|
Город |
Село |
РФ (2005 г.) |
||||
|
0—14 лет |
15–17 лет |
0—14 лет |
15–17 лет |
0—14 лет |
15–17 лет |
|
|
Психозы |
128,9 |
325,3 |
55,7 |
132,8 |
86,0 |
173,5 |
|
в том числе шизофрения |
80,5 |
237,9 |
16,7 |
62,6 |
15,6 |
61,6 |
|
Непсихотические р-ва |
3114,4 |
2589,4 |
341,3 |
620,5 |
2030,6 |
1758,3 |
|
Умственная отсталость |
955,1 |
1446,2 |
1148,9 |
2948,9 |
792,1 |
1565,9 |
|
Всего |
4198,4 |
438,6 |
1545,9 |
3702,2 |
2908,7 |
3497,7 |
При распределении контингентов по нозологиям группам отмечается превышение в группе психотических расстройств, в том числе шизофрении, что объясняется ранней диагностикой данной патологии, позволяющей своевременно приступить к лечебно-реабилитационным мероприятиям. Умст- венная отсталость у детей сельских районов диагностирована чаще, чем у детей, проживающих в городе.
Распределение подростков 15—17 лет по нозологическим формам отличается в разрезе города и села. Выявляемость непсихотических расстройств значительно выше, чем в селе. Это обусловлено возможностью проведения динамического наблюдения детским врачом-психиатром и дополнительного обследования ребенка у специалистов смежных специальностей. Показатель общей заболеваемости детей 0—14 лет с психической патологией в 2005 г. по области в целом увеличился на 6,5 %, что указывает на внимание психиатров к детскому контингенту и соответствует среднероссийскому показателю. Однако он значительно ниже в сельских районах области, так как там нет выделенных для этой работы специалистов по детской психиатрии, врач-психиатр обслуживает все население закрепленной за ним территории. Недостаточная работа с детьми 0— 14 лет в последующем приводит к росту данного показателя у лиц 15—17 лет в связи с проведением обязательных осмотров в данной возрастной группе по приписке, призыву, поступлению на учебу или работу. Первичный выход на инвалидность среди детей 0—17 лет, так же как и общей инвалидности, остается достоверно выше, чем на территории РФ (табл. 5). Однако факт того, что показатели общей инвалидности по психическому расстройству у детей продолжают расти как на территории Омской области, так в РФ, в очередной раз подчеркивает важность проблемы организации помощи детям с психическими расстройствами.
Таблица 5
Показатели инвалидности детского населения 0—17 лет на 100 тысяч детского населения по психическим заболеваниям в РФ и Омской области
|
Годы |
Первичный выход на инвалидность |
Общая инвалидность |
||
|
Омская область |
РФ |
Омская область |
РФ |
|
|
2002 |
62,6 |
61,7 |
511,3 |
360,5 |
|
2003 |
62,1 |
49,2 |
523,9 |
394,8 |
|
2004 |
73,4 |
47,3 |
548,6 |
403,2 |
|
2005 |
84,6 |
50,1 |
579,6 |
424,8 |
|
2006 |
64,8 |
- |
568,4 |
- |
Таким образом, показатели деятельности детско-подростковой службы Омской области подчеркивают высокое распространение психических расстройств среди детского населения Омской области и в очередной раз указывают на необходимость не только дальнейшего изучения данного вопроса, но и внедрения новых форм деятельности детских психиатров, направленных не только на лечение но и на превенцию детских психических расстройств.
ДИНАМИКА ФОБИЙ В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
А. Г. Головина
Москва, ГУ Научный центр психического здоровья РАМН
Р е з ю м е : Проанализированы результаты клинико-катамнестического обследования 314 пациентов (257 юношей, 57 девушек) 15—17 лет с признаками фобических расстройств по критериям МКБ-10. Лишь у 7,3 % этих больных не обнаруживалось страхов до начала пубертата. Возрастная динамика фобического синдрома у подростков соотносилась с этапами процесса психосоциального развития личности. Исследование частотного распределения в спектре фобических сюжетов показало, что у подростков преобладал страх темноты в анамнезе (38,8 %), на втором месте оказались социофобии (12,5 %), на третьем – зоофобии (9,4 %), другие фабулы были более редкими. Ключевые слова : подростки, фобические расстройства, распространенность, возрастная динамика, спектр фобических сюжетов.
PHOBIA’S DYNAMIC IN THE AGE OF CHILD ADOLESCENCE. A. G. Golovina A b s t r a c t : The object of analyses were the results clinical-catamnestic inspection of 314 patients (257 males, 57 females) of 15—17 years old with the indicators of phobic disorders according to the criterions of ICD-10. Only 7,3 % this patients no detected the fears before the age of adolescence Age dynamics of phobic syndrome correlated of the stages processes psycosocial personality’s development. Research of frequency allocation in a spectrum of phobic plots demonstrated, that the fear of darkness prevailed among the adolescents (38,8 %), on the second place have appeared social phobic (12,5 %), on the third zoophobia (9,4 %), others fabula met less often. Key words : adolescents, phobic disorders, spreading, age dynamics, spectrum of phobic plots.
Проблема страхов, в основе которых лежит эпикритическая тревога, имеет длительную историю. В ходе фило- и онтогенеза человек постоянно сталкивается с потенциально опасными или представляющими реальную угрозу объектами и ситуациями. Хотя «детские фобии являются не только прообразом более поздних…, но и непосредственной их предпосылкой и прелюдией» (З. Фрейд) и их значимость для личности не вызывает сомнений, вклад синдромов страхов и фобий в психопатологическую картину расстройств детско-подросткового возраста исследован недостаточно. Ни одна из предлагаемых общепризнанных классификаций страхов/фобий у детей (в том числе и общепринятая для взрослых больных) не является свободной от недостатков.
Так, еще G. Longfeldt (цит. по [2]) подразделил все фобии у детей на четыре группы: особых ситуаций, опасностей окружающего мира, дисфункций собственного организма, совершения насилия над собой. L. Miller et al. [12] для детей 7—12 лет выделяли 4 базовые категории страхов: страх физического повреждения и разлуки; страх естественных природных явлений, животных и др.; социальная тревожность; смешанная категория.
В различные временные периоды и в культурально не схожих детских популяциях выявлялись сходные сюжеты и периодичность возникновения базовых страхов [3, 7, 14]. Сопоставление данных первой половины ХХ века с полученными в последние годы показало снижение возраста, в котором впервые появляются фабулы опасений. Обращает на себя внимание диссоциация между высокой распространенностью некоторых сюжетов страхов/фобий и законами вероятности и вероятностного прогнозирования. Например, вероятность быть укушенным змеей составляет 1 к 1 млн (а вероятность смерти от этого укуса еще ниже), возможность гибели на пожаре – 1 к 40 тыс. [9], страх змей встречается неизмеримо чаще.
Основная часть исследователей, занимающихся проблемами страхов, полагают, что главное различие между страхом и фобией в детском возрасте – это соответствие первых по фабуле и периоду возникновения возрастным параметрам и отсутствие их дисфункционального влияния на повседневную жизнь и функционирование развивающейся личности. M. Rutter [13] утверждает, что до 2—3 лет у ребенка в норме преобладают тревога и страх, связанные с боязнью чужих людей и незнакомых предметов, разлуки с матерью, являющейся основным объектом его привязанности. По данным Last et al. [10], 3,5—4 % детей в общей популяции обнаруживают признаки страха разлуки, до 3 лет являющегося нормальным феноменом развития. Х. Ремшмидт [5] полагает, что наличие его элементов не может расцениваться как патология (при отсутствии дезадаптивного влияния на повседневную жизнь ребенка) вплоть до достижения препубертата. Затем до 5 лет превалируют страхи темноты и животных. К 5—7 годам, по его данным, на первое место выходят страхи воображаемых существ. Показатели распространенности фобических сюжетов в детской популяции очень приблизительны. C. Gillberg [1] считает, что страх собак испытывает каждый третий учащийся младших классов. Согласно данным С. Шнайдер [14], распространенность фобий в общей популяции детей и подростков меняется следующим образом: специфические фобии в возрасте 8 лет составляют 5,2 %, 14—15 – 3,1 %; социальные фобии – 8 лет – 0,4 %, 14—15 – 2,0 %; агорафобии – 8 лет – 0 %, 14—15 – 4,9 %. К 16—17 годам эти показатели возрастают до 4,9, 2,6 и 5,2 %. По результатам исследования A. M. Albano et al. [6], 11 % подростков, наблюдающихся психиатрами, обнаруживают клинически оформленные фобические расстройства.
Цель – анализ возрастной динамики фобических расстройств у подростков, начиная с момента их появления.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе подросткового кабинета ПНД № 21 г. Москвы и Медико-педагогического лечебнореабилитационного подросткового центра при ГКПБ №15 г. Москвы. С использованием клинико-катамнестического метода были обследованы подростки 15—17 лет, обращавшиеся за лечебноконсультативной помощью в эти учреждения в 2004—2007 гг. и обнаруживавшие на момент осмотра фобические расстройства по критериям
МКБ-10. Из исследования исключались лица со злокачественными формами психических болезней, тяжелой соматоневрологической патологией, выраженной умственной отсталостью, а также больные, достоверные анамнестические сведения которых оказались недоступны. Были проанализированы данные 314 пациентов (257 юношей, 57 девушек).
Результаты и их обсуждение. У 314 пациентов выявлено 762 сюжета страха. Все фобические феномены, обнаружившиеся у обследованных подростков, по критерию возраста манифестации были разделены на три группы: впервые появившиеся в дошкольном возрасте (1—6 лет) – «раннее детство» по градации, приводимой Г. Крайг [4], на этапе начала школьного обучения (7—10 лет) – «среднее детство», в препубертате и пубертате (11—17 лет). У подавляющего большинства больных те или иные страхи выявлялись с детства. Лишь у 23 (7,3 %) не удалось обнаружить симптомов детских страхов или фобий до начала подросткового возраста, что свидетельствует о склонности к формированию симптоматики фобического круга.
Таблица 1
Фобические сюжеты, выявленные у подростков
|
Фобические сюжеты |
абс. |
% |
|
Страх темноты |
292 |
38,3 |
|
Страх социальных ситуаций, собственной несостоятельности |
95 |
12,5 |
|
Страх высоты |
59 |
7,7 |
|
Страхи одиночества, разлуки, потери |
34 |
4,5 |
|
Страх сказочных персонажей |
45 |
5,9 |
|
Страх открытого/замкнутого пространства |
63 |
8,3 |
|
Страх загрязнения |
5 |
0,7 |
|
Страх нападения |
9 |
1,2 |
|
Страх смерти |
35 |
4,6 |
|
Страх глубины |
25 |
3,3 |
|
Страх медицинских манипуляций |
3 |
0,4 |
|
Страх заражения |
7 |
0,9 |
|
Страх животных/насекомых |
72 |
9,4 |
|
Страх лишнего веса |
3 |
0,4 |
|
Страх изнасилования, похищения |
3 |
0,4 |
|
Страх громких звуков |
8 |
1,0 |
|
Другие страхи |
4 |
0,5 |
|
Всего |
762 |
100,0 |
Фобические расстройства, возникающие в различные возрастные периоды, различаются долевой представленностью вариантов; их конкретным сюжетным оформлением, соответствующим определенному этапу созревания; ситуации развития (включая социальную); клинико-динамическим параметрам других обнаруживаемых расстройств, если речь не идет о фобии как моносимптоме.
В первой группе, где появление страхов относилось к дошкольному возрасту, преобладающим оказался страх за собственную безопасность, связанный с воображением. Он проявлялся классической возрастной триадой (темноты, одиночества и сказочных персонажей, в том числе действующих лиц фильмов ужасов). Отмечались простые фобии (пространственные, страхи живот-ных/насекомых, громких звуков).
Страх темноты обнаруживался у подавляющего большинства обследованных (292 чел.), начиная с 3-летнего возраста. Он проявлялся боязнью ложиться в кровать одному в темной комнате, дети настаивали на том, чтобы им оставляли гореть ночник, приоткрывали дверь в освещенный коридор. Нередко оказывалось, что ребенок боится идти вечером в темное помещение, просит проводить его в туалет или ночью пробегает туда по коридору с закрытыми глазами, чтобы не видеть темноты вокруг, периодически уговаривает старших заглянуть под кровать, чтобы убедиться, что там не притаился кто-то чужой и опасный. Чаще всего этот страх самостоятельно исчезал к 7—8 годам, но мог сохраняться и до 11—12, иногда вновь обнаруживаясь или резко усиливаясь при ухудшении состояния (обычно при появлении конгруэнтных по знаку аффективных расстройств, невротических нарушений, реакций). Лишь у нескольких пациентов он сохранялся в подростковом возрасте. Примерно те же закономерности наблюдались у больных с возникавшим в детстве страхом одиночества, но обнаруживался он в меньшем числе случаев.
Страх сказочных персонажей (39 юношей, 6 девушек) – конкретные сюжеты страхов отличались от описанных в литературе, например, отсутствовал классический и один из самых частых детских страхов – страх Волка (Захаров А. И., 2005). Зато перечень фантастических персонажей включал кроме Бабы Яги и Кощея Бессмертного, «Бабайку», Снежную Королеву, злых волшебников, привидений, вампиров, оживший полумесяц из заставки передачи «Спокойной ночи, малыши» и т. д. Почти всегда они исчезали к 7—8 годам; в подростковом возрасте сохранялись лишь у пациентов с умственной отсталостью легкой степени или страдавших рано дебютировавшей детской шизофренией, отражая выраженное отстава-ние/искажение психологического созревания.
Страх высоты (48 юношей, 11 девушек) возникал аутохтонно у пациентов в младшем дошкольном возрасте, никак не коррелировал с событиями их повседневной жизни, соматическими вредностями, личностными свойствами, существовал изолированно от других психопатологических расстройств. Акрофобия в подавляющем большинстве случаев сохранялась и к началу юношеского возраста. У пациентов с детства оставалось первоначальное неразвернутое формально-психологическое объяснение сюжета опасений («боюсь упасть и разбиться»). Избегающее поведение проявлялось отказом от посещения открытых смотровых площадок, катания на колесе обозрения, занятий горно-лыжным спортом, реже – нежеланием выходить на балконы верхних этажей высотных домов, выбором маршрутов, сводивших к минимуму проходы по мостам.
Возникновение боязни глубины (24 юноши и 1 девушка) оказалось связанным по времени с началом освоения ребенком навыков плавания (обычно это происходило в старшем дошкольном, реже – младшем школьном возрасте). Особенно- стью его в пубертате оказался вектор опасений, направленный не на вполне реальную возможность возникновения несчастного случая во время пребывания в воде (судороги, нехватка сил и т. д.), которая могла быть следствием потери самоконтроля, как это часто имеет место у взрослых. Подростки боялись таящейся в глубине воображаемой опасности («неприятной живности», «водных хищников», неопределенно-враждебных существ). Такое содержание опасений отражало значимость компонента детского фантазирования наряду с несформированностью вероятностного прогнозирования, свидетельствовало о психологической незрелости пациентов, формируя у подростков стереотип избегания природных водоемов, особенно с малопрозрачной водой. К концу пубертатного периода страх глубины частично утрачивал актуальность, около трети страдавших им подростков были способны заниматься плаванием в условиях бассейна.
Боязнь громких звуков (работающих бытовых электроприборов, грома, салюта, аттракционов) встречалась в единичных случаях (7 юношей, 1 девушка), выявляясь в 3—5 лет, обнаруживалась только у мальчиков, уже к началу препубертата редуцировалась самостоятельно и полностью, практически не требуя терапевтического вмешательства.
Страх животных (68 юношей, 4 девушки). В подавляющем большинстве случаев касался собак, возникал у дошкольников, реже – у учащихся младших классов по механизму реакции после эпизода нападения животного на ребенка. Особенностью существования данного реактивного образования являлись его длительность и стойкость. Если интенсивность канеофобии в остром периоде соотносилась с тяжестью травмы (в том числе с ее объективными, физическими последствиями – наложением швов, курсом инъекций от бешенства), то дальнейшее ее существование в большей степени определялось личностными свойствами пациента. Чем более выраженным оказывался тревожный радикал и склонность к застреванию на травматическом опыте, тем дольше сохранялись интенсивные и аффективно заряженные проявления данного страха. С возрастом в большинстве случаев (кроме больных эндогенного круга) он приобретал дифференцированный характер («боюсь больших собак, они могут укусить», «страшно, если встречаюсь на улице с бездомными собаками»), редуцировался к концу пубертата, соотносясь с психологическим созреванием, а также приобретенным подростком опытом безопасного поведения. Страх змей, описанный многими авторами как часто встречающийся в популяции, определялся лишь у 5 подростков, практически не влиял на их повседневное функционирование, сохраняясь в неизменном виде в течение многих лет. Из психологически менее понятных зоофобий выявились два случая страха птиц (ворон), еще у одного из подростков объектом фобических переживаний являлась домашняя коза. Если у предыдущих пациентов фобии не обнаруживали нозологическую специфичность, то в трех последних случаях выявлялись признаки рано начавшегося эндогенного процесса с формированием психического инфантилизма, в фабуле опасений наряду с реально существующей опасностью легко прослеживались элементы детского фантазирования.
Несмотря на имевшийся у подростков опыт болезней и прохождения лечебно-профилактических процедур, зачастую объективно неприятных, редкой (3 случая) оказалась боязнь врачей (включая стоматологов ) и медицинских манипуляций , редуцировавшаяся к предпубертатному периоду.
Во второй группе, которую составляли фобии, возникавшие в «среднем» детском возрасте, обнаруживались страхи смерти, проецировавшиеся на себя и на значимых других (родители, близкие родственники), социофобии, агорафобические нарушения. В период второго возрастного криза у обследованных впервые появлялись страх за жизнь и здоровье (собственные и родителей), опасения несчастных случаев, болезней, потенциально возможных катастроф. На этот же возраст приходилась первая манифестация страха смерти . Относительно редкий в детстве (6 юношей, 3 девушки), в пубертате он выявлялся гораздо чаще (26 чел., из них 19 девушек). В детстве он появлялся аутохтонно, почти всегда вне связи с психотравмирующими ситуациями, связанными с потерей близких. Аффективная заряженность его была умеренной, нередко дети проявляли повышенный интерес к теме смерти, часто расспрашивали о ней («а я тоже умру?») и связанных с ней ритуалах. В подростковом возрасте танатофоби-ческие переживания выступали в структуре депрессивных нарушений, в том числе и в рамках депрессивно-фобических, тревожно-депрессивных реактивных состояний, коррелируя с выраженностью аффективных расстройств, ослабевая или исчезая по мере их разрешения. Страх смерти являлся неотъемлемой составляющей клиники панических атак, практически исчезая с их окончанием, в несколько менее выраженной степени присутствовал на высоте состояния в картине острых аффективно-бредовых состояний.
Начало школьного обучения способствовало появлению социофобий на этапе второго и третьего возрастных кризов (7 и 10—11 лет), возникая у лиц с тревожно-сензитивными или драматическими личностными свойствами (95 чел.). Чаще всего они проявлялись в форме школьной фобии, страха публичных выступлений, эрейто-фобии и, однажды появившись, не менялись по вектору направленности, не обнаруживали тенденции к аутохтонному расширению ситуаций, вызывающих страх, напротив, с возрастом субъективно воспринимались как менее тягостные. Более чем у половины пациентов отмечалось послабление фобической симптоматики сразу же по завершении школьного обучения, исчезновение избегающего поведения, которые нельзя объяснить лишь снижением учебной нагрузки, так как подростки продолжали учебу (в том числе в ву- зах). Видимо, это свидетельствует о наличии «школьного» стресса, оказывающегося травматичным для данной категории больных.
В дошкольном возрасте они были единичными находками, наблюдались только у больных с рано начавшимся эндогенным процессом, существовали в редуцированном виде, начиная с 4—5 лет, уже тогда зачастую нося оттенок чрезмерности, нелепости. Больные опасались не только сверстников, но и проходящих мимо людей на улице, младенцев, знакомых родителей. Их возникновение и динамика в большей степени соотносились с закономерностями течения шизофрении, в том числе с вариантами формировавшегося дефекта. С возрастом такие фобии усложнялись, становились все более вычурными, часто принимали форму страха потери контроля за собственными физиологическими актами (упускание кишечных газов и т. д.) или их отправлением в общественных местах (мочеиспускание, дефекация, реже -прием пищи).
Агорафобические феномены оказались широко распространенными (56 юношей, 7 девушек) причем агорафобия обнаруживалась реже, чем боязнь закрытых пространств. При первом варианте расстройств подростки ощущали крайнюю степень дискомфорта не только на открытых пространствах, но и в больших зданиях с высокими потолками (соборы, музеи), где наряду со страхом у них возникало чувство собственной «ничтожности», беззащитности, беспомощности перед представляющимся огромным окружающим миром.
Страх закрытых пространств чаще проявлялся боязнью поездок в лифте, метро. Опасение «застрять» в лифте нередко возникало после столкновения с подобной ситуацией в реальной жизни, приходилось на возраст 7—8 лет; страх же пользования метро оказывался аутохтонным, изредка появлялся в структуре вторичной агорафобии после панической атаки. В этих случаях его появление приходилось на поздний пубертат (16—17 лет). Панические атаки, предшествующие агорафобии у взрослых и определяющие формирование у них избегающего поведения, в подростковом контингенте были относительно редки. У многих пациентов, несмотря на хронический характер расстройства, оно не определяло состояние больного, оставалось стабильным по своей аффективной заряженности. Нередко отсутствовала характерная для взрослых логическая цепочка, формально объясняющая фабулу страха. Подростки ограничивались простой констатацией факта наличия опасений, не пытаясь объяснить, какими последствиями может им грозить пугающая ситуация.
Страх пользования лифтом тяготел к регреди-ентному течению, сохраняясь к концу подросткового возраста лишь в виде аффективно нейтральных остаточных нарушений («неприятно себя чувствую в лифте», «не люблю его»).
Появление фобических образований, характерных для подросткового возраста (третья группа), отчасти связано с новыми для личности си- туациями, возникающими в процессе взросления, с большей автономностью, самостоятельностью функционирования.
Социофобии, впервые возникавшие к 15—17 годам, выявлялись как одна из составляющих в структуре клинической картины других психопатологических феноменов (реактивных образований, аффективных расстройств, субпсихотических/ психотических эпизодов). От опасений, свойственных более раннему возрасту, их отличал характер фабулы страха. В детстве она ограничивалась боязнью получить замечание, не ответить на глазах класса, быть непринятым в игру, избитым. В пубертате появлялся страх собственной несостоятельности, боязнь оказаться «не таким как все», «хуже других», «не состояться», «приобрести клеймо неудачника». Напряженность переживаний усугублялась тем, что подростки со свойственными их возрасту максимализмом и эгоцентризмом были убеждены, что являются объектом повышенного внимания со стороны окружающих, что их недостатки будут замечены и подвергнуты осмеянию сверстниками. Именно это делало такими мучительными социофобические реакции, возникавшие в ответ на реальную или преувеличенную ситуацию публичного унижения.
Страхи одиночества, разлуки, потери имели ряд отличий. У детей они ограничивались боязнью оставаться одному в комнате, квартире, в подростковом же возрасте речь шла о страхах в структуре депрессивных симптомокомплексов, связанных с будущим, воспринимавшимся как что-то пугающее, с возможностью оказаться эмоционально одиноким, неустроенным, никому не нужным.
Страхи нападения оказались единичными (6 девушек, 3 юноши). Они возникали после 13—15 лет, в структуре реактивных образований в ответ на психотравмирующую ситуацию и соответствовали клинико-динамическому стереотипу острой реакции на стресс.
Страхи похищения, изнасилования обнаруживались в структуре реактивных/эндореактивных состояний у 3 человек (2 юноши, 1 девушка). Ситуация изнасилования, в которой оказались двое подростков (1 юноша, 1 девушка) воспринималась ими по-разному. У юноши она ограничилась рамками относительно короткой депрессивнофобической реакции. У девушки же (подвергшейся помимо группового изнасилования длительной ситуации судебного разбирательства) клиническая картина соответствовала критериям ПТСР с наличием помимо фобических проявлений флэш-бэков, выраженных аффективных нарушений.
У 7 пациентов (5 юношей, 2 девушки) в структуре неврозоподобного синдрома эндогенного генеза имелись нозофобии, проявлявшиеся навязчивыми опасениями и тревожными размышлениями на тему о возможном наличии соматонев-рологической патологии. Подростки были озабочены поиском у себя симптомов инфекционных заболеваний (опасаясь передающихся половым или парентеральным путем при отсутствии эпизодов интимных отношений/переливания крови), «прислушивались» к незначительным изменениям физического состояния, перепроверяли полученные отрицательные результаты, для чего обращались к различным врачам, повторно сдавали анализы на ВИЧ, сифилис и т. д. Эти фобические образования отличались стойкостью, трудно поддавались курации, их появление и динамику определяла прогредиентность заболевания.
Страх появления лишнего веса (3 девушки) возникал в препубертатный период на фоне начала физиологического и экзистенциального возрастного криза. Он проявлялся синдромом анорексии с боязнью набора лишнего веса, воображаемого внешнего уродства (доходившей до дисморфома-нического уровня), утрированными опасениями «утратить спортивную форму». Подростки боялись собственной непривлекательности, несоответствия недостижимому образу «идеального физического Я», что не только сближало их с описанным в последние годы «страхом утраты красоты», но и нередко маскировало опасения возможной будущей неуспешности, несостоятельности, одиночества.
Страх загрязнения (5 чел.) возникал в пубертате при вялом течении эндогенного процесса. Помимо навязчивых размышлений (носящих стереотипный характер обсуждений собственных гигиенических проблем, сомнений с близкими) на тему, произошло ли загрязнение, какова его степень, быстро формировались ритуалы «мытья и очищения», которые пациенты не только выполняли сами, но педантично заставляли соблюдать родных. Чтобы избежать соприкосновения с микробами, грязью подростки дотрагивались до «опасных» объектов через ткань, носили перчатки и теплую одежду в общественных местах. Выполнение этих действий сопровождалось утрированно небрежным отношением к стандартным гигиеническим процедурам.
Обсуждение . Клинико-динамические особенности фобических расстройств у подростков соотносились с этапами процесса развития личности, что можно было проследить, на примере периодичности возникновения свойственных определенному возрасту «нормальных» страхов [5, 11]. У небольшой части пациентов фобическая симптоматика появлялась с началом подросткового возраста. В большинстве случаев обследованные с детства обнаруживали склонность к формированию фобий, клиническое оформление которых отражало психопатологические и возрастные закономерности.
Поскольку в данной работе изучались фобии у подростков с психической патологией, показатели общепопуляционных исследований могут от них отличаться. Анализ детских страхов носил ретроспективный характер, что позволило выявить их лишь частично. Клинический опыт показывает, что если нарушения поведения отмечаются родителями даже в тех случаях, когда не являются проявлением психической патологии, то симптоматика детских страхов нередко игнорируется окружающими, так как зачастую расценивается как элемент развития ребенка. На фиксацию факта наличия страхов оказывают влияние и культуральные стереотипы. Социальный стандарт «идеального» поведения предписывает детям, особенно мальчикам (доля которых среди обследованных более 80 %) предъявлять минимум жалоб на свое эмоциональное состояние (включая тревогу и страх), что приводит к их диссимуляции. Кроме того, ребенок на ранних этапах созревания имеет узкий спектр форм реагирования на стрессовые события повседневной жизни. Одной из распространенных является реакция страха, которая может оказаться транзиторной, в силу ее кратковременности юный пациент зачастую не вербализует ее, не фиксирует в памяти. В работе рассматривались лишь те страхи, наличие которых удалось четко верифицировать.
Полученные результаты демонстрируют значимость проблемы возрастного аспекта фобических нарушений и позволяют лучше оценить их вклад в формирование психопатологических образований в подростковом возрасте, уточнить прогностическую значимость состояний, в структуре которых имеется фобическая симптоматика.