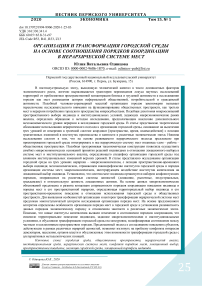Организация и трансформация городской среды на основе соотношения порядков координации в иерархической системе мест
Автор: Одинцова Юлия Витальевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu
Рубрика: Экономическая теория
Статья в выпуске: 1 т.15, 2020 года.
Бесплатный доступ
В постиндустриальную эпоху, выводящую человеческий капитал в число доминантных факторов экономического роста, логично вырисовывается траектория перемещения локуса научных исследований территорий от проблематики пространственной концентрации бизнеса и трудовой активности к исследованию городов как мест размещения центров неформальной общественной, потребительской и гражданской активности. Подобный человеко-соразмерный масштаб организации городов закономерно вызывает переключение исследовательского внимания на функционирование общественных пространств, как третьих мест в иерархии потребления городского пространства микросубъектами. Подобная дихотомия микрооснований пространственного выбора индивида и институциональных условий, задающих макроэкономические рамки анализа, определила обращение к методам исследования, предполагающим инклюзию дополнительного мезоэкономического уровня иерархии в исследование городской среды. В статье представлено теоретическое обоснование использования иерархического подхода к организации городской среды, основанное на выделении трех уровней ее измерения в троичной системе координат [пространство, время, взаимодействие] с позиции транзитивных изменений в институтах производства и занятости в различные экономические эпохи. Новизна исследования состоит в том, что на основе развиваемого иерархического подхода предложено при проектировании городской среды интегрировать в нее иерархическую систему мест индивида «дом - работа - общественные пространства». Подобная трехуровневая таксономическая конструкция позволила осуществить симбиоз микроэкономических оснований принятия решений индивидами в отношении локационного выбора в системе мест и институционального анализа, определяющего специфику организации городской среды под влиянием институциональных изменений верхних уровней. В статье представлено исследование организации городской среды на трех уровнях иерархии - микроэкономическом, с позиции пространственно-временного выбора индивида; мезоэкономическом, отражающем взаиморефлексию институтов городской среды и порядка организации системы мест; макроэкономическом, интегрирующем воздействие институтов капитализма на локационный выбор индивида. Установлено, что система мест индивида организуется набором конфликтующих порядков, опирающихся на различные системы ценностей (домашние, рыночные, индустриальные, гражданские) и относительную ценность локационных активов. На основе данных микроэкономических обоснований предложена и развита концепция сопряженности порядков координации поведения индивида и порядка мест в его пространственной иерархии, определяющая территориальный выбор индивида и его пространственно-временное поведение в отношении использования городской среды и общественных пространств. Для выявления особенностей организации и векторов трансформации иерархической системы мест предложен многоступенчатый алгоритм исследования организации порядка мест. На основе предложенного алгоритма определены особенности организации порядка мест в городской среде и установлена релевантность данных порядков экономическому порядку и отношениям занятости в различные экономические эпохи. Показано, что новые институты капитализма вызвали изменение в соотношении порядков координации, что изменило территориальное поведение индивидов, заданное макроэкономическими и институциональными условиями, и обусловило трансформацию городской среды на мезоуровне, модифицировав соотношение между частным и коллективным пространством городов. Предложенный подход к согласованию поведения субъектов, действующих в рамках различных иерархий ценностей, позволяет взглянуть на проблему конфликта интересов девелоперов, населения, органов власти и обусловленные этим возможности трансформации городской среды с альтернативных методологических позиций.
Городская среда, общественные пространства, иерархический анализ, институциональная среда, иерархическая система мест, конфликт порядков мест, локационный выбор, пространственное поведение, эволюция городской среды, локационный портфель индивида
Короткий адрес: https://sciup.org/147246804
IDR: 147246804 | УДК: 316:330.341.4 | DOI: 10.17072/1994-9960-2020-1-25-83
Текст научной статьи Организация и трансформация городской среды на основе соотношения порядков координации в иерархической системе мест
Во второй половине ХХ века в развитых странах произошли глубинные трансформации в системе общественного производства, обу- словленные технологическими и институциональными факторами. Кроме реализованных в развитых европейских странах реформ по децентрализации территориального управления с расширением самостоятельности муниципальных образований, произошли преобразования в системе организации промышленного производства, отражающие изменения в институтах капитализма. Переход к новой модели регуляции вывел в число приоритетных новые факторы экономического роста, такие как территории и конкретные местности [1]. В рамках подхода, где оптика научной проблематики смещена с предприятий на территории, объектами исследования стали разного рода локальные производственные системы (промышленные районы, дистрикты, технополисы, кластеры и пр.), основанные на горизонтальной организации взаимодействия. Большая часть спектра исследований российских ученых покрывает именно данные проблемные области [2–5]. Однако подобная смена акцен- тов коснулась не только производственных систем, но и включила в орбиту научных исследований ключевой ресурс урбанизированной территории – городскую среду. В научных трудах исследователей территорий начинает утверждаться точка зрения о том, что социально-экономическим капиталом территорий выступает именно городская среда, определяющая привлекательность жизни и возможность выражения гражданской позиции для населения, удобство ведения бизнеса и использования агломерационного эффекта для компаний и разнообразие впечатлений для «внешних» потребителей [6–10]. В этом ключе меняется ракурс городской политики, она приобретает сервисный, подчиненный интересам людей, характер. В условиях растущей мобильности труда и капитала муниципальные администрации, чтобы удержать ресурсы на своей территории, должны удовлетворять асимметричные мультипотребности и интересы различных субъектов городской среды. С этой позиции город представляется как «комплекс компетенций» [11, с. 168] по созданию качественной городской среды. Если исследователей городского развития конца ХХ – начала ХХI в. город интересует прежде всего как территория, концентрирующая места предпринимательской и трудовой активности [12; 13], то уже в первом десятилетии ХХI в. исследовательский интерес постепенно поворачивается в сторону города как места аккомодации центров «добровольного посещения»1 – неформальной общественной, досуговой, потребительской, гражданской активности [14–16].
Горожан беспокоит не производственная база города как таковая, а «разнообразный спектр профессиональных и социальных ролей» [17, c. 55], возможностей и впечатлений, предоставляемых городской средой, поэтому сведение территориальных интересов к сугубо производственным аспектам значительно обедняло бы научную проблематику локальных экономических исследований. Как отмечает Г. Юдин, значительная часть современных исследований города затрагивает не столько управленческие или технократические аспекты, адресованные органам власти, сколько призвана вовлечь в орбиту научной дискуссии общественность, как субъекта, выражающего готовность участвовать в процессах конструктивной трансформации городской среды с позиции собственного видения своего локального будущего [18, c. 115]. Принцип инклюзивности городской среды, возможность заявить свое право на город, вступить во взаимодействие с другими людьми для реализации общего блага, высокая плотность и разнообразие городской среды реализуются благодаря такому ее элементу, как общественные пространства. Апелляция к успешной мировой практике междисци- плинарных исследований городской среды позволяет нам обнаружить множество экономико-социологических исследований теории и практики функционирования общественных пространств [19–25]. Переместив дискурс научного интереса с территориальных производственных отношений на исследование городской среды с позиции человека, потребителя, жителя, активного преобразователя среды, локального сообщества, его повседневной экономической и социальной жизнедеятельности, становится возможным актуализировать исследовательский интерес к функционированию общественных пространств, занимающих свое устойчивое место в иерархии использования городского пространства. Сказанное означает, что правильно организованные разнообразные общественные пространства, притягивающие наиболее производительный человеческий капитал, маркируют и определяют сравнительные преимущества конкретных городов и локаций в межтерриториальной конкуренции, становятся ключевым ресурсом городов, участвующих в состязании за привлечение инвестиций, бизнеса, населения, инноваций. В научной литературе представлено множество исследований, которые так или иначе коснулись вопросов развития городской среды в разных ее аспектах. Однако идея о комплексном влиянии институциональной среды на развитие общественных пространств и городской среды в контексте выстраивания жизненной иерархии мест и гармонизации различных порядков координации поведения индивида в этой системе в научной литературе не подвергалась тщательному теоретическому и практическому осмыслению, что, по нашему мнению, определяет ее глубокий исследовательский потенциал.
Города возникали, существовали, приходили в упадок в разные эпохи развития человеческой цивилизации. Однако в каждую эпоху система организации городов и городской среды задавала принципиально разные форматы взаимоотношений между людьми, восприятие и использование пространства и времени. В свою очередь, сами формы организации городской жизни, а именно пространственно-планировочная модель города, баланс между использованием частного и общественного пространства, между индивидуализмом и коллективными действиями, регулируется институциональной средой, институтами, организующими производственные и трудовые отношения, господствующей идеологией, технологическим укладом, иерархией властных отношений, соотношением частных и публичных ресурсов. Именно данный баланс в конечном итоге определяет распределение времени между первым (дом), вторым (работа) и третьим (общественные пространства) местами, способы организации доступа и использования общественных пространств, типы их сегрегации и их относительную значимость в жизненной цепочке локаций индивида.
Жизнедеятельность индивида циркулирует в иерархии мест «дом (1) – работа (2) – общественные пространства (3)». Данная система мест позиционирована в классической работе Р. Ольденбурга [19]. Именно в такой последовательности выстроена очередность потребления данных мест и их относительная приоритетность. Индивид стремится разместить свои ресурсы (трудовые усилия, ресурс личного времени, ресурс здоровья) в тех точках городского пространства (в тех локациях, соответствующих системе мест), где они обладают для него наивысшей ценностью. В основе ежедневного пространственного выбора индивида лежит комбинация внутренних факторов (интроверсия/ экстраверсия индивида, определяющее предпочтение к первым и третьим местам, семейное положение, склонность к одиночеству и пр.) и институциональных факторов, влияющих на экономическую ценность мест. У индивида миграция между локациями определяется в значительной мере институциональными факторами, влияющими на относительную ценность активов мест в системе «дом – работа – общественные пространства». Институциональная среда, как правила игры, рамочные условия, обрамляющие производственные и трудовые процессы, будет влиять на принципы организации городской среды и через нее, а также напрямую - на иерархическую систему мест (порядок потребления мест), определяя соподчиненность и взаимосвязанность ее уровней. Также она будет за- давать пространственно-временные особенности восприятия и потребления элементов (мест) данной системы, их конфигурацию (порядок) в жизненном укладе индивида в конкретную экономическую эпоху. Чтобы выявить способ формирования и трансформации системы мест в из- меняющихся институциональных условиях, необходимо перейти на микроуровень, то есть уровень отдельных индивидов, делающих свой выбор в троичной системе первого-второго-третьего мест. Это означает, что индивид ежедневно осуществляет институционально обусловленный локационный (пространственный) выбор. Из этих единичных ежедневных выборов образуются устойчивые мезоэкономические траектории конструирования городской среды, формирование ее структуры, то есть соотношения и значимости отдельных аре- алов, концентрирующих основные локации из иерархической системы мест. Подобным образом индивидуальная система мест про- ецируется в городскую среду.
Данная логика взаимообусловленности и взаимовлияния различных уровней иерархии в организации городской среды и организации порядка мест в жизненной иерархии локаций индивида предопреде- лила используемую методологию данного исследования.
Теоретико-методологические основыизучения проблемы исследования
В данной статье предлагается иерархический подход к выявлению основных форм и принципов организации городской среды и общественных пространств в логике транзитивных изменений между экономическими эпохами, основанный на выделении трех уровней ее измерения в системе координат [взаимодействие (связи), место (пространство), время]:
-
1) уровень взаимодействия между индивидами в городской среде, формирования преобладающего типа связей и организации сообществ (ресурс межуровневого
взаимодействия и властный ресурс, социальный капитал территории, ресурс коллективных действий), сопряженный с различными форматами использования общественных пространств [взаимодействие (связи)];
-
2) уровень пространственно-планировочной организации городской среды (эффекты близости), рассматриваемый с позиций системы жизненных мест индивида «дом - работа - общественные пространства» и задающий вектор ее трансформации [место (пространство)];
-
3) уровень временн о го восприятия городской среды, в контексте иерархии мест, использования и социального конструирования общественных пространств [время].
Данный иерархический подход принципиально отличается от существующих тем, что в основу теоретического моделирования городской среды, как мезо-экономического уровня экономической системы, обладающей собственной многоуровневой структурой, помещена иерархическая система жизненных мест индивида, что позволяет актуализировать и исследовать роль общественных пространств как третьего места в качестве самостоятельного фактора пространственного развития.
Необходимость обращения к иерархическому подходу была обусловлена следующими обстоятельствами. Исследователи отмечали, что закрепившаяся в экономической науке со времен кейнсианской революции «микро-макро» дихотомия существенно сдерживала развитие экономической теории, в связи с чем обосновывались требования выработать методологические конвенции, закрепляющие новую таксономическую конструкцию экономической системы, возможно, с включением дополнительных уровней экономической иерархии [26, с. 123-124]. Несопоставимость методологических приемов микро- и макроанализа препятствовала системному исследованию экономических процессов, а подобный одноуровневый подход затруднял оценку влияния экономических решений на макроуровне на результаты функционирования микроагентов и их обратной реакции на подобные решения. По мнению ученых, разработка и появление иерархического подхода к анализу экономических процессов в 90-х. ХХ века в отечественной науке как раз были обусловлены отсутствием единой методологии изучения взаимодействия различных уровней иерархии, позволяющих рассматривать экономику как единую многоуровневую целостную систему [27, c. 116]. Сказанное подчеркивает преимущества и востребованность межуровневого анализа экономических процессов, призванного заполнить методологические лакуны при исследовании сложных саморазви-вающихся иерархических систем, объекты и уровни которых не дискретны и атомизиро-ваны, а пронизаны прямыми и обратными межуровневыми связями.
Логика указанного иерархического подхода способна создать удобную методологическую площадку для анализа процессов институционального оформления и моделирования институциональной среды городов, а также общественных пространств, как структурных единиц в системе жизненных мест индивида, что составляет одно из перспективных направлений дальнейших исследований. В рамках иерархического подхода становится возможным исследовать согласованность изменений институтов различных уровней иерархии, степень отклика и институциональной инерции более низких уровней системы (например, системы мест и общественных пространств) на импульсы, посылаемые институциональными изменениями верхних уровней. При этом базовые контуры институционального анализа городской среды и общественных пространств, базирующиеся на методологии институциональной теории, представлены в данной работе. В отношении новой институциональной экономической теории также неоднократно высказывались претензии по поводу методологического крена в сторону доминирования микро- или макроэкономических оснований теории. Например, отмечалось, что при установлении связей между институтами макроуровня и развитием экономики упускается из виду анализ многочисленных институтов микроуровня [28, с. 551]. В рамках нашего поля исследований ставится попытка избежать данного методологического упущения путем включения в анализ микроэкономического уровня, представленного индивидами, функционирующими и делающими выбор в собственной иерархии жизненных мест «дом – работа – общественные пространства».
Это позволит нам осуществить симбиоз микроэкономических оснований принятия решений индивидами в отношении пространственно-временного потребления мест в жизненной иерархии (предполагающих возможность использования инструментария теории конвенций, теории институциональной экономики, теории рационального выбора и пр.), иерархического анализа и институционального анализа, определяющего специфику развития городской среды. Таким образом, мы избегаем «ловушек» методологического индивидуализма, предполагающего исследование микроэкономических элементов и индивидуальных решений в рамках иерархической системы мест изолированно, в отрыве от экономической и урбанистической систем, а также таксономического дуализма «мик-ро-макро», вынуждающего «тяготеть» к одной из двух методологических концепций (индивидуализма или холизма), со всеми их ограничениями.
Следовательно, релевантный анализ пространственно-временного поведения индивида в системе мест предполагает симбиоз микроэкономических и макроэкономических оснований экономического анализа, что определяет синтез различных методологических подходов. Обоснованность подобных исследовательских оснований связана с анализом функционирования городской среды на трех уровнях иерархии: микроэкономическом (индивидуальный выбор в системе мест), мезоэкономическом (взаиморе-флексия системы мест и институтов городской среды), макроэкономическом (влияние экономических институтов производства и занятости на экономические основания индивидуального выбора в системе мест). Изменения городской среды, как мезоуровня иерархии, есть функция макроэкономических и институциональных переменных, динамика которых задается экзо- генно, вне рамок исследуемой системы, что требует использования методологии холизма. Пространственно-временное поведение индивида (выбирающего желательную комбинацию «первого-второго-третьего» мест) зиждется на микроэкономических основаниях (сравнение относительных ценностей активов, доступных индивиду в системе мест), то есть опирается на методологию индивидуализма. Хотя методологический индивидуализм неприменим к анализу синергетических систем, мы не отказываемся от применения данной методологии, поскольку невозможно исследовать жизненную систему мест индивида вне рамок этого подхода, но применяем ее в рамках синтеза с методологией иерархического, институционального и системного анализа.
Интегрирование системы мест индивида в иерархическую систему городской среды позволяет не только исследовать различные элементы и уровни городской среды в их взаимодействии и взаимовлиянии, но и построить систему взаимосвязей (прямых, обратных, горизонтальных, вертикальных и пр.) между ними. Таким образом, городская среда, как социально-экономическая подсистема мезоэко-номического уровня иерархии будет включать в себя подсистему мест индивида, что предполагает учет нисходящих связей на систему мест, меняющих значимость отдельных локаций, последовательность потребления мест, композицию мест в иерархии. А это означает, что наряду с межуровневым анализом будет использоваться системный анализ, предполагающий изучение всех уровней (институциональной среды, как макроуровня, индивида как микроуровня), влияющих на городскую среду и общественные пространства. С изменений в иерархии мест индивида, в относительной значимости отдельных локаций этой иерархии, будут начинаться трансформации и модификации городской среды, запросы к общественным пространствам, а это восходящие связи. Так, решение индивида о перераспределении времени в пользу первого места (дома), то есть об уходе в частную жизнь (на микро- уровне), в основе которого лежат экономические основания, подкрепленные макроэкономическими изменениями, создает импульс многоуровневых изменений во всей иерархической системе городской среды. Следовательно, мезоэкономические изменения городской среды есть результат выбора порядка потребления мест (микроуровень), либо коллективных действий агентов в общественных пространствах, влияющих на способы организации городской среды. Городская среда в данном случае выступает как система, агрегирующая действия индивидов, осуществляющих выбор в иерархической системе мест.
Таким образом, в рамках иерархического (или мезоэкономического) подхода, развитого в работах Г. Клейнера [29; 30] и Ю. Перского [31; 32], мы дифференцируем три уровня иерархии для анализа и исследования городской среды и общественных пространств: микроэкономический (поведение индивидов в системе жизненных мест) - мезоэкономический (взаимовлияние городской среды и поведения индивидов в рамках иерархической модели мест, а также влияние институциональной среды на организацию общественных пространств) - макроэкономический (эволюция институтов организации производства и занятости и их влияние на организацию городской среды и системы мест в целом). Данная таксономия городской среды построена в концептуальном ключе иерархической модели О. Уильямсона, в которой выделяются индивидуальный, организационный и институциональный уровни экономического анализа [33]. Следует заметить, что трехуровневое измерение социально-экономических систем подвергается трансформации в исследованиях российских ученых путем расширения таксономических рамок межуровневого анализа и включения дополнительных уровней иерархии пространства. Так, Г. Клейнер вводит наноэкономический уровень иерархии, отражающий поведение и взаимодействие индивидуальных агентов [34]. Базируя свое видение на термине, предложенном К. Эрроу [35, с. 734], Е. Попов ввел в экономическую терминоло- гию понятие «миниэкономика», призванное отразить уровень взаимодействия структурных подразделений и агентов, ограниченных рамками предприятия [36]. О. Ин-шаков расширяет иерархию экономического пространства до девяти уровней, выделяя пять базовых уровней (нано-, мини-, микро-, макро-, мега-) и вводя четыре мезоуровня, выступающих промежуточными между двумя основными, например, уровень мезо-1 между нано- и микроуровнем и т. д. [37]. Д. Фролов отмечает высокую степень произвольности выделения, наименования уровней и интерпретации их содержания и связывает это с неравномерностью эволюции экономического пространства, а также спецификой отдельных научных направлений, указывая на отсутствие в экономической науке единого метода так-сономизации [26, c. 132–134]. Поскольку индивиды могут быть базовой единицей микроэкономического анализа в его широкой интерпретации [38], мы в данной работе будем рассматривать уровень функционирования и взаимодействия индивида в системе мест как микроуровень.
Причем включение мезоэкономиче-ского уровня позволяет преодолеть методологическую дихотомию, свойственную отдельным направлениям экономической мысли (кейнсианское [39], неоклассическое [40], частично новая институциональная теория [41]), различающимся уровнями анализа экономических процессов, используемыми методами, допущениями, предпосылками. Таким образом, выделяемая трехуровневая система позволяет преодолеть ограничение, накладываемое «ортодоксальным доминированием» одного из двух уровней иерархии в экономическом анализе в рамках бинарной системы «микро - макро». Кроме того, как замечает Д. Фролов, глобализация все сильнее деформирует «жесткие» институциональные структуры, усиливая роль «мезоуровней», как «буферных» уровней, и пластичных, вариативных структур. Ученый указывает на размывание границ экономических систем, отражая функциональную «разгрузку» базовых микро- и макроуровней как следствие адаптации к турбулентности глобализирующейся среды [26, c. 38].
Исследуемая нами многоуровне-вость городской среды методологически и структурно вписывается в институциональную концепцию К. Допфера, Дж. Фостера и Дж. Поттса, в которой базовой единицей иерархии хозяйственной системы выступает «правило» [42; 43]. Согласно данной концепции, микроэкономический уровень анализа будет связан с индивидами, как носителями правил, и организующей их системой мест; мезоэконо-мический уровень, соответствующий уровню городской среды, может рассматриваться и как процессы изменения правил, организующих пространственновременное поведение индивидов, мигрирующих в собственной системе мест (например, изменение правил планирования и застройки территорий), и как сфера коллективных действий и коллективного выбора, реализуемого в общественных пространствах, на что обращает внимание Д. Фролов [26, c. 126]. Макроэкономический уровень будет соответствовать институциональной структуре, определяющей, прежде всего, влияние, оказываемое экономическими институтами производства и занятости, доминирующими в конкретные исторические эпохи, на функционирование городской среды, принципы ее организации и динамику ее трансформации, а также на ценность активов, доступных индивиду в системе мест. Экономические институты капитализма, иначе говоря, экономический порядок, в данном исследовании выступают основным детерминирующим фактором организации городской среды и порядка мест в троичной системе «дом – работа – общественные пространства». Идея взаимовлияния порядка общества и экономического порядка уходит корнями в методологию хозяйственных порядков В. Ойкена [44].
Идея о влиянии принципов капитализма на организацию труда и городское пространство высказана еще в трудах Р. Сеннета [45, c. 101]. Правовые и социальные нормы, лежащие в основе производства, обмена и распределения опреде- ляют принципы пространственной организации городов, конфигурацию и констелляцию локаций, соответствующих «иерархической системе мест», основы и условия отношений занятости в городской среде (то есть потребление второго места). Последние, в свою очередь, задают основы и особенности взаимодействия в сфере использования городской среды и публичных пространств (потребление третьего места). Представляется, что идея зависимости развития городской среды от институциональной логики социальноэкономической системы (макроэкономический уровень анализа) выглядит вполне разумной, и она получила свое развитие в данной работе, в том числе с позиции исследования общественных пространств как структурного элемента городской среды. Чтобы проследить необходимые динамические изменения, происходящие в организации экономических, планировочных, социальных порядков городов, переосмыслить ключевые тенденции, векторы и факторы трансформации городской среды, задаваемые институциональными рамками, потребовалось обратиться к исследованию городов в русле различных экономических эпох в связке с иерархической системой жизненных мест. В данном исследовании прокладывается историковременная траектория развития городской среды и эволюции общественных пространств, детерминированные доминирующим экономическим порядком и институциональными ограничениями.
Таким образом, иерархический подход становится некой интегрирующей методологией, позволяющей синтезировать различные методы исследования отдельных систем (уровней), образующих синергетическую социально-экономическую систему, в нашем случае – городскую среду. Подобный плюрализм методологических оснований позволяет преодолеть «зацикленность на правилах», свойственную институциональному анализу [26, c. 126], а также системные недостатки других подходов.
Анализ иерархической системы мест в пространственно-временном поле индивида
Иерархическая система мест включает три типа мест, каждому из которых соответствуют различные локации. Данные места различаются целями взаимодействия индивидов, основными видам деятельности и ролями, выполняемыми субъектами, а также активами (ресурсами), доступными индивидам в связи с потреблением места (табл. 1). Первое место – дом – основывается на традиционных родственных и личных взаимосвязях, имеющих повторяющийся характер и регулируемых институтами семьи, гендерной власти [27, c. 112– 113], соседства, доверия и солидарности. В традиционном доиндустриальном обществе в доме соединяются функции всех трех мест, а экономика привязана к домашнему хозяйству. Дом выделяется в качестве трех основных вещей возникновения человеческого сообщества, дающий «местоположение и пространственную фиксацию человеческим отношениям» (цит. по: [46, с. 234]). В данной локации индивиды ориентированы на выполнение семейных обязанностей, ведение хозяйства и другие неформальные виды активности. В традиционном порядке мест дом по значимости в жизненной системе мест индивида имеет наивысший ранг, который сохранялся в до-индустриальную и индустриальную эпохи. В постиндустриальную эпоху в условиях глобализации и роста мобильности населения порядок мест деформируется. По мнению У. Бека, «высокая мобильность означает, что люди, образно выражаясь, пространственно полигамны. Они вступают в брак со многими местами, принадлежащими разным мирам и культурам» [47, c. 33]. Это означает, что первое место становится пространственно подвижным, когда требованиям первого места начинают удовлетворять множественные локации в разных точках географического пространства, в том числе разделенные национальными границами. В этих условиях следует избегать заблуждений, когда «может создаться ложное впечатление, что каждый человек обладает равными возможностями мобильности и включения в современные коммуникации и что транснациональность играет для всех людей одинаково освобождающую роль» [47, c. 40]. Высокая мобильность становится характеристикой не всех слоев населения, а только глобальных элит, мигрирующих по миру. Именно для этой категории населения «первое место» может смещаться вниз в иерархии мест.
В городской среде, за пределами первого места, узы, связывающие индивидов, не носят родственный характер, они в большинстве своем лишены эмоциональности и сентиментальности, чаще всего поверхностны и деперсонализированы. Это является следствием того, что ежедневно человек вынужден погружаться в разнообразные, часто чужеродные элемен- ты городской среды (люди, здания, общественные пространства), к которым он формирует устойчивый иммунитет в форме замкнутости, «права на недоверие» [48, c. 91], холодной вежливости и отчужденности. Как отмечает Л. Вирт относительно среды городов, «в сообществе, члены которого так разнятся по своему происхождению и личной истории, узы родства и соседства, а также чувства, порождаемые совместной жизнью на протяжении многих поколений в условиях общей народной традиции, в лучшем случае относительно слабы, а скорее вовсе отсутствуют» [49, c. 23]. Подобная поверхностность, анонимность и мимолетность связей позволяют индивиду получить свободу от личного и эмоционального контроля со стороны близких групп.
Таблица 1. Институциональная и содержательная характеристики иерархической системы мест «дом – рабочее место – общественные пространства»
Table 1. Institutional and essential characteristics of the hierarchical set of places “home – work – public spaces”
|
Признаки |
Ранг места |
||
|
Первое |
Второе |
Третье |
|
|
Тип места |
Дом |
Рабочее место |
Общественные пространства |
|
Цель взаимодействий |
Совместное ведение домашнего хозяйства, воспитание детей |
Реализация трудовой функции, получение трудового дохода |
Досуг, отдых, социальные взаимодействия, реализация гражданской активности |
|
Основной вид деятельности |
Выполнение семейных обязанностей, отдых, досуг |
Профессиональная деятель ность |
Неформальная коммуни кационная активность |
|
Институциональные роли субъектов |
Отец, мать, муж, жена, опора семьи, кормилец, домохозяйка и пр. [27, c. 112] |
Руководитель, подчиненный, специалист, член профсоюза, наемный работник и пр. |
Пассивный потребитель пространств, активный преобразователь, выразитель гражданской позиции и пр. |
|
Диспозиция институциональных ролей субъектов |
Гендерный разрыв между распределением ролей мужчин и женщин [27, c. 112– 113] или гендерное равенство |
Профессионально-должностная диспозиция, определяющая неравенство в статусе, полномочиях, доходах, ответственности |
Институциональное равенство; отношения власти между населением и девелоперами |
|
Институты, регулирующие взаимодействие в системе мест |
Институт семьи, гендерной власти, солидарности, родства, соседства, доверия |
Профессиональные кодексы, корпоративная этика, механизмы формального контроля, бюрократические иерархические предписания, трудовое законодательство, социальная ответственность бизнеса, доверие |
Институт гражданской активности, социальной ответственности, коллективной солидарности, доверия, просоциальные нормы (альтруизм и сознательность) |
Окончание табл. 1
|
Признаки |
Ранг места |
||
|
Первое |
Второе |
Третье |
|
|
Порядок (механизм) координации поведения индивида в системе мест |
|
|
|
|
Активы (ресурсы) места, соответствующие различным порядкам координации |
Ресурс здоровья, гендерной власти [27], имущество, наследство, ресурс воспитания, приверженность семейным ценностям, патримониальный уклад, любовь, преемственность поколений |
Корпоративная культура, деловая репутация, профессиональная состоятельность, взаимоотношения с коллегами |
Сети взаимодействия (ресурс взаимодействия), коллективные действия, социальный капитал, гражданская активность, местный патриотизм, преемственность поколений, чувство общности |
Существенные различия между местами проистекают из характера и типа взаимосвязей, преобладающих в них, поскольку данные взаимодействия организуются различными институтами (табл. 2). В плотной и многоликой городской среде доминирует сила слабых связей. Местом аккомодации данных связей, наряду со вторым местом (в котором они носят регулярный характер), выступают общественные пространства. М. Грановеттер показал, что, хотя слабые связи в городской среде и способствуют распространению отчуждения, как замечено в работах [48; 49], но парадоксально являются необходимым «условием формирования у индивидов возможностей, а также их интеграции в сообщества; а сильные связи, способствующие формированию сплоченности на локальном уровне, на макроуровне приводят к фрагментации» [50]. Люди склонны и генетически запрограммированы на доверие и сотрудничество, несмотря на природную боязливость в общении с чужаками. Данные случайные связи формируют чувство принадлежности к сообществу. Как заметил Ч. Монтгомери, «существование мегаполисов зависит от нашей способности выйти за рамки семьи и «племени» и доверять людям, которые выглядят и действую иначе, чем мы» [51, c. 69]. Развитие навыков «обрастания» слабыми связями способствует формированию доверия в городской среде, добровольному «принуждению» к исполнению обязательств, а также альтруистического мировоззрения, навыков и внутренней мотивации поступиться личными интересами ради общего блага.
Очевидно, что каждый тип места будет определять специфический порядок (набор порядков) координации поведения индивидов в нем. Под порядком координации мы будем понимать набор правил, организующих поведение индивида в отношении использования, потребления данного места, участия в его трансформации.
Таблица 2. Сравнительная характеристика типов связей в иерархической системе мест
Table 2. Comparative characteristics of the relation types in the hierarchical set of places
|
Признаки |
Дом (первое место) |
Работа (второе место) |
Общественные пространства (третье место) |
|
Типы контактов |
Первичные |
Вторичные |
Вторичные |
|
Характеристика силы связей в сети контактов |
Сильные |
Слабые |
Слабые |
|
Тип взаимосвязей |
Традиционные, родственные, личные, регулярные |
Формальные, регулярные, властно-подчиненные |
Неформальные, регулярные или нерегулярные |
|
Характер взаимосвязей |
Глубокие, эмоциональные, сентиментальные |
Поверхностные, функцио нальные |
Поверхностные, случайные, дисперсные, сегментированные, деперсонализированные |
|
Категории связей в процессе взаимодействия с позиции «свой-чужой» |
Связи, основанные на симпатии, личном доверии |
Связи, основанные на типизации, когда чужой воспринимается через причисление к одной социальной категории – коллега |
Связи, основанные на типизации, когда чужой воспринимается через причисление к одной из социальных категорий |
|
Типы сообществ, формируемых на основе места |
Соседские, родственные |
Профессиональные |
По интересам; транслирующие коллективные интересы органам власти |
|
Преобладающий тип социальной связанности |
Общность |
Общество |
Общество |
|
Информативность коммуникации |
Минимальная |
Максимальная |
Максимальная |
|
Фольклорная интер претация |
«Свои люди – сочтемся», «Свой своему не враг», «Свой со своим считайся, а чужой не вступайся» |
«Ничего личного, только бизнес», «Москва слезам не верит» |
«В чужой беседе всяк ума купит», «Чужая сторона прибавит ума», «Чужой человек в доме колокол» |
Таким образом, система мест индивида организуется набором порядков, часто конфликтующих между собой в зависимости от системы ценностей, на которые они опираются. Например, наиболее очевиден самый распространенный конфликт – между рыночными и нерыночными ценностями при использовании места. Так, при использовании общественных пространств (улиц) самая типичная дилемма – между использованием частного и общественного транспорта (здесь частный транспорт отражает рыночные ценности, а общественный – нерыночные). Представляется, что система мест индивида (дом – работа – общественные пространства), синтезирующая различные порядки координации, будет выступать средством гармонизации (установления компромисса) различных способов координации поведения и взаимодействия индивидов, осуществляемых в городской среде.
Данный подход базируется на идеях представителя нового французского инсти- туционализма Л. Тевено, предложившего подход к анализу фирмы (и других сложных хозяйственных организационных образований), которая понимается как средство достижения компромисса между различными способами координации. Методология подхода Л. Тевено уходит корнями в теорию «экономики конвенций», выделяющую различные порядки обоснования ценностей (порядки координации) и указывающую на существование напряжений между данными порядками: рыночный порядок (где механизм регулирования базируется на ценах), индустриальный порядок (основанный на технологиях, инвестициях, долгосрочном планировании), домашний порядок (построенный на длительных отношениях, близости, авторитете), гражданский порядок (базирующийся на коллективных интересах) и пр. Ученый рассматривает понятие координации как способ снижения неопределенности в хозяйственной системе, а не как возможности обеспечить ее порядок и стабиль- ность, отмечая, что «попытки охарактеризовать способы координации должны быть нацелены на анализ их динамики, а не на изучение проистекающего из них порядка» [52, c. 21]. Таким образом, в рамках системы (фирмы или любой другой хозяйственной системы) ставится вопрос о компромиссных соглашениях между исходно конфликтными механизмами координации: механизмом конкурентных рынков, основанных на соперничестве и состязательности, и механизмом «внутренних рынков», построенных на доверии. Домашние, или «внутренние», рынки – это рынки сложноспецифицируе-мых, уникальных активов, в которых механизмами защиты от оппортунистического поведения выступает, согласно О. Уильямсону, доверие [33]. Домашний порядок координации подходит для таких рынков, поскольку он регулирует взаимодействия, носящие регулярный, повторяющийся характер.
Комплексность (множественность) порядков координации в проекции мест «М1 – М2 – М3» (М1 – дом (первое место); М2 – работа (второе место); М3 – общественные пространства (третье место)) может быть объяснена сосуществованием множества асимметричных интересов различных индивидов и наличием институциональных конфликтов (например, гендерный конфликт [27] в рамках первого места; конфликт между ценностями долгосрочной занятости (конструирование деловой репутации, приверженность корпоративной культуре, лояльность ценностям компании) и краткосрочными интересами (оппортунистическое поведение с минимизацией трудовых затрат и отлыниванием от работы) в рамках второго места). Однако, как замечает Л. Тевено, хотя данный подход и продуктивен, он упускает из виду ключевую тенденцию современных обществ – множественность и ситуативность способов поведения индивида [52, c. 21]. Применительно к нашему предмету исследования это означает вовлеченность индивида в различные виды активностей и взаимодействий и потребление набора (комплекта) мест в городской среде. Подобная комбинированность мест в пространственно-временном поле индивида предполагает сочетание множества «локационных активов», доступ к которым открывает система мест, а также множества вариантов поведения, выполняемых индивидом в соответствии со своими целями, диктуемыми местом, то есть множественность его диспозиций в городской среде.
Согласно данному подходу, каждое место в иерархической системе мест «дом – работа – общественные пространства» может включать различные порядки координации поведения индивида и их сочетание, определяющие альтернативность вариантов реакции индивида на стимулы, генерируемые местом. Причем, порядок координации в «заданном месте» мы будем рассматривать с позиции индивида, потребляющего данное место (но не изолированно, а в контексте системы мест), а не с позиции хозяйствующего субъекта, локализованного в данном месте (например, домашнего хозяйства или фирмы). Оптика анализа порядка координации с позиции индивида означает рассмотрение порядка в контексте обладания и доступа индивида к активам данного места. При этом соотношение порядков в каждом месте будет зависеть от характера активов места (специфичности или стандартизиро-ванности). Например, преобладающим порядком координации в первом месте является «домашний порядок», в основе которого лежит институт доверия, поскольку подавляющая часть активов места является высокоспецифичными нерыночными активами (любовь, уважение, отношения с детьми и пр.). Однако данное место может включать также элементы «рыночного порядка», когда в основе взаимоотношений индивидов в семье лежит асимметрия в доступе к экономическим ресурсам между мужчинами и женщинами, поддерживаемая институтами гендерной власти [27]. В основе второго места (именно места, где индивид имеет доступ к различным активам, а не в основе фирмы как хозяйствующего субъекта) лежит комбинация трех порядков координации поведения индивида: «рыночный порядок» (регулирует краткосрочные поведенческие тактики индивида – ротация, участие в проектах с по- зиции денежных категорий «заработная плата», «премия»), «индустриальный порядок» (регулирует долгосрочные стратегии индивида – завоевание деловой репутации, расширение технической компетенции, повышение профессиональной состоятельности с точки зрения нерыночных категорий «признания заслуг», «уважения», «статуса» и пр.), «домашний порядок» (установление доверительных взаимоотношений с коллегами, приверженность корпоративной культуре, соблюдение этических принципов компании, избежание оппортунистического поведения и снижение издержек «моральной нагрузки»). В основе третьего места лежит комбинация трех порядков координации поведения индивидов: «домашнего порядка» (доверие при взаимодействии в общественных пространствах), «гражданского порядка» (регулирует коллективные действия, гражданскую активность, формирование социального капитала в городской среде), «рыночного порядка» (регулирует коммерческое использование и захват общественных пространств девелоперами и застройщиками с позиции категории «прибыль»). Соотношение порядков координации в каждом месте будет зависеть, таким образом, от соотношения различных видов рыночных и нерыночных активов, «накопленных» индивидом в данном месте, и их относительной ценности и будет, в свою очередь, определять выбор индивидом порядка мест.
Поскольку отношения в первом, втором, третьем местах вписаны в формат
«отношений близости» [52, с. 33–34], постольку все три места в иерархической системе включают «домашний порядок» координации поведения индивида, базирующийся на доверии. В основе механизма формирования доверия Л. Тевено выделяет три компонента – локальную близость, предшествующий опыт, иерархическую составляющую (авторитет) [52, c. 33], что согласуется с введенной нами троичной системой координат измерения городской среды [пространство, время, взаимодействие]. Причем в рамках координаты «взаимодействие» мы рассматриваем не только сотрудничество, коммуникацию в условиях равенства институциональных позиций индивидов (например, в локации «общественные пространства»), но и властные отношения в условиях институционального неравенства (в рамках гендерных отношений в локации «дом», должностных диспозиций в локации «работа», властных отношений между населением и девелоперами в отношении «третьего места»). Компонент «авторитет» направляет отношения [52, c. 33], однако у отношений в определенных общественных пространствах нет выраженной целевой направленности, поэтому властный ресурс там не нужен. Наличие компонентов доверия в иерархической системе мест представлено в табл. 3, анализ которой свидетельствует о том, что поведение и взаимоотношения индивидов в рамках «третьего места» основаны на локальной близости и добровольности контактов.
Таблица 3. Включенность компонентов института доверия в структурные элементы системы мест «дом – работа – общественные пространства»
Table 3. Inclusion of the trust institute elements into the structural units of the set of places “home – work – public spaces”
|
Место в системе мест |
Компоненты института доверия |
|||
|
Пространство (локальная близость) |
Время (предшествующий опыт) |
Взаимодействие (сотрудничество, общее принятие решений) |
Взаимодействие (отношения власти) |
|
|
Первое (дом) |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
Второе (работа) |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
Третье (общественные пространства) |
+ |
– |
+ |
+ |
Таким образом, мы видим, что городская среда – это сложная иерархически организованная система, в которой сосуществуют различные порядки координации и различные иерархии ценностей (рыночные, нерыночные, домашние и пр.), которые Л. Тевено называет «порядки обоснования ценностей» [52]. Троичный порядок жизненной иерархии мест в городской среде подразумевает наличие как минимум трех порядков координации поведения индивидов. При этом каждое место в системе совсем не обязательно должно соответствовать определенному порядку координации и определенному порядку обоснования ценности (например, домашний порядок не обязательно соответствует только дому как первому месту, рыночный порядок – работе как второму месту, а гражданский порядок – общественным пространствам как третьему месту). Любое место интегрирует в себе несколько порядков координации и иерархий ценностей (например, в рамках дома не обязательно должны присутствовать только ценности «домашнего порядка», но возможно и включение ценностей «рыночного порядка»).
Порядки координации хотя и конфликтуют между собой, но их альтернативность и множественность предоставляют возможность формирования компромисса между ними, позволяющего сопоставлять их во времени и в пространстве [52]. На пространственно-временной выбор в системе мест влияет макроэкономический порядок (институты производства и занятости), институты городской среды (определяющие доступность и развитость общественных пространств, функциональную связанность города и пр.). Но также на выбор порядка потребления мест ключевое влияние оказывает соотношение различных порядков координации. Соотношение отдельных видов активов и соответствующих им способов координации в общем наборе активов системы мест будет влиять на относительную ценность этих активов и выбор индивида.
Приведем пример общества, в котором преобладает рыночный порядок координации и обоснования ценности. Как заметил Э. Бэнфилд, в обществе, в котором доминирует индивидуализм в своих крайних формах (не «просвещенный эгоизм», а «аморальный фамилизм»), исключающий возможность сотрудничества [53, c. 169–170], будет наблюдаться повсеместный уход в частную сферу (первое и второе места). Недаром ценности индивидуализма индустриальной эпохи определили центробежные тенденции в отношении общественных пространств. Общественные пространства стали невостребованными именно с точки зрения организации коллективных действий. Однако для развития неформальной общественной сферы («третьих мест») следует, согласно рекомендации Э. Бэнфилда, хотя бы часть времени посвящать преследованию «более высокой корысти» [53, c. 170] и тем самым получить выгоду в виде «удовлетворения от социальных взаимодействий, воспринимаемых как “игра”» (третье место), или «в виде хорошей репутации» (второе место), или, например, «прослыв надежным деловым партнером» (второе место). Подобное частноориентированное поведение хорошо объясняется в рамках развитой нами методологии порядков координации и предложенной концепции сопряженности порядков координации и порядков мест. Как известно, в позднеиндустриальную (фордистскую) эпоху увеличилась доля стандартизированных активов и сократилась доля специфических активов, доступных индивиду в системе мест (речь идет, прежде всего, о наборе стандартизированных навыков как активов второго места для выполнения профессиональных обязанностей). Это привело к тому, что относительная ценность набора специфических активов выросла, поскольку данный вид активов в «локационном портфеле» индивида стал относительно редок. Поскольку основной состав специфичных активов был сосредоточен в первом месте, постольку ценность данного места для индивида повысилась, что определило его уход из общественной сферы (общественные пространства) в частную сферу (дом). Данная тенденция усугубилась тем, что низкая граж- данская активность, отсутствие навыков коллективного действия для решения общегородских задач, ощущения ответственности за общее благо, низкий уровень местного патриотизма девальвировали ценность специфических активов третьего места, обусловив их дефицитность в системе мест. То есть в «атмосфере всеобщего недоверия и поиска личной выгоды» [53] наблюдался уход из третьих мест и поиск нерыночных ценностей в первом месте.
Мы показали, что соотношение ценности ресурсов (активов) места, доступных индивиду, через институты экономической власти задает соотношение между порядками координации его поведения в системе мест. В свою очередь, соотношение (компромисс) между порядка- ми координации поведения индивидов определяет порядок потребления мест – композицию мест, их относительную зна- чимость в системе, ранг мест, трансплантацию функций между местами и т. д. Таким образом, соотношение иерархий и порядков ценностей будет влиять на выбор, осуществляемый в системе мест, и на порядок мест.
Изучение направлений трансформации иерархической системы мест:
теоретические предпосылки анализа
Следовательно, нам необходимо определить, что мы понимаем под порядком мест и какие трансформации возможны в данной иерархической системе. Для анализа особенностей организации порядка мест в жизненной иерархии мест индивида будем использовать следующий алгоритм:
-
1. Определение композиции мест и рангов каждого места в системе мест «М 1 – М 2 – М 3 » с выделением одного из типов
-
2. Пространственная характеристика конфигурации мест в системе с выделением одного из двух признаков «изоляция места» / «сращивание мест». В результате «сращивания» мест происходит физическое совпадение их локаций.
-
3. Выявление форм трансплантации функций других мест. Транзитивность функций подразумевает наличие пространственной дистанцированности физических локаций, соответствующих местам, при которой, однако, какое-либо место принимает на себя выполнение одной или нескольких функций соседнего в иерархии места. Совпадение физических локаций, как частный случай, также допускается.
-
4. Временн а я характеристика мест в системе, определяющая преобладание определенных локаций во временном континууме индивида. Выделение типов инверсии мест, приводящих к отклонению номинального ранга места от фактического, представлена в табл. 4.
-
5. Характеристика локаций, соответствующих потребляемым местам на основе одного из двух признаков – «стационарность» / «мобильность».
-
6. Определение особенностей и потенциала использования «третьего места», согласно установленным типам порядка мест (табл. 4).
системы: «стандартная» / «модифициро- ванная». В стандартной системе сохраняется традиционный порядок мест, в модифицированной – деформированный порядок, когда номинальный ранг места не соответствует его фактическому месту в иерархии.
Таким образом, мы придерживаемся заданной в методологическом разделе логики исследования иерархии мест в троичной системе координат [пространство (место); время; связи (люди)].
Таблица 4. Типы временн о й инверсии мест в жизненной иерархии мест «дом – работа – общественные пространства»*
Table 4. Types of time inversion of places in the life hierarchy of places “home – work – public spaces”
|
Конфигурация рангов мест |
Тип порядка мест |
Преобладающий порядок координации |
Преобладающая экономическая модель |
Потенциал для развития «третьего места» |
|
М 1 – М 2 – М 3 |
Традиционный индивидуализм |
Домашний |
Доиндустриальная |
Средний |
|
М 1 – М 3 – М 2 |
Праздный индивидуализм |
Домашний, гражданский |
Любая |
Высокий |
|
М 2 – М 1 – М 3 |
Индивидуальный трудоцентризм |
Рыночный |
Индустриальная |
Низкий |
|
М 2 – М 3 – М 1 |
Коммуникативный трудоцентризм |
Рыночный |
Постиндустриальная |
Средний |
|
М 3 – М 1 – М 2 |
Праздный коммуникативизм |
Гражданский, домашний |
Любая |
Высокий |
|
М 3 – М 2 – М 1 |
Трудоцентричный коммуникативизм |
Индустриальный, рыночный |
Постиндустриальная |
Высокий |
* М 1 – дом (первое место); М 2 – работа (второе место); М 3 – общественные пространства (третье место)
Далее нам следует определить, как меняется порядок потребления мест в зависимости от соотношения между различными порядками координации. Поскольку мы определили, что компромисс между порядками координации зависит от соотношения ценностей активов, предоставляемых местом, нам требуется выяснить, чем, в свою очередь, будет определяться динамика ценности активов «дома», «рабочего места», «общественных пространств». Представляется, что относительная ценность активов (ресурсов) места определяется экономическими институтами производства и занятости (нисходящие связи между макроуровнем и микроуровнем), то есть институциональной средой. Данная институциональная среда будет «диктовать» поведение индивида в хозяйственной системе и выбор, транслируемый в систему мест, а оттуда – в городскую среду, определяя особенности ее потребления и использования. Таким образом, мы постулируем принцип сопряженности порядка мест с различными экономическими укладами и отношениями занятости в экономических эпохах.
Адекватность изменения экономического (хозяйственного) порядка и порядка мест представлена в табл. 5.
Далее раскроем особенности формирования порядка мест в зависимости от специфики социально-экономического развития в контексте трансформации институциональной среды. Логика наших рассуждений будет выдержана в ключе иерархического анализа, который позволит нам исследовать:
-
1) особенности влияния институтов производства и занятости на относительную ценность активов в системе мест в рамках различных экономических эпох;
-
2) соотношение порядков координации в системе мест и обусловленное этим влияние на порядок потребления и композицию мест в иерархической системе мест;
-
3) влияние порядка потребления мест на организацию городской среды и общественных пространств в трех координатах [пространство, время, взаимодействия (связи)] в ключе институциональных изменений.
Таблица 5. Релевантность экономических отношений и отношений занятости порядку мест в различные экономические эпохи
Table 5. Relevancy of the economic and employment relationships to the order of places in different economic periods
|
в и Ф a m |
Характеристика экономических и производственных отношений |
Характеристика труда и отношений занятости |
Характеристика порядка мест «дом – рабочее место – общественные пространства» |
Границы между местами |
Место, задающее круг связей |
Влияние институтов на трансплантацию функций мест в системе «М 1 – М 2 – М 3 » |
|
|
и в в в ч л В a н ч в в о ч |
1. Единство, целостность, внутренняя связанность производства (характерны для сельского хозяйства и ремесленного производства) |
|
пространств (М 1 = М 2 = = М 3 ) – совпадение рангов мест. Жесткий порядок мест (М 1 – М 2 – М 3 ).
мест.
плантация функций мест.
из-за низкой мобильности населения.
места – высокий |
Границ нет |
Дом (первое место) |
Добровольное сращивание, перекрещивание функций первого и третьего мест |
|
|
в в в в ч в в a н ч в S |
6. Эгалитарный тип потребления среди большинства населения |
труда и сокращение рабочего класса [54, c. 64].
тость.
разделения труда. Ультраспециализация, кон центрация работников на узкой, строго заданной операции в течение длительного времени.
занятости: концентрация на узкой операции ограничивает возможности саморазвития и повышения квалификации |
|
Пространственная автономия ареалов мест |
Работа (второе место) |
Передача функций общественных пространств первому месту, уход в семейную «приватную» жизнь в условиях дефицита общественной жизни и общественных пространств |
Окончание табл. 5
Генезис формирования и функционирования городской среды и обще-
ственных пространств в методологиче-
ском ключе иерархического подхода
Д оиндустриальная городская среда представляла собой поле взаимодействия, регулиру-
емое одинаковым набором норм, а также
правил доверия, стабильности, привычно-
сти, поддерживающих взаимную узнаваемость, долговременную устойчивость социальных связей и ее преемственность. Организация городской среды отражала общественное устройство, идеологию города, иерархию властных потенциалов (табл. 6). Общественными пространствами, поддерживающими стабильность социальных коммуникаций, выступали рыночные площади, пространства перед соборами и ратушами, церковные помещения. Средневековые храмы и площади перед ними вы-
ступали в качестве главного общественного пространства города, несущего идею инклюзивности и выступающего связующим местом между земным и духовным началами. Именно общественные пространства, а не дом, как первая точка в жизненной иерархии мест, еще со времен древнегреческой агоры и древнеримского форума выступали местами свободного волеизъявления жителей города. Ч. Монтгомери заметил, что «площадь сближала людей, замедляла темп их жизни, укачивала в своих ладонях», а Я. Гейл заключил, что «их изящная геометрия определяет поведения людей и призывает их проводить время вместе» [51, c. 171]. Второй важный вид общественного пространства – улица – выступала не просто как место пешеходного движения, но как социальная локация, реализующая функцию взаимодействия. Через улицы рас-
|
в и Ф a m |
Характеристика экономических и производственных отношений |
Характеристика труда и отношений занятости |
Характеристика порядка мест «дом – рабочее место – общественные пространства» |
Границы между местами |
Место, задающее круг связей |
Влияние институтов на трансплантацию функций мест в системе «М 1 – М 2 – М 3 » |
|
|
и В В В Ч Л в a н ч в в н о с |
высокотехнологичных отраслей (информационного сектора).
«схлопывание» среднего класса.
рифирменной конкуренции (внутренний рынок) |
ского труда и сокращение среднего класса, его нисходящая социальная мобильность.
формы занятости (проектная).
разделения труда. Мультиспециализация, смена операций и функций работника при смене проекта.
работы.
модели занятости: отсутствие приверженности к компании при проектной занятости, низкая производительность и отсутствие стимулов к сохранению корпоративных секретов. Поверхностное отношение к работе |
|
S в и X о о о & о И В & о го Он |
Общественные пространства (третье место) |
Развитие экономики доверия, экономики совместного потребления (шеринга), экономики одиночества, переход к модифицируемым (гибким) офисам приводит к передаче функций между местами |
Таблица 6. Сравнительная характеристика городской среды в рамках различных экономических эпох в координатах «пространство» – «время»
Table 6. Comparative characteristics of the urban space within the framework of different economic periods in “space – time” coordinates
|
Признаки |
Экономические эпохи |
||
|
Доиндустриальная |
Индустриальная |
Постиндустриальная |
|
|
Качество городской среды |
Гомеостатическая, рутинная |
Функционально дифференцированная, качественно унифицированная |
Гетерогенная, смешанное использование пространства |
|
Восприятие пространства |
Растяжение пространства; разделенность долгими часами переездов и труда [57, c. 26] |
Сжатость пространства в условиях новых транспортных и коммуникационных технологий |
Пространство, соразмерное человеку |
|
Ключевая идеология города |
Пешеходный город |
Автомобильный город, территория аккомодации промышленных предприятий, жилых зон, транспортных артерий |
Потребительский город, развивающийся на основе взаимной близости людей и развития общественных пространств (театры, клубы, рестораны, музеи, выставки) |
|
Форма города, определяемая транспортными технологиями |
Компактные города, близкое взаимное расселение относительно водных и наземных торговых путей. Явное присутствие центра вблизи порта или вокзала |
Рассредоточенный город, акцент на пригородном образе жизни (в ряде западных стран), отсутствие ярко выраженного центра. Сетчатая система планирования, не предусматривающая общественные пространства |
Полицентрическая городская агломерация, несущая наследие индустриального территориального планирования, но с акцентом на развитие нескольких центров на территории города |
|
Влияние пространственных решений на городскую торговлю |
Пешеходная доступность мест торговли |
Исчезновение торговых улиц из центров городов, размещение торговых центров за городской чертой. Автомобильная доступность торговых центров |
Торговые улицы в центре города. Пешеходный стрит-трейд |
|
Преобладающая модель пространственной конфигу рации города |
Компактная |
Рассредоточенная |
Полицентрическая, распределенная (с выделением нескольких центров социально-экономической активности) |
|
Точки (центры) притяжения городской среды |
Места общественной активности (площади, храмы, рынки) |
Места приложения труда и активности бизнеса |
Места «добровольного посещения» – общественные пространства, центры обслуживания населения |
Продолжение табл. 6
|
Признаки |
Экономические эпохи |
||
|
Доиндустриальная |
Индустриальная |
Постиндустриальная |
|
|
Временной регламент использования мест притяжения в городской среде |
В световое время (регулируется биологическими ритмами человека) |
В рабочее время (регулируется ритмами конвейерного производства) |
Круглосуточно, непрерывный оборот посещаемости (не детерминировано ритмами производства и биоритмами из-за постоянной смены посетителей) |
|
Преобладающая парадигма пространственной конфигу рации |
Город – компактная, прони цаемая территория |
Город – мозаика сегрегированных районов (богатый центр – бедные окраины или ветхий центр – богатые пригороды). Градиент плотности населения мог как убывать (Европа), так и расти к окраинам (США, города России) |
Город – сеть равно значимых районов, связанных радиальными и рокадными дорогами (не только через центр) |
|
Социальный капитал городской среды |
Концентрированный |
Размытый |
Концентрированный |
|
Институциональные условия, определяющие пространственное развитие городов |
Обеспечение безопасности и выживания города за счет внешнего ограждения, что требовало соблюдения принципа компактности |
Жилищные программы, субсидировавшие разрастание городов, финансовые институты поддержки ипотечного жилищного кредитования, изменение правил землепользования, застройки и зонирования территорий; автомобильная идеология жизни; правила организации дорожного движения; сдерживание роста цен на недвижимость |
Принятие города в пределах текущих границ и комплексное (не точечное) развитие территорий во избежание появления зон «проседания» экономической активности. Распределение части функций слишком плотных крупных метрополий более мелким городам на периферию агломерации. Расщепление эффекта роста цен на недвижимость (из-за джентрифи-кации районов с инвестициями в общественные пространства) между несколькими центрами города |
|
Институты, определяющие развитие города в рамках преобладающей модели |
Институты семьи, соседства, доверия |
Институты ипотечного кредитования и потребительского (авто) кредитования. Институты зонирования и застройки территорий. Правила ассоциации домовладельцев |
Институты согласования асимметричных интересов субъектов городской среды; вовлечения населения в управление городом; координации муниципалитетов и межмуниципальной кооперации |
|
Преобладающие транспортные технологии |
Гужевой транспорт, водные артерии |
Превалирование автомобильного транспорта, общественного бензо- и электротранспорта, железнодорожного транспорта |
Превалирование каршеринга, беспилотного транспорта, общественного и индивидуального колесного транспорта |
|
Модель территориального поведения населения |
Центрическая. Стремление к компактному проживанию для пользования общими социальными и инфраструктурными объектами |
Центробежная. Стремление к отгораживанию и «побегу» из социально неблагополучных районов, освоению новых отдаленных районов |
Центростремительная. Возвращение в центры социально-экономической активности с доступом к развитым общественным пространствам |
|
Экологический след города |
Относительно низкий |
Высокий выброс углекислого газа из-за автомобильных передвижений |
Выброс углекислого газа меньше, чем в индустриальных городах |
Окончание табл. 6
благодаря близости и коммуникации людей, перетоку идей. «Столетиями инновации распространялись от одного человека к другому через запруженные людьми улицы городов» [56, c. 22]. Взаимодействие в общественных пространствах выполняло функцию укрепления и поддержания социальных связей в ходе регулярных личных и торговых отношений (на рыночной площади) и ритуальных контактов (в храмах).
Сама1 городская среда доиндустри-альных городов накладывала на индивидов жесткие ограничения, связанные с перемещением, установлением контактов, принятием самостоятельных решений.
«в ролях чужих всегда присутствует момент инновации», они в то же время «оказываются изолированными в статусных нишах от общественной среды, что уменьшает исходящее от них преобразовательное давление» [59, с. 45].
Таблица 7. Сопряженность системы мест и типов взаимодействия, социальных статусов в экономических системах
Table 7. Relevancy the set of places to types of interaction, social statuses in the economic systems
|
Признаки |
Экономическая эпоха |
||
|
Доиндустриальная |
Индустриальная |
Постиндустриальная |
|
|
Тип организации общества (общественного порядка) |
Родовое, сословное |
Классовое |
Современное, информационное |
|
Модель системы мест в пространственно-временном поле индивида |
Дом – общественные места |
Дом – рабочее место – общественные пространства |
|
|
Преобладающий тип взаимодействий |
Личные |
Безличные |
Виртуальные, безличные |
|
Соответствие статусов членов общества типам мест |
Родственный (домашний, свой) – чужой (враг) |
Родственный (домашний, свой) – чужой (коллега) – индифферентный чужой |
|
|
Доля «чужих» в структуре городского сообщества |
Меньшинство |
Большинство |
|
|
Преобладающая группа в контактах «чужих» в городской среде |
Чужие |
Чужие |
Распознаваемые чужие |
|
Преобладающая группа в контактах «своих» в городской среде |
Свои |
Чужие |
Распознаваемые чужие |
|
Преобладающий тип взаимосвязей в общественных ме стах |
Свои – свои |
Чужие – чужие |
|
|
Роль «третьих мест» в трансформации институциональных статусов индивидов |
Возможность появления в качестве исключения третьего статуса – гостя; место трансформации статуса чужой (враг)→гость; место доместикации чужих: чужой→свой |
Место трансформации статуса индифферентность→социальное взаимодействие |
|
|
Значение «третьего места» |
Высокое |
Высокое |
|
Общественные места, позволяющие человеку временно выйти за рамки ограниченного пространства дома, были, по мнению З. Баумана, «одновременно лекарством от незнакомства и профилактикой против отчуждения» [58, с. 27]. Хотя достаточно однородная рутинизированная среда и создавала препятствия к распространению новых идей и инноваций, даже в этих условиях общественные места были «колыбелью философской и политической смуты», где созревали идеи по переустройству общественной жизни и пересмотру основ мироздания.
Доиндустриальный порядок организации городской среды позволял объединять различные виды деятельности в одном про- странстве. Данный способ организации пространственных отношений – domus (дом, жилище) – предполагал взаимосвязанность, объединение, единство всех трех мест пребывания человека: дом – работа (надомная либо ремесленный цех) – общественные пространства (церковные приходы, базарные площади, муниципалитеты) (табл. 8). По мнению А. Лефевра, в живом спонтанном историческом организме старого города функции представляли собой единое целое, используемые пространства были многофункциональны [55, c. 21], что позволяло говорить о сращивании функций первых, вторых и третьих мест.
Таблица 8. Сравнительная характеристика системы мест в разные экономические эпохи
Table 8. Comparative characteristics of the set of places as regards economic periods
|
Признаки |
Экономическая эпоха |
||
|
Доиндустриальная |
Индустриальная |
Постиндустриальная |
|
|
Соотношение первого- второго-третьего мест |
Общая локация дома, работы, публичных и социальных пространств |
|
Совмещение функций двух и более мест в одной локации; трансплантация функций соседних в иерархии мест; смена конфигурации элементов в системе мест |
|
Границы между местами |
Границ нет |
Пространственная изоляция ареалов мест |
Размытость границ, взаимопроникновение мест. Приближенность третьих мест к первым местам |
|
Временные рамки потреб ления мест |
Гибкие, двигаются между потреблением трех мест |
Жесткие; временные рамки потребления второго места фиксированы (временной примат второго места); оставшийся временной бюджет распределяется между первым и третьим местами |
Гибкие, двигаются между потреблением трех мест |
|
Место, задающее круг связей |
Дом (первое место) |
Работа (второе место) |
Общественные простран ства (третье место) |
|
Пространственные харак теристики мест |
Места стационарны, привязаны к определенным локациям |
Первое и второе места стационарны, изолированы, третьи места подвижны (локации меняются) |
Первое и второе места стационарны или подвижны, третье место подвижно |
|
Влияние институтов организации общественных пространств на трансплантацию функций мест в системе «М1–М2–М3» |
Добровольное сращивание, перекрещивание функций первого и третьего мест |
Передача функций общественных пространств первому месту, уход в семейную «приватную» жизнь в условиях дефицита общественной жизни и общественных пространств |
Развитие экономики доверия, экономики шеринга, экономики одиночества приводит к обмену функций между местами |
В дальнейшем, по мере развития, происходило разрастание города и выход его за пределы исходных контуров за счет освоения новых земель, лежащих за старой границей города. Такое расползание города позволяло, по мнению З. Баумана, «найти участок земли, свободный от памяти, традиции и общезначимых смыслов» [58]. Разрастание городских территорий определялось логикой развития промышленных предприятий, которые «стремились избежать навязчивого внимания муниципалитетов и окопаться вовне» [58], вне зоны регулирования нового индустриального порядка старыми этическими нормами и правилами.
В индустриальную эпоху города привлекали низкообразованных рабочих из сельской местности, за счет чего наблюдалось существенное увеличение численности и плотности городского населения для развития фабричного производства. Благодаря достижениям научно-технического прогресса росла техникоемкость сельскохозяйственного производства, что снижало потребность в локализации там масштабных трудовых ресурсов. Как заметил Р. Маккензи, в этом качестве город выступает резервуаром, в который откачиваются излишки населения из окружающих его меньших сообществ [46, c. 241]. Углубляющееся разделение труда привело к дроблению производственных операций, поэтому городские фабрики нуждались по большей мере в неквалифицированной ра- бочей силе, чтобы выполнять мелкие, однообразные, рутинные операции. Как отмечает В. Куренной, разнообразие возникших фабричных специальностей позволило индивидам найти свое место в экономике, «выйти из-под власти семьи как ойкоса и из-под власти общины, являющейся залогом выживания в традиционном обществе» [60, c. 20].
Переход к индустриальному обществу, концентрирующемуся в городах, приводит к обезличиванию связей, поскольку большая численность населения исключает возможности личного знакомства и взаимного узнавания, характерные для соседских, общинных отношений. Количество незнакомых людей в городах, которых требовалось идентифицировать, доместифициро-вать и перевести в статус «свой», превзошло временн ы е и когнитивные возможности человека. Это неизбежно приводит к изменению повседневных практик взаимодействия, нарушению структуры социальных связей, создает высокий уровень неопределенности пребывания в общественных пространствах (положительных возмущений, не обязательно угроз) (табл. 9). Люди начинают встречаться в общественных пространствах анонимно, а взаимодействие часто сводится к нахождению в одном месте. Р. Штихве отмечает, что «почти все взаимодействия в контексте современного города – это взаимодействия с чужими» [59, c. 48]. Поэтому городская среда стала восприниматься как массовое скопление незнакомцев, что, однако, не ухудшило ее качества, а придало ей динамичности и инновационности за счет притока новых практик взаимодействия, навыков, культур, идей, традиций.
Таблица 9. Координата измерения городской среды «взаимодействие (связи, люди)» в рамках различных экономических эпох
Table 9. “Interaction (connections, people)” measurement coordinate of the urban environment within different economic periods
|
Признаки |
Экономическая эпоха |
||
|
Доиндустриальная |
Индустриальная |
Постиндустриальная |
|
|
Характер простран ственных отношений между людьми |
Личное, «шапочное» знакомство |
«Отсутствие специфического для общества соседей личного знакомства друг с другом» [61, c. 9]. Вытеснение традиционных связей, основанных на родстве, соседстве анонимными контактами. Появление нового вида субъекта – «чужака» [48] |
Безличность, анонимность контактов. Увеличившаяся гетерогенность населения. Новые практики мобильности населения |
|
Преобладающий тип связей |
Сильные (основанные на родстве) |
Слабые (основанные на конкуренции и механизмах формального контроля) [49, c. 23]). При переходе к рассредоточенному масштабу города в фордистскую эпоху возникает тенденция к сужению связей до «ближнего круга» |
Слабые, необходимые для интеграции, выражения гражданской активности |
|
Круг связей |
Общение в пределах местных сообществ (первого места) |
Общение в пределах профессиональных сообществ, соседских сообществ, первого и второго мест |
Общение покрывает всю территорию города, распределенные дисперсные связи (в пределах третьих мест) |
|
Статус «чужака», или «незнакомца» |
«Одомашненные» или «изгнанные» чужаки |
Постоянные чужаки, «вечные незнакомцы» [58] |
«Знакомые» и «распознаваемые незнакомцы» |
|
Структурные характеристики городских сообществ |
Достаточно гомогенные по образу жизни, мировоззрениям, разделяемым ценностям, экономическом укладу, кругу общения, но отмеченные кастовыми различиями |
Исчезновение сплоченных союзов, появление распыленных сообществ с разнородным составом, пространственной разобщенностью, повышенной мобильностью |
Гетерогенные перекрывающиеся сообщества (включенность индивида в разные сообщества). Основания для объединения в группы, ассоциации и прочие социальные сети – желание активно участвовать в процессах преобразования города |
|
Характер связей при коммуникации |
Узнаваемость, распознаваемость, периодичность, предсказуемость |
Анонимность, эпизодичность, спонтанность, непредсказуемость |
Риск исчезновения анонимности. Пользователи мобильных устройств с подключенной функцией геолокации являются «ходячим курсором», оставляющим цифровые следы [62, с. 15] |
|
Угрозы для коммуницирующих субъектов |
Рутинность практик взаимодействия; ограничение внутренней и творческой свободы и инициативы традициями, обычаями; ограниченность познания за счет дефицита свежих идей |
Обезличивание контактов, утрата культурных ориентиров, отчуждение, замкнутость, духовная дистанция между индивидами, поверхностность и краткосрочность связей, отсутствие социального единства, одиночество, потеря собственного «места» в городской системе, подверженность средствам массового внушения [49, c. 33], «высокомерное равнодушие, вызванное пресыщенностью» [48, c. 86] |
Вовлечение в неуправляемую, но извне организованную толпу (через социальные сети). Сложная организованность городской среды. Нахождение в среде вечных незнакомцев лишает индивида возможности осмыслить свое место в нем, осознать собственные интересы, что делает его легко поддающимся массовому психозу, манипуляциям с общественным мнением |
Основной характеристикой общественных пространств индустриального города становится инклюзивность и демократичность (табл. 9). Незнакомцы, вовлеченные в городскую общность, могут сохранять свою инаковость и оставаться «чужими», но при этом границы общности остаются открытыми, а это несет в себе потенциал солидарности и разрешения конфликтов, потенциал обретения новой личной и творческой свободы. «Если чужой остается чужим кому-то, то это его качество становится ожидаемым и нормальным, перестает беспокоить» [59, с. 48]. Индустриальная эпоха – это точка отсчета на временной шкале, когда, по мнению И. Утехина, появляется именно такая историческая и культурная характеристика общественных пространств, как место «зрелищ, увеселения и коммерции» [63, c. 32]. Общественные пространства городов индустриальной эпохи обеспечили инновационно необходимый градус разнообразия городской среды за счет общедоступности и инклюзивности общественных мест; множества общественных пространств (кафе, театры, галереи, музеи, парки и пр.); гарантии личной свободы без препятствий для самореализации.
В составе индустриальной эпохи И. Джеймисон и Д. Харви выделяют две стадии: первая, до 1890-х гг., – свободное развитие рыночного капитализма; вторая, конец XIX в. – начало XX в., – монополистический капитализм (фордизм) [64; 65]. Граница между первым и вторым этапами индустриальной эпохи «не опирается на некие временные ступени», не является жестким временным водоразделом, когда «все меняется в один момент, все старые отношения навсегда уходят в прошлое, а принципиально новые приходят им на смену» [47, c. 32].
В рамках фордистской модели регуляции складывались «многослойные» компании с жестко иерархичными системами управления. Технологии передачи информации этапа монополистического капитализма, такие как телефон и телеграф, позволили пространственно сблизить факторы производства и привели к укруп- нению размера фирм. Р. Коуз, в рамках теории трансакционных издержек, обосновал прямую зависимость затрат фирм на организацию сделок и охват территории, определяющий количество и разнообразие трансакций, что является причиной падения эффективности с ростом размера фирмы [66]. Величина трансакционных издержек, наряду с экономическим эффектом масштаба производства, обусловили доминирование в экономике монополий и олигополий, ориентированных на выпуск стандартизированной продукции для массового потребителя – работников промышленных предприятий. Подобный эгалитарный тип потребления рабочего класса соответствовал задаче абсорбирования всех созданных в экономике товаров. Для формирования устойчивого спроса на типовую продукцию, создаваемую несколькими крупными компаниями, в течение ряда десятилетий в западных странах (например, США) были созданы институты, обеспечивающие массовость потребления: программа «пять долларов за рабочий день», снижающая текучесть кадров, формирующая лояльность компании, стабильные доходы и средний класс; внедрение трудовых договоров с жесткой заработной платой; создание профсоюзов, защищающих интересы работников; кейнсианские рецепты стимулирования совокупного спроса; государство всеобщего благосостояния, реализующее масштабные социальные программы.
Снижение издержек производства за счет эффекта масштаба, вызвавшее монополизацию рынков несколькими крупными компаниями, а, значит, вытеснение конкурентов, привело к снижению уровня разнообразия городской среды, в том числе предпринимательского, продуктового, идейного и досугового. Поскольку часто крупные предприятия выступали центрами притяжения рабочей силы, вокруг них искусственным образом формировались поселения или города. Такой город, как правило, монофункционален и решает задачу обеспечения градообразующего предприятия трудовыми ресурсами. Искусственный город лишен органического разнообразия видов деятельности, местных сообществ, общественных пространств, выступающих факторами привлечения, «перетягивания» новых ресурсов с других территорий. «Насыщенный интеллектуальный мир независимых городских предпринимателей уступил место нескольким крупным компаниям» [56, c. 84].
В фордистской модели жесткого капитализма практиковался принцип жестко функционального, парцеллярного разделения труда, когда каждый работник был сконцентрирован на выполнении узкоспециализированной операции и подчинялся определенной инстанции (вышестоящему руководителю). Все действия работников, обслуживающих конвейерную линию, были четко выверены и подогнаны друг к другу. По данному поводу Э. Глейзер заметил, что «индустриальное разнообразие оказалось более верным путем к росту, чем промышленные монокультуры» [56, с. 74]. Жесткая ограниченность каждого работника своим участком работы и набором выполняемых функций не требовала высокой квалификации и необходимости ее повышения. Подобный работник мог без существенных инвестиций в свой человеческий капитал, быть переброшен на другой производственный участок и в короткие сроки осуществить свою переквалификацию на базе имеющегося опыта, образования, навыков. Таким образом, у работника, не нуждающегося в глубоких знаниях, снижалась потребность в городской среде, обеспечивающей пространственные эффекты близости и способствующей распространению знаний, а также потребность в установлении длительных доверительных взаимоотношений с коллегами по конвейерной линии, поскольку сама производственная технология отвергала взаимозависимость между работниками.
Как отмечает Д. Гартман, каждый способ производства меняет восприятие пространства и времени [57, c. 22]. Общественные конфликты, детерминируемые экономической организацией производства, неизбежно отражаются в способах организации городской среды, в частности общественных мест, что меняет восприятие пространства городов.
Новые модели массового производства были спроецированы на организацию городской среды, в основе которой начали доминировать принципы рационализации, унификации, а также функциональности. Парадоксально, что подобная градостроительная политика, желающая улучшить среду обитания человека и само общество [17, с. 52] и базирующаяся на утопических идеях городов будущего (Город-сад Э. Говарда [67], Акрогород Ф. Райта [68], Лучезарный город Ле Корбюзье [69]), фактически оказалась социально недружелюбной, вытеснив человеко-соразмерную городскую среду из промышленных городов. Для обеспечения дешевым, быстро возводимым жильем для работников промышленных производств был заимствован принцип конвейерного проектирования генеральных планов поселков и городов, а при строительстве типового массового жилья использовалась стандартизированная продукция промышленности. Унификация планов застройки территорий и дешевые строительные материалы значительно сокращали себестоимость строительства квадратного метра жилья и сроки его возведения. По мнению Ле Корбюзье, полагавшего что «дом – это просто “машина для жилья”», данная модель проектирования городской среды и обеспечения дешевым доступным жильем позволила снизить социальную напряженность и революционные настроения в странах Западной Европы и обеспечила однозначный выбор первой альтернативы в дилемме «архитектура или революция» [57, c. 18].
Геометрически рациональный подход к проектированию городов, когда временем управляет план застройки территории, разбивает город на функциональные зоны и управляет ежедневной миграцией. Траектория развития городской среды по пути «пространственного освобождения» индивидов от «навязанной» скученности, тесноты и сплоченности городских центров вызвала новые формы сегрегации. Базовыми принципами подобной пространственной трансформации городов стали «огораживание» и «удаление», соответствующие двум ключевым концепциям индустриальной сегрегации. Прежде всего это функциональная сегрегация, поддержанная новыми институтами капитализма, а также институтами территориального планирования и зонирования, разнесшая промышленные и жилые зоны, а также внутренняя сегрегации жилых кварталов, разделившая здания, кварталы, районы по их функциональному назначению (бизнесцентр, торговая зона, досуговое пространство, жилой район и пр.), что существенно снизило степень разнообразия городской среды, в том числе за счет ухода части жителей в «технически достижимые» районы. Данный тип сегрегации базируется на концепции «сепарации», ставящей качество городской среды в зависимость от функционального обособления различных частей города, и в результате у горожанина появляется возможность оставить вне поля своих ежедневных маршрутов участки с неблагоприятной социальной историей.
Автомобильный масштаб города вызвал сегрегацию по видам мобильности, когда пешее население без автомобилей было вытеснено в пешеходные подземные и наземные переходы, на тротуары, вытес- нялось с улиц, как традиционных общественных пространств, путем огораживания трасс и возведения заборов. Это существенно трансформировало традиционные функции улиц, эклектика и запутанность которых, визуальная и навигационная сложность, желанный беспорядок и хаотичность вели к случайным встречам, неожиданным знакомствам, необычным ощущениям и переживаниям. Улицы превратились в транспортные артерии, перестав выполнять свою базовую функцию – быть местом коммуникации. С исчезновением магии «кружева пешеходных улиц и площадей» [51, c. 175], визуальной сложности и гибридно-сти общественных пространств обострились проблемы психологического здоровья горожан. Персональная мобильность оказала «эффект бульдозера» на городскую среду, сровняв сложность общественных пространств и сгладив разнообразие социального ландшафта. Следовательно, фор-дистский способ организации производства привел к разрушению двух ключевых признаков городской среды и общественных пространств – разнообразия и коммуникации.
Таблица 10. Сравнительная характеристика общественных пространств в рамках различных экономических эпох
Table 10. Comparative characteristics of the public spaces within different economic periods
|
Признаки |
Экономическая эпоха |
||
|
Доиндустриальная |
Индустриальная |
Постиндустриальная |
|
|
Значение общественных пространств как места встреч |
Встреча – «ожидаемый сюр приз» |
Встреча – «приятный, неожидан ный сюрприз» |
Встреча – «спланированный» или «отслеженный» сюрприз» |
|
Значение улицы как общественного пространства |
Место социабельности, пешеходного и уличного движения. Улица – пространство для взаимодействия, торговое место |
Транспортная артерия, проезд. Улица – пространство для автомобилей. Улица как источник нервного напряжения |
Место коммуникации; смысловые объекты в брендировании города; локация гражданской активности; место концентрации торговли и потока людей |
|
Форма улиц как общественных пространств |
Узкие, извилистые, с высокой плотностью объектов торговли, социальных площадок и объектов для коммуникаций (рынки, площади, лавки, кафе, почта) |
Широкие улицы, многополосные автострады, дефицит мелких и пешеходных улиц, разноуровневость пешеходного и коммерческого пространства, вытеснение общественных пространств и коммуникационных локаций (кафе) в торговые центры |
Взаимосвязанная сеть улиц, акцент на пешеходной и коммуникационной функции |
Продолжение табл. 10
|
Признаки |
Экономическая эпоха |
||
|
Доиндустриальная |
Индустриальная |
Постиндустриальная |
|
|
Главное условие функционирования общественных пространств |
Ассимиляция и доместикация «чужаков» в городскую среду; инклюзивность идеологических и символических пространств для единоверцев (храмы, соборные площади) |
Попадание в ежедневные маршруты трудовой миграции; обеспечение разнообразия впечатлений и коммуникации |
Инклюзивность пространств; сбалансирование асимметричных интересов субъектов городской среды; предоставление возможности конструирования пространства |
|
Консолидирующие институциональные основания |
Общая культура, религиозный опыт, единый язык |
Характер долгосрочной занятости на предприятиях; освоение общего «языка» политкорректности и терпимости |
Новые возможности самовыражения, вкрапление новых функций в общественные пространства |
|
Идеология общественных пространств |
Пространство соединения материальных и духовных смыслов для городского сообщества |
Арена взаимодействия незнакомых людей |
Общественное пространство прямого участия, коллективного выбора, сотрудничества, согласования интересов, трансформации городской среды |
|
Возможности общественных пространств |
Возможности безопасного, предсказуемого взаимодействия |
Обеспечение свободы от личного и эмоционального контроля со стороны окружающих, альтернатив для обретения личной и культурной свободы |
Трансплантация некоторых видов деятельности из первого и второго мест. Вступление в сообщества и группы. Спасение от одиночества. Возможность проявления гражданской активности |
|
Функции общественных пространств |
Укрепление и поддержание сложившейся структуры социальных связей; локус социального взаимодействия и коммуникации; диффузия информации; приглашение к участию в политической жизни и выражению гражданской активности |
Обеспечение среды для распространения новых идей, изобретений; локация для самовыражения, самоутверждения; освобождение от ограничений досовременных обществ на особость, своеобразие, освобождение от взаимного надзора, притязаний членов сообщества |
Акцептование части функций первого и второго мест; «визуальные магниты» города; обеспечение роста качества городской среды; обеспечение разнообразия и инновационности городской среды; обеспечение реализации гражданской активности; формирование сообществ |
|
Факторы организации и использования общественных про странств |
Кровные, соседские, религиозные связи, определяющие привлекательность общественной жизни и спрос на общественные пространства |
Ограничение возможностей пространств (захват, опасность) из-за подчиненности города автомобильной идеологии. Разнообразные формы социальной кооперации, согласовывающей асимметричные интересы; потребность в неформальной жизни |
Брендинг города; наличие инструментов плейсмэйкинга, организующих пространство; развитие шеринг-среды (пространств совместного использования); развитие platform economics – самоорганизация граждан через различные платформы |
|
Ограничения на использование общественных пространств |
Распространение права доступа на пользование «общественным» пространством |
Временн ы е и территориальные ограничения (выпадение общественных пространств из ежедневных миграционных маршрутов); юридические (возрастной ценз) и экономические ограничения (в оплачиваемых потребительских пространствах) |
Гибкая напряженная работа, «оттягивающая» время от неформальной жизни в «третьих» местах. Затухание функции гражданской активности |
Окончание табл. 10
|
Признаки |
Экономическая эпоха |
||
|
Доиндустриальная |
Индустриальная |
Постиндустриальная |
|
|
Факторы формирования новых контуров общественных пространств |
Открытость и доступность общественных пространств для различных слоев населения (еще до устранения сословных различий и получения права голоса всеми слоями населения: например, рыночная площадь Пале-Рояль в Париже, публичные библиотеки, парки, музеи в Лондоне и Нью-Йорке в XIX в.) |
Автомобильная идеология города; идеология приватизации существования |
общественных пространств.
ственного ресурса.
мых общественных пространств.
монофункциональных обще ственных пространств в статус многофункциональных, в новые формы использования.
устройств и медиаплатформ, использование сервисов геолокации |
|
Угрозы для развития общественных пространств |
Кастовая и классовая сегрегация, «закрытие» общественных пространств от проникновения незнакомцев |
Сегрегация, фрагментация, изоляция, приватизация общественных пространств за счет коммерциализации публичной сферы, уход в частную жизнь из публичной сферы; уход первых мест в пригороды и запустение общественных пространств; стандартизация и усреднение услуг общественных пространств и потеря их уникальности и разнообразия |
|
Подобная «отчуждающая геометрия модернизма» [51, c. 142] существенно снизила проницаемость городской среды. Данные виды сегрегации спровоцировали, в свою очередь, всплеск имущественной сегрегации, когда обеспеченные слои населения, благодаря доступности личного транспорта и поддавшись искушению «автомобильной солидарности» начали осваивать новые, социально более однородные и релевантные им, не «запятнанные» социальными проблемами районы города и пригороды, тем самым инициировав процессы «расползания» агломераций. Подобные градостроительные заблуждения привели к ситуации, которую А. Новиков определяет как намеренное транслирование социального статуса в пространственную структуру» [17, c. 52]. Концепция
«скорости», тожественная идее свободы, основывалась на возможности горожанина «убежать» от социальных искажений, таких как бедность, районы трущоб, высокий уровень преступности, загрязнение окружающей среды и пр. Подобные процессы атомизации и «геттоизации» городской среды сподвигли исследователей-урбанистов на создание множества утопических моделей городов, свободных от негативного социально-экономического следа [67–69]. Таким образом, крепкий доиндустриальный узел социальных практик, гетерогенных индивидов и сообществ, калейдоскопических форм взаимодействия в городской среде был раздавлен под колесами автомобилей. Эти тренды запустили процессы морального износа общественной среды путем раз- рушения сложности и востребованного многообразия общественных пространств.
В индустриальную эпоху предприятия занимали центральные территории города, вытесняя старые общественные пространства и меняя функциональное назначение центральных городских кварталов. Вокруг промышленных предприятий и в отдалении от них вырастали жилые кварталы для фабричных рабочих. По мнению Л. Вирта, место работы стало все больше отделяться от места жительства, поскольку «близость промышленных и коммерческих учреждений делает район нежелательным для проживания» [49, c. 29]. Новый капиталистический порядок общественного производства отделил пространство дома (первое место) от пространства работы (второе место) и от общественных пространств неформального общения. По наблюдению А. Лефевра, функции обмена, оборота, труда, культуры и досуга в городской среде оказались дифференцированными и обособленными на всех уровнях иерархии (дома и жилища, соседского сообщества, квартала, города), что привело к расслоению города [55, c. 21].
Кроме того, особенности организации трудовых отношений, меняют приоритетность мест в системе «дом – работа – общественные пространства». Время, направляемое работниками на потребление различных мест в жизненной иерархии, перестало подчиняться естественным ритмам человеческой природы, а начало синхронизироваться с тактами конвейерной линии, а у жителей отдаленных жилых районов – еще и со стуком железнодорожных, автомобильных и трамвайных колес. По поводу подчинения биоритмов человека машинному производству Г. Зиммель замечает, что «техника жизни в большом городе вообще немыслима без того, чтобы все виды деятельности и все взаимоотношения были самым пунктуальным образом подчинены твердому, надындивидуальному графику» [48, c. 84]. Жесткая временная регламентация использования второго места – работы – сделало потребление неформальных общественных пространств фрагментарным и эпизодичным. Приори- тетная последовательность потребления мест «дом – работа – третье место» деформируется. Во временном континууме начинает доминировать рабочее место. Поэтому дефицит времени, отводимый дому, как первому месту, начинает восполняться за счет перераспределения времени от общественных пространств.
Сказанное позволяет нам определить влияние, которое новые институты капитализма оказали на ценность мест в жизненной иерархии, их порядок и микроэкономический пространственный выбор индивида. Однообразие выполняемых функций на рабочем месте стандартизировало навыки индивида, что обернулось для него стандартизацией его активов «второго места». При этом резко сократился набор и потребность в таких высокоспецифичных активах, как социальный капитал, включающий связи на рабочем месте и репутацию. В итоге преобладающим способом координации во втором месте стал рыночный порядок. В организации городской среды также стали превалировать принципы стандартизации. Унифицированная городская среда, в которой «множеству людей приходится сообща пользоваться техническими средствами и институтами» [49, c. 34], призвана обслуживать среднего жителя, отвечая его массовым требованиям. Следовательно, услуги общественных пространств также усредняются, становятся более однообразными. Унифицированные «услуги» общественных пространств стали сводиться к исключительно рыночной их форме – торговым центрам, то есть рассматриваться с точки зрения одного вида активности – потребления (исключив функцию гражданской активности и пр.). Индивидуализм, поддержанный финансовыми институтами (кредиты на приобретение собственных домов, автомобилей) и институтами планирования и застройки городов (функциональная сегрегация города, строительство жилья на окраинах и опустение центров), девальвировал ценность видов деятельности, осуществляемых в общественных пространствах (третьем месте). Это означало, что в третьих местах также стал преобладать рыночный порядок координации поведения индивидов. Поскольку в городской среде относительно возросло число видов деятельности, регулируемых рыночным порядком, это привело к сжатию активностей, координируемых домашним порядком. Следовательно, поменялось соотношение порядков в системе мест. Сокращение активов (их относительная редкость), регулируемых в рамках «внутренних рынков», вызвало увеличение относительной ценности данных активов, что определило массовый исход индивидов в «первое место», или частную жизнь. Поэтому в промышленно развитых странах начался массовый уход из третьих мест в сферу семейной жизни, что привело к опустошению и деградации общественных пространств и городской среды в целом. Бегство в пригород, в сторону частной жизни, привело к «выгоранию» центров городов, уходу разнообразия активностей и досуга из городской среды. Запустение и упадок общественных пространств в городских центрах и перемещение жизни на окраины и в пригород определило развитие некоторых крупных европейских и американских городов по типу «эффекта бублика». Отсутствие необходимых общественных площадок на окраинах рассредоточенных городов снизило уровень гражданской активности и политической инициативы индивидов. Следовательно, в индустриальную (фордистскую) эпоху отсутствие «спонтанной и органичной общественной жизни» и общественных пространств, реализующих функции неформального общения вне работы и дома, привело, по мнению А. Лефевра, к полной «приватизации» существования [55, c. 23].
Трансформации, произошедшие в иерархической системе мест под влиянием нисходящих связей от институтов организации производства, транслировали восходящие импульсы на организацию городской среды. В результате изменения в потреблении общественных пространств можно объяснить следующими факторами. Во-первых, процессы стандартизации производства, экстраполированные на организацию городской среды, сделали общественные пространства однородными, скучными, что затерло ключевой элемент общественных пространств – новизну и разнообразие, помещающий третьи места в жизненную иерархию мест. «Пунктуальность, доступность расчету, точность, которых властно требуют от жизни горожанина сложность и пространственная протяженность большого города… способствуют удалению из нее тех иррациональных, инстинктивных, суверенных, характерных черт и импульсов, которые по природе своей стремятся сами определять форму жизни» [48, c. 85].
Во-вторых, необходимость размещения производственных цехов на расширенной территории пространственно изолировала места проживания и рабочие места, иногда значительно удалив их друг от друга. Подобная расчлененность городского пространства, его фрагментирован-ность, накладывали на ежедневную трудовую миграцию работников дополнительные временные издержки, «покрываемые» за счет «отрицательного» потребления городских пространств. Иными словами, работники перераспределяли время от третьих мест в пользу дома. Если в доиндустри-альную эпоху общее пространство дома и работы делало желанным и запланированным потребление неформальных пространств, то в индустриальную эпоху «разведенность» первого и второго мест приводила к выпадению общественных пространств и неформальных контактов из коридоров ежедневных миграционных маршрутов как в плане территориального несовпадения, так и во временном контексте, что снижало качество отношений и социального капитала. «Большие расстояния меняют геометрию дружеских связей» и «повышают цену каждого дружеского контакта», оказывая на социальные связи людей, прежде всего слабые, «рассеивающий эффект», – заметил Ч. Монтгомери [51, с. 70]. На потребление третьих мест, как наименее значимых в иерархии, не оставалось ресурсов времени, поэтому произошло размывание их функций в городской среде.
В-третьих, новая модель производства и потребления привела к переосмыслению значения дома в иерархии мест. Высокий уровень психологического напряже- ния от однообразного, выматывающего труда и присутствия большого количества чужих людей, связанных «конвейерным» рабством, усилил значимость дома для восстановления физических и эмоциональных сил. В условиях «односторонней эффективности», отражающей узкую специализацию работников, индивид был «низведен до статуса пренебрежимо малой величины, пылинки перед лицом гигантской организации вещей и сил» [48, c. 106]. Как отмечает Д. Гартман, дома, в кругу семьи, можно было укрыться, отвлечься от чужеродности рабочего места, добровольно изолироваться от вынужденного конвейерного соседства. Первое место «поддерживало иллюзию автономности и самостоятельности личности», «иллюзию неприкосновенности частной жизни, сосредоточенности на самом себе и изолированности от внешнего мира в окружении семьи и имущества» [57, с. 27]. Возникновение подобной иллюзии было связано с тем, что «фрагментарность, присущая рабочему месту, была отделена во времени и пространстве от целостности, свойственной домашней обстановке» [57, с. 27]. Плотная городская среда, наполненная большим количеством незнакомцев, также вызывала, по опасениям социологов, внутреннюю атомизацию человека, что выгодно оттеняло ценность первого места как локации, позволяющей избежать нежелательного, незапланированного контакта. Если бы, по мнению Г. Зиммеля, «на непрерывное внешнее соприкосновение с бесчисленными людьми должны были отвечать столь же многочисленные внутренние реакции… то это… приводило бы его (человека) в совершенно невообразимое душевное состояние» [48, c. 90–91]. Преимущества городской среды состояли в том, что данный образ жизни позволял не отягощать себя мыслью, что вы часть сообщества, и индивидуалистический образ жизни становился приемлемым. Данная индустриальная культура предполагает «мужество быть одиноким» [60, c. 22]. Первое место приобрело особый смысл как последнее прибежище автономности, независимости человека, обеспечивающее воз- можность укрытия от навязчивой конвейерной «сцепленности» с чужаками. В этих условиях обострилась проблема выгорания социального капитала города, созвучная бегству из общественных пространств, когда люди теряют связи с соседями, местными сообществами и случайными незнакомцами и утрачивают к ним доверие. Граница социальных связей индивида все ближе сдвигается к «ближнему кругу», когда человек замыкается на семье и близких людях (М3→М1). Проблема отмирания «слабых» связей в ежедневной системе контактов поднята в исследовании Р. Патнэма [70].
Пространственный дрейф локаций дома и работы, дистанцированность первого и второго мест, неустойчивость индивидуальной конфигурации мест затрудняли поддержание тесных и продолжительных знакомств. Подвижность локаций в иерархии мест «М1 – М2 – М3» и продолжительные трудовые миграционные маршруты создавали временный характер среды обитания, который девальвирует или исключает долгосрочные соседские привязанности, в основании которых лежит общая история, родословная, традиции, образ жизни. Сообщества теряли свой локальный характер, привязку к «первому» месту, начинали «мигрировать», рассеиваться по городу. В индустриальной городской среде начали превалировать сообщества, организующиеся по различным основаниям и складывающиеся на основе «второго» и «третьего» мест, с которыми индивид идентифицировал себя. При этом, как замечает М. Алексеевский, в крупных городах общегородская идентификация теряет смысл, поскольку разнородный крупный город не соответствует человеко-соразмерному уровню идентичности [71, c. 99]. Люди самоопределяются через вовлечения в разные активности, коммуникации, реализуемые в общественных пространствах. Поэтому общественные пространства могут использоваться для идентификации индивидов и групп, формирования сообществ и их «размещения». В индустриальную эпоху актуализировалась значимость общественных пространств как локаций самооргани- зации индивидов по интересам и сферам деятельности.
В индустриальную эпоху мы наблюдаем деформацию системы связей на микроуровне. Рассредоточение городов привело к переключению индивида на «ближние» связи, поскольку ежедневная трудовая миграция «съедала» слишком много времени и сил, ограничивая возможности индивида установить дружественные отношения с соседями, поддерживать связи в местном сообществе или проявлять гражданскую активность. В числе объяснений подобного ухода от общественной жизни можно назвать завышенные ожидания от первого места, в которое сделаны существенные инвестиции («мой дом – моя крепость»); выбор формата индивидуального домовладения менее социабельными индивидами; дефицит общественных площадок для развития слабых связей вне городских центров; особенности организации городской среды, когда человек, измотанный ежедневной дорогой «дом – работа – дом», эпизодично, «наскоками» потребляет фрагментарные порции общественной информации, связей, событий, проектов, не имея времени «погрузиться» в продуктивное очное взаимодействие лицом к лицу. При этом из сферы повседневных контактов выпадал определенный спектр взаимоотношений: это не взаимодействия с близкими (первое место), но и не абсолютные незнакомцы, которых мы встречаем в ходе постоянной миграции по городу. Это взаимоотношения, доступные только в общественных пространствах.
В период поздней индустриальной эпохи (вторая половина ХХ в.) новые технологии в сфере транспорта снизили необходимость размещения промышленных предприятий вблизи рынков сбыта, что привело к миграции производства из городских центров на территории с более благоприятным налоговым климатом, трудовым законодательством, дешевой рабочей силой и менее активным профсоюзным движением (как правило, в развивающиеся страны). Процессы интернационализации мировой экономики, усилившиеся во второй половине ХХ в., также оказали влия- ние на трансплантацию функций соседних в иерархии мест. Речь идет о гендерных аспектах сращивания функций первого и второго мест в условиях, когда женская занятость в домашнем хозяйстве субсидировала развитие экспортоориентированных сельскохозяйственных отраслей экономик, включающихся в мировые глобализационные процессы. Политика поддержания конкурентоспособности стратегически значимых экспортных сельскохозяйственных и добывающих отраслей на основе низких издержек (низкой заработной платы мужчин) обеспечивалась «бесплатной» расширенной занятостью женщин в домашнем и подсобном хозяйстве, что фактически определило для них возврат к доиндустриальной модели совмещения системы мест в одной локации. Данные гендерные аспекты субсидирования экспортного потенциала страны подняты в исследованиях Е. Боузрап, С. Сассен и др. [72; 73].
По-иному образцу шло развитие городской среды на бывшем советском пространстве, специфика которой задавалась особенностями советской модели мест и соотношением типов координации в этой системе. В СССР рыночный порядок координации был заменен на плановый порядок, который, однако, также сосуществовал с домашним порядком. В первом месте доминировал домашний порядок, но многие домашние обязанности (особенно по воспитанию детей) были переданы коллективным институтам – детским садам, школам, летним лагерям и т. д. На рабочем месте превалировал квазииндустриальный порядок координации – кумовство, партийная рекомендация, служебная «дружба», патронажное покровительство, противопоставленные профессиональной состоятельности и деловой репутации. Поэтому даже при неразвитых общественных пространствах (третьих местах) не было существенного перевеса ценности активов первого и второго мест против ценности третьих мест, и этого было достаточно для поддержания активной неформальной (хотя и аполитичной и гражданственно нейтральной) общественной жизни.
Хотя порядок мест соответствовал традиционной модели «М 1 – М 2 – М 3 », присутствовала круговая трансплантация функций мест (М 1 →М 2 →М 3 →М 1 ). Уравнительный принцип в распределении ресурсов и доходов устранял мотивацию к повышению производительности труда, обусловливая оппортунистическое поведение на рабочем месте, когда традиционные домашние функции часто выполнялись в рабочее время (М 1 →М 2 : сбегать в магазин за продуктами, связать свитер, забрать детей из детсада и пр.). То есть «второе место» принимало на себя функции «первого места». Функцию «третьих мест» часто выполняло подсобное и дачное хозяйство, то есть индивид переносил свое неформальное общение в локацию дома (М 3 →М 1 ). Как отмечает Е. Базуева, советской модели труда была свойственна тройная занятость – на работе, дома, в подсобном хозяйстве [27, c. 64], когда индивид экономил трудовые усилия на рабочем месте, перенося трудовую функцию в дачно-огородное хозяйство, выполнявшее роль «третьего места» (М 2 →М 3 ).
Крупные советские промышленные предприятия также реализовали принципы фордизма в организации производственной деятельности. По мнению В. Гуаярта, «здесь города выполняли вспомогательную функцию для подвига человека в труде, для экономических целей и рабочего процесса»1. Крупные производственные компании обеспечивали продолжительную, часто пожизненную занятость, выступали центрами притяжения рабочей силы, вокруг которых искусственным образом формировались поселения или города. Коллеги «по цеху» часто становились соседями по микрорайону, поскольку проживание работников завода часто было локализовано в одном рабочем районе, построенном либо вблизи производственных цехов, либо в отдельном пространственно удаленном спальном микрорайоне. Н. Зубаревич считает, что настоящей городской среды в этих городах не было и поселения, образованные вокруг фабрик и заводов, более точно описываются термином «слободиза-ция», введенным В. Глазычевым [74, c. 32]. Городская среда и культура, городской образ жизни предполагают ответственность живущих людей за среду своего обитания, когда люди получают «прививку городской политической культуры» [75, c. 39], руководствуются в своей повседневной жизнедеятельности не только личной, но и общественной выгодой, разделяют просо-циальные ценности, учитывают общественные последствия своих индивидуальных действий и проявляют готовность объединиться для решения общих задач. При этом, чтобы быть хозяевами в городе, не обязательно активно участвовать в политической жизни сообщества и города, достаточно просто чувствовать свою ответственность за состояние городской среды, поддерживать порядок на собственной территории (содержание в чистоте подъездов и дворов, поддержание целостности общедомового имущества и пр.), улучшающий повседневную среду обитания, договариваясь и самоорганизовываясь с другими людьми. Именно отсутствие возможностей для самообъединения, когда идеологическая пропаганда подавляла любые проявления гражданской инициативы, и отсутствие личной мотивации для коллективного решения реальных общегородских задач и определили «трагедию общин» в советских городах.
В отличие от западных моделей жилой застройки, ориентирующейся на потребителя-индивидуалиста, высоко ценящего личные свободы и автономность приватной жизни, развитие городской среды в советских городах не пошло по образцу «бегства» жилых кварталов в пригород на основе принципов индивидуального домостроения. Немаловажное значение здесь сыграла коммунарная идеология, а также низкий уровень материального достатка работников и ограниченность ресурсов для личного потребления в условиях примата развития военной промышлен- ности. В планировке центров городов с широкими улицами и бульварами, прямыми геометрическими формами, большими открытыми и пустыми пространствами и площадями заложен посыл о доминировании государственного над индивидуальным (частным), подавляющий человека своими масштабами, свидетельствующий о централизации и авторитаризме власти. Подобные архитектурные формы, по мнению И. Утехина, демонстрируют «властные устремления организовывать и контролировать верноподданнические толпы» [63, c. 34].
Доступность и массовость жилья была обеспечена строительством многоквартирных зданий в жилых спальных микрорайонах, а также в центрах городов вблизи мест приложения труда. Как отмечает Т. Михайлова, отсутствие рынка жилья и категории «рыночной стоимости жилья» вызывало искажения в использовании городской территории, когда самые лучшие земли в центрах городов занимали промышленные предприятия [76, c. 45]. Данные планировочные решения до сих пор влияют на ежедневные трудовые миграционные потоки современных городов благодаря институциональной инерции. Люди вынуждены преодолевать значительные расстояния между отнесенным в спальные районы местом жительства и местом приложения труда, которое может располагаться в центре города. Следовательно, плотность населения может расти при движении от центра к окраинам, нарушая принцип центробежного «убывающего градиента плотности». Хотя функциональная сегрегация коснулась планировочных решений советских городов, городскую среду практически обошла имущественная и социальная сегрегация, потому что жилая среда находилась в смешанном использовании различных социальных страт. Благодаря низкому уровню социальной дифференциации населения в пространстве современных городов не образовались зоны изоляции и «гетто» [76, c. 48].
При строительстве спальных районов были реализованы типовые схемы планирования застройки, т. е. процесс гра- достроительного проектирования обеспечивался поточно-конвейерным способом. Как отмечает М. Меерович, новый способ индустриального домостроения обеспечивал резкое снижение стоимости квадратного метра жилья, равноценность условий обитания для фабричных рабочих путем предоставления каждой жилой ячейке равно удовлетворительных условий освещения, доступа к зеленым насаждениям, средствам передвижения, сокращение сроков строительства [77, с. 206]. Проживание в пределах одного жилого района предполагало пользование одними общественными пространствами (рынки, дворцы культуры и площади перед ними, парки культуры и отдыха, места общественного питания и т. д.) и схожесть моделей досуга. Следовательно, у работников советской модели массового производства набор локаций в цепочке «дом – работа – третье место» был примерно одинаковым. Это обусловливало совпадение ежедневных траекторий и ритмов трудовой миграции, основанное на схожем образе жизни и уровне благосостояния, общий набор коллективных интересов, задаваемых пропагандой. У советского человека, по мнению Е. Шульман, навыки совместного действия и публичного высказывания были успешно уничтожены, а общество атомизировано [75, c. 44], поэтому общественные пространства создавали видимость объединения на идеологической почве (например, во время демонстраций, парадов), несли функцию предложения «публичных персонажей» в лице партийной номенклатуры (во время агитаций и организованных митингов). Кроме этого, общественные пространства выполняли традиционные функции, такие как создание среды взаимоузна-ваемости, ассимиляция чужаков, форум для обсуждения повседневных вопросов. Понимание общности интересов и внешне разделяемых ценностей способствовало формированию институтов доверия на производстве и в городских сообществах. Неформальный институт доверия, в свою очередь, способствовал появлению института профсоюзного объединения. Индустриальный порядок жизни и подчинен- ность человеческих ритмов ритмам производства определил всю систему советского школьного и дошкольного образования и присмотра за детьми (ясли – сад – школа – продленка – секция в доме творчества или дворце пионеров), когда родители целый день находятся на работе и в дороге.
В постиндустриальную эпоху «в обществе широко разворачивается телекоммуникационная революция, меняющая экономическую сферу и всю сферу труда в широком смысле слова» [73, c. 16]. Изменение структуры экономики в эпоху ин-формационализма в пользу высокотехнологичных отраслей и снижение доли традиционных секторов меняют требования, предъявляемые к рабочей силе, и деформируют структуру спроса на нее. Постоянный рост уровня знаний и появление новых технологий требуют от рабочей силы непрерывного образования и повышения квалификации. Высокотехнологичные компании осуществляют рекрутинг из пула наиболее образованной и квалифицированной рабочей силы, которая является наиболее высокооплачиваемым сегментом рынка труда. Потенциальные работники со средним уровнем квалификации, испытывающие трудности с трудоустройством в традиционных секторах вследствие ограниченного спроса на рабочую силу, сталкиваются с перспективой нисходящей социальной мобильности, поскольку их квалификация не соответствует требованиям, предъявляемым в новых информационных секторах. Р. Коллинз связывает ситуацию, когда «под нож попадают рабочие места для среднего и верхнего среднего класса», с действием следующих факторов: усиливающаяся глобальная конкуренция между претендентами на квалифицированную работу в условиях информатизации экономики и перехода к работе удаленным способом; повышение мобильности рабочей силы и глобальная миграция компетенций; гомогенизация рабочей силы верхнего среднего класса, ведущая к снижению управленческих расходов и замещению технократического труда [54, c. 71–72].
Трансформация и реструктурирование прежнего экономического уклада не означало мгновенного разрушения прежних форм организации производства и занятости. Как отмечает М. Ильченко, затруднительно провести жесткую разделительную линию между двумя эпохами, «прошлое» продолжает присутствовать в настоящем, приобретая новые формы и характер существования. «Перестраивалась система рыночных взаимодействий, трудовых отношений, видоизменялись городская среда и механизмы коммуникации в ней, менялись жизненные ритмы человека, его привычки, модели поведения, способы восприятия окружающего пространства» [78, c. 6]. Современные города являются вместилищем разнообразных способов организации производства, трудовых практик, разнообразных акторов, моделей взаимодействия в общественных пространствах и выстраивания социального диалога. Элементы прежнего и нового экономического уклада «тесно переплетаются в системе единых механизмов и практик», ком-плементируют друг друга, «мир значительно усложняется, дифференцируется, сегментируется» [78, c. 7, 9]. Подобный симбиоз форм и практик организации производственных и трудовых отношений неизбежно трансформирует, гибридизирует традиционные функции домашнего, рабочего, общественного пространства, что меняет декомпозицию и значимость мест в иерархии жизненного уклада индивида.
Реорганизация производственных процессов привела к созданию более гибких форм занятости и изменила характер труда. Сразу следует оговориться, что данные формы занятости и организации производства еще не стали преобладающими не только в большинстве стран мира, но и в большинстве традиционных отраслей. Как точно заметил В. Мартьянов, «широкое внедрение информационных технологий сформировало новую отрасль весьма прибыльной глобальной экономики, связанной с компьютерами, программным обеспечением, Интернетом, электронными коммуникациями, развлекательными масс-медиа, но почти не сказалось на реальной производительности труда для подавляющего большинства других секторов эконо- мики» [79, c. 59]. И, добавим, не только на производительности, но и на организации труда. Р. Сеннет также отмечает, что подобные институциональные изменения на рынке труда, скорее, «стоят на переднем краю изменений, показывая, каким должен стать бизнес» [45, c. 100]. Поэтому говорить об устойчивости и повсеместном превалировании институтов гибкого капитализма в данный отрезок времени слишком рано. Однако попытаемся осуществить некую теоретическую экстраполяцию трендов, доминирующих в глобальных информационных отраслях экономики, как пионерах институциональных трансформаций, на будущую структуру производства и занятости городов и территорий (табл. 11).
Таблица 11. Сравнительная характеристика форм организации производства и занятости и их влияние на восприятие места и территории
Table 11. Comparative characteristics of the production and employment organization forms and their impact on the space and territory conceptions
|
Признаки различий |
Фордистская модель регуляции (жесткий капитализм) |
Постфордистская модель регуляции (гибкий капитализм) |
|
Тип подхода |
Отраслевой |
Территориальный |
|
Значение территории |
Базис для размещения предприятий, отраслей. Структурно однородный анклав |
Активная единица, производственная система с локальным ресурсом взаимодействия |
|
Первичный источник концентрации экономической активности, динамики развития |
Предприятие, вокруг которого вырастает город |
Территория, притягивающая компании и бизнес |
|
Тип города, сопряженный с концентрацией активности |
Искусственный город |
Эволюционный город |
|
Объекты исследования |
Предприятия, комплексы |
Территории: дистрикты (промышленные районы) и локальные производственные системы |
|
Функциональное наполнение объекта исследования |
Монофункциональность |
Мультифункциональность |
|
Приоритетная форма предприятий |
Крупные |
Мелкие, средние, крупные |
|
Тип компаний |
Локальные компании |
Глобальные корпорации |
|
Тип организации производства |
Жесткая вертикальная |
Гибкая горизонтальная, сетевая |
|
Локализация конкуренции |
Межфирменная (внешний рынок) |
Внутрифирменная (внутренний рынок), между командами, реализующими одинаковые проекты |
|
Влияние институтов организации труда на мобильность локации «второго места» |
Существует привязка к месту. Жесткий стационарный офис |
Отсутствует привязка к месту. Модифицируемый офис гибкой формы |
|
Характер использования места |
Присутствует власть места над потребителем городского пространства |
«Единоразовое» потребление, психология присвоения благ места по максимуму |
|
Степень географической мобильности потребителей городской среды |
Низкая |
Высокая; высокая склонность к миграции; феномен географического непостоянства |
|
Степень привязанности к месту |
Высокая, обусловленная привязкой ко «второму месту», стационарностью компаний и рабочих мест |
Низкая; возможно отсутствие точек притяжения в городской среде; стандартизи-рованность потребления; нейтрализация общественных мест; потеря коллективной памяти и местных смыслов |
Потребность в создании компаний, способных трансформироваться в ответ на постоянно меняющиеся внешние рыночные условия при глобализации потоков капитала, финансов, рабочей силы, определила новые формы организации труда. Внутри компаний иерархия бюрократического управления заменена на принцип рыночной конкуренции, когда для решения каждой новой производственной задачи создаются команды, конкурирующие между собой при реализации нового проекта. Это означает, что при исследовании иерархических экономических систем акценты переносятся с базовых уровней объектов (наноуровень – работники, микроуровень – фирмы) на более гибкие, промежуточные мезоуровни (команды и командные игроки). По мнению Э. Дюркгейма, современное разделение труда станет фактором «органического соединения граждан». Более того, сама организационная и производственная культура организована в рамках коллективных проектных действий. Относительно «идеи нового группового мышления», высказанной С. Кейн, историк архитектуры А. Ланж замечает, что современным процессам творческого созидания и интеллектуальных поисков благоприятствуют «до странности стадные условия», когда одинокие гении оказываются вне игры, «в моде сотрудничество» [80, c. 41]. Проектная командная работа начинает занимать неизменное приоритетное место в организации рабочего процесса, чему в немалой степени призвана содействовать открытая планировка современных офисов с гибкими перегородками и прозрачными стенами.
Как подчеркивает Р. Сеннет, чтобы определить влияние, которое новая форма производственных отношений и новая форма организации труда оказывает на городское пространство, необходимо выделить временное измерение данной гибкости [45, с. 100]. Л. Тевено, указывая на исходно конфликтный характер отношений между различными порядками координации, отмечает, что «самый простой путь проанализировать конфликтные отношения между рыночной и индустриальной формами координации – это обратить внимание на последствия вве- дения в анализ категории времени» [52, c. 30]. В рамках нашего исследования, наиболее явно данный конфликт проявляется в условиях второго места (работы), что можно проследить, проанализировав временный характер отношений занятости в постиндустриальную эпоху, влияющий на выбор, осуществляемый индивидом в системе мест.
В авангарде институциональных изменений на рынке труда стоит переход от долгосрочной, локализованной занятости к краткосрочной, миграционной занятости, которую У. Бек обозначил как «культуру беспрестанных кочевок» [47, c. 39]. Переход к занятости, ориентированной на выполнение специфических задач в краткосрочных проектах, предполагает окончание работы в связи с решением задачи в ходе проекта, что особенно характерно для высокотехнологичных и креативных отраслей. Работодатели отказываются от принятия на себя «долгоиграющих» обязательств найма, даже в отношении наиболее ценных работников. Проектная занятость предполагает краткосрочную работу и условно добровольную смену рабочего места, зачастую сопровождающуюся сменой локации и места проживания. Происходит переход от модели выстраивания долгосрочных траекторий занятости в одной компании и проживания в одной локации к модели гибкой занятости. В городской среде начинает формироваться слой прекариата – людей, не обремененных постоянными трудовыми отношениями и собственностью, не укорененных в городской среде, которые становятся основными потребителями шеринг-пространства [75, c. 40]. Кроме очевидных индивидуальных преимуществ совместного потребления в виде свободы выбора, роста физической активности, снижения затрат на содержание собственных активов (например, большинство автомобилей значительную часть срока эксплуатации простаивают у дома, офиса или торгового центра, а владелец платит за парковку, страховку, амортизацию, налоги) или необходимости инвестиций в собственное жилье, шеринг-среда открывает хорошие перспективы для развития общественных пространств. Автомоби- ли в совместном пользовании уменьшают интенсивность трафика и делают более безопасными улицы, высвобождают парковочное пространство. По оценкам исследователей, до 40% городских территорий занято автомобилями, и при развитии шеринг-пространства в городской среде появляется больше площадок для организации общественных мест [51]. Проведенные исследования свидетельствуют, что один автомобиль, находящийся в системе совместного использования, позволяет освободить город от 15 личных автомобилей [17, c. 62].
Институты краткосрочной занятости и их неустойчивость задают своеобразные «кодексы поведения» работников, в основе которых лежат новые нормы и правила, организующие их повседневное поведение и взаимодействие в трудовой и неформальной (городской) сферах жизнедеятельности. Институты гибкой организации труда координируют связи в системе «задача – команда», а постоянная ротация коллег по проекту отвергает долговременную привязанность и лояльность работника к компании. Временные ограничения в формировании приверженности к ценностям компании и преданности работников снижают производительность труда и заинтересованность в сохранении корпоративной тайны. Это обусловлено следующими обстоятельствами. Краткосрочная занятость в незнакомых командах, во-первых, сопровождается высоким уровнем стресса, затрудняющим быструю концентрацию на выполняемой задаче и включенность в командную работу, что сказывается на производительности труда. Во-вторых, конкуренция между командами, реализующими один и тот же проект, неизменно в итоге предполагает аутсайдеров и взаимные претензии в проигравшей команде. В-третьих, отсутствие перспектив дальнейшего сотрудничества может привести к оппортунистическому поведению и наложить на участников издержки отлынивания. В-четвертых, отсутствие доверительных и долгосрочных отношений препятствует диффузии инноваций, поскольку распространение новых идей требует тесных, доверительных, длительных отношений между участниками взаимодействия. Следовательно, новый хозяйственный порядок может создавать ограничения в формировании и поддержании инновационной среды. Можно заключить, что институты гибкой занятости препятствуют созданию институтов «второго места» и формированию института доверия.
Здесь мы опять фиксируем конфликт между рыночным порядком координации поведения (нацеленность на краткосрочную занятость и выполнение проекта, постоянная ротация, стремление к оппортунистическому поведению и отлынивание) и индустриальным порядком координации (формирование приверженности к ценностям компании и преданности работников, сохранение корпоративной тайны) (табл. 12).
Таблица 12. Влияние конфликта рыночного и индустриального порядков координации поведения на порядок в иерархической системе мест индивида
Table 12. Impact of a conflict between the market and industrial regulation orders on the order in the individual hierarchical set of places
|
Характеристики порядков |
Индустриальная эпоха |
Постиндустриальная эпоха |
|
Преобладающие институты производства и занятости |
Долгосрочная «конвейерная» заня тость в крупных компаниях |
Краткосрочная проектная занятость |
|
Особенности рыночного порядка координации |
труд.
няемой операции.
ства связанных конвейером людей.
|
поведения.
|
Окончание табл. 12
|
Характеристики порядков |
Индустриальная эпоха |
Постиндустриальная эпоха |
|
Влияние рыночного порядка на направления изменения (девальвации или ревальвации) индустриального обоснования ценности |
|
|
|
Экономические и социальные издержки конфликта порядков координации |
|
|
|
Влияние конфликта порядков на систему мест |
|
|
|
Влияние конфликта порядков на городскую среду |
Бегство из промышленной среды городов в ареалы проживания. Отказ от потребления общественных пространств и участия в коллективном действии |
Снижение привязанности к месту и заинтересованности в его улучшении. Повышенная готовность тронуться с места, низкий уровень вовлеченности и участия в решении местных вопросов данного города |
Новые экономические институты определяют, в свою очередь, новые модели поведения и формы взаимодействий в общественных пространствах, т. е. новый общественный порядок.
В постиндустриальную эпоху в условиях изменения институтов производства и занятости, места, в которых локализуется повседневная жизнедеятельность человека, становятся взаимопроникаемыми, взаимозависимыми, начинают брать на себя выполнение ранее несвойственных им функций соседних в иерархии мест, нарушая ранг мест. Поверхностные, краткосрочные рабочие отношения постиндустриальной эпохи создают свою проекцию на неформальные отношения в городской среде. В работе Р. Сеннета данное влияние представлено в трех формах – физическая связь с городом; стандартизация городской среды; отношения между семьей и работой в городе [45, с. 101]. Мы используем данный подход для исследования модификации системы мест и общественных пространств.
Первый аспект влияния состоит в изменении характера локаций, соответствующих системе мест. В условиях действия новых экономических институтов люди больше не ориентированы на долгосрочную занятость в компании, предполагающую жесткую привязку к месту жительства, поэтому значимость локации «дом» для их повседневной жизни снижается. При частой смене места жительства отсутствует власть места над потребителем, что делает людей менее чувствительными к качеству среды обитания. Локация, соответствующая первому месту, становится очень подвижной. Эластичность спроса на качественное городское пространство зависит, в числе прочего, от наличия у человека собственного жилья, которое капитализирует качество окружающей городской среды. Краткосрочный характер участия в проектах и отсутствие постоянной занятости определяют высокий уровень мобильности рабочей силы. Отсутствие возможности и необходимости
«пустить корни» в данной местности ориентирует людей на краткосрочные арендные отношения, а не на приобретение собственного жилья и обрастание соседскими связями. Постоянно сменяемые при переездах локации окрестили в социальных науках «районами ограниченной ответственности» [81], которые предполагают временное, поверхностное знакомство жителей между собой, отсутствие взаимного интереса, привязанностей и обязательств. Это существенно влияет на эрозию социального капитала территории. Данные обстоятельства негативно сказываются на экономическом развитии территории, что подтверждают исследования, согласно которым гордость людей за свой город, привязанность к нему, ощущение своего места удерживают их от частой смены работы и повышают производительность труда, что вызывает рост локального валового внутреннего продукта [51, c. 311].
Траектория краткосрочной занятости предполагает постепенную смену жестких офисов компаний, преобладающих в индустриальной модели, на гибкие модифицируемые офисы, быстро перестраиваемые для целей реализации новых проектов, что повышает уровень мобильности второго места. Нейтральный характер новых зданий с однообразными визуальными образами и рядами рабочих мест также снижает привязку к определенным местам в городе, делает городскую среду более однообразной и повторяемой со средой других городов. Это связано с тем, что привязанность человека к месту создается не экономическими перспективами, занятостью и безопасностью, а удобством проживания в окружении красивых, хорошо организованных общественных пространств, возможностью общения, доброжелательностью местных сообществ и инклюзивностью мест.
Ценности краткосрочности отношений, отсутствие длительных и глубоких привязанностей мигрируют из экономической сферы и начинают превалировать в неформальной общественной и семейной жизни. Это нарушает традиционный порядок в организации системы мест. Форми- рование краткосрочного характера найма парадоксально приводит к превалированию ценности работы (второго места) в жизненной цепочке мест, меняя композицию мест в сторону модифицированной структуры «М2 – М1 – М3». Люди начинают прилагать более интенсивные трудовые усилия, чтобы утвердиться на рабочем месте, завоевать положительную репутацию и статус «незаменимости» в надежде на продление трудовых контрактов. Такое поведение особенно характерно для молодых, амбициозных и честолюбивых одиночек, не обремененных семейными обязательствами. Подобная категория людей выбирает работу как доминанту в иерархии мест для высвобождения времени от первого места (дома) в «работе над собой» и чтобы «произвести впечатление» на работе. Исследовательская компания Euromonitor International приводит статистику, свидетельствующую о росте числа одиноких людей за десятилетний период (1996–2006 гг.) на 33% [83]. Подобная стратегия выстраивания жизненной траектории определяет рост масштабов «экономики одиночества»1. В развитых странах показатели материального благополучия и социального обеспечения достигли такого уровня, что, по выражению Е. Шульман, семья перестала быть экономически необходимой, т. е. для выживания не нужно совместно вести хозяйство [75, c. 40]. Однако экономическая доступность одиночества не позволяет в полной мере объяснить причины этого явления. Процессы урбанизации и концентрации населения в городах изменили форму мышления общества, в котором стал доминировать, по выражению Э. Дюркгейма, «культ индивида», обусловив переход к состоянию, которое Й. Шумпетер определил как «комфорт, свободу от забот и возможность наслаждаться выбором и радостью разнообразия». Город в данной идеологии представ- ляет собой, по мнению В. Куренного, де-иерархизированную массу одиноких рассудочных индивидов [60, c. 19]. Социолог С. Бингли использует термин «срывание с цепи» для обозначения индивидуальной заботы о личной аутентичности, освобождении от «моральной нагрузки» социального статуса, ценностей «общества потребления» [84]. Хотя идеология индивидуализма возникла еще в XIX в., расцвет культуры «эгоистичных одиночек» начался со второй половины ХХ в. И это было обусловлено группой факторов – ростом средней продолжительности жизни с удлинением периодов взросления и появлением переходного периода ко «взрослой жизни» – «второй юности»; революцией в средствах коммуникации (технологии, обеспечивающие возможность постоянного общения и поддержания социальных связей без необходимости совместного проживания); усилением роли женщин (увеличивается доля занятых женщин и женщин, получающих высшее образование); процессами урбанизации (когда именно города способствуют развитию субкультуры одиноких людей и поддерживают «индивидуальные экстравагантности» и эксперименты с образом жизни) [85, c. 20, 28]. Благодаря постиндустриальной многофункциональной городской среде с развитыми общественными пространствами и многоквартирными холостяцкими лофтами [86] молодые люди могут позволить себе роскошь одиночества. Как замечает Э. Кляйненберг, к концу ХХ в. центры крупных городов превратились в «игровые площадки для взрослых», позволяющие «не киснуть дома, а выходить в свет и общаться», компенсируя свое одинокое состояние повышенной социальной активностью [85, c. 28]. Хотя общественная среда крупных городов благоприятствует формированию и поддержанию моноцентричного образа жизни, подобные «сольные» жизненные стратегии, в свою очередь, создают огромный потенциал для развития общественных пространств. В числе видов активностей, доступных одиноким домохозяйствам в связи с перераспределением времени от дома и семьи (М1→М3), можно назвать приобретение новых способностей и компетенций, овладение новыми досуговыми практиками, раскрытие своего творческого и коммуникативного потенциала, публичную демонстрацию широкого круга интересов, удовлетворение познавательного интереса, формирование сети личных и профессиональных контактов, конструирование собственного имиджа. Такое насыщенное социальное существование и потребность в личностном и профессиональном росте создают спрос на развитые общественные пространства. С помощью публичных пространств люди ведут активную неформальную жизнь, формируя тем самым общественную среду, необходимую для коммуникаций, взаимодействий и взаимной поддержки, что приводит, по мнению И. Уоттерса, к созданию «городских племен», являющихся суррогатом семьи [87]. Таким образом, институт одиночества предъявляет запрос на общественные места в урбанизированной среде.
Интенсивная работа, отличающаяся постоянной задействованностью в различных проектах, оказывает влияние и на «партнерские домохозяйства», поскольку требует от человека постоянного напряжения сил, как умственных, так и физических, связанных с нахождением в состоянии перманентной готовности к межгородской миграции. Подобные чрезмерные усилия на рабочем месте и краткосрочные ценности вносят разлад в семейные отношения, обусловливая нехватку времени на общение с семьей. Человек начинает перераспределять ресурсы в пользу работы – «второго места» и в пользу дома – «первого места», отказываясь от участия в неформальной общественной жизни (М3→М1, М3→М2), чтобы укрепить семейные ценности и связи в сообществах. В результате ухода из сферы неформальной жизни и бегства из общественных пространств, люди пренебрегают реализацией своей гражданской активности, что девальвирует ценность публичных пространств города. Гражданская активность подразумевает не только участие в политических и выборных процессах, но также включенность в разработку, экспертизу и реализацию общегородских проектов, улучшающих качество жизни в городе. Боязнь вовлеченности и гражданской заинтересованности в решении общегородских вопросов, передача инициативы в трансформации города официальным лицам, облеченным властью, жертвование сложностью и многообразием городской среды во имя упрощенных решений, игнорирующих интересы локальных сообществ в угоду доминирующей идеологии пространственного развития, Р. Сеннет обозначил как «огромный, нерациональный страх проявить себя» [45]. Таким образом, экономические институты и кодексы поведения на рабочем месте в условиях краткосрочной занятости, дополненные искажениями в организации городской среды, полученными в наследство от предыдущих территориальнопланировочных идеологий и решений, влияют на систему мест и через механизмы координации территориального поведения вызывают сжатие социального капитала современных городов.
С другой стороны, идеология организации городского пространства, снижающая спрос, потребление и «индивидуальное моделирование»1 общественных мест, обусловливающая неразвитые общественные пространства и их дефицит, обостряет требования и перераспределяет ожидания экономических субъектов от общественных мест к «первому» и «второму» местам. Формирование структуры рассредоточенного города в эпоху фордизма привело к поглощению дефицитного ресурса времени ежедневной миграцией и, тем самым, к ухудшению социального ландшафта городов. Швейцарские ученые оценили, что более 45 минут в день, затраченных на дорогу, оборачиваются повышением вероятности разводов на
40% [51, c. 68]. К числу дополнительных угроз для первого места от подобной «приватизации» существования в условиях несбалансированной организации городской среды А. Лефевр добавляет демографическую структуру и большое количество детей, звукопроницаемость стен и перекрытий, негативный шумовой фон из-за неумеренного потребления масс-медиа, что приводит «к исчезновению интимности из домашней жизни, семейная жизнь «вязнет в потоке шумов и поверхностной информации» [55, c. 23]. Напряженность ожиданий и повышенные требования к частной жизни ввиду нехватки публичной активности также усиливают конфликты в семье и на рабочем месте. А ведь общественные пространства способны принять на себя часть нагрузки «эффекта толпы» от первого места, если оно является густонаселенным и многолюдным. Самочувствие людей, живущих в переполненных домах и квартирах, может быть существенно улучшено, если они могут скрыться в спокойном общественном месте. Когда, по мнению Р. Ольденбурга, проблема «третьего» места решена, т. е. решена проблема неформальной общественной жизни в городе, тогда повседневная жизнь человека «прочно стоит на треноге из дома, места работы и еще какой-нибудь точки» неформальной публичной жизни, где человек активно проводит свой досуг [19, с. 56].
Таким образом, среди ключевых современных тенденций, которые в ближайшем будущем будут определять организацию, потребление и развитие общественных пространств следует выделить: уплотнение городской среды и стремление к компактности города; переход к функционально несегрегированному характеру городской среды, опосредованный институциональной инерцией; инверсия в жизненной иерархии мест индивида; рост масштабов экономики одиночества; редевелопмент старых промышленных зон; развитие шеринг-среды; развитие коллективных форм активности.
Траектории развития города в постиндустриальной экономической си- стеме: проблемы и перспективы
В постиндустриальную эпоху преобладающей планировочной структурой должен стать компактный или полицентрический город, развивающийся на основе взаимной близости людей, плотности застройки, экономической активности и обществен- ных пространств. В реализации градостроительной политики современных го- родов следует стремиться к идеологии пространственного развития урбанизированной среды, стимулирующей переход к планировочным решениям, поощряющим пешеходный масштаб города. Один из факторов, определяющих преимущества компактных решений в современных условиях – это соотношение транспортных затрат на перевозку людей и грузов. Инновации в транспортных технологиях за последние сто лет существенно сократили удельные затраты на перевозку грузов, тогда как стоимость перевозки людей остается высокой [17, c. 56]. Автомобили являются поглотителями пространства, поэтому затраты на содержание инфраструктуры на единицу личного автотранспорта постоянно растут. Данные свидетельствуют, что если в движении пешеход занимает лишь 1,9 кв. м территории, велосипедист – 4 кв. м, а пассажирский автобус на 40–60 пассажиров – 7 кв. м, то индивидуальный автомобиль, движущийся со скоростью 50 км в час, – уже 139 кв. м [51, c. 254–255]. Это означает, что более компактный город позволит снизить данные издержки, стимулируя переход к пешеходному масштабу или доминанте общественного транспорта. В условиях высокой плотности городской среды (населения, застройки, экономической активности) сокращаются средние расстояния, покрываемые на общественном транспорте или пешком. При этом перемещения на автомобиле становятся экономически нецелесообразны и неудобны из-за проблем с парковками, пробками и временными затратами на маневрирование в плотной среде. Важным преимуществом пешеход- ных перемещений является стимулирование развития малого и среднего бизнеса в ареалах охвата пешеходным движением.
Структура потребляемой городской среды будет становиться все более сложной, многокомпонентной, будет расти число степеней свободы в выборе комбинаций потребляемых пространств, в том числе за счет перехода к мультифункциональности пространств и за счет взаимного функционального «переопыления» мест. Методом конструирования нового облика городов станет перераспределение общественного ресурса, которое может носить постоянный или временный характер. При перманентном использовании осуществляется вынесение скоростных трасс из центров городов, замена автомобильного пространства пешеходными и велосипедными зонами, зонами общественного транспорта, тогда как при темпоральном использовании допускается смешанное использование общественных пространств в зависимости от времени суток, дня недели или сезона. Скоростной автотранспорт оказывает негативное влияние на общественные пространства, поскольку скорость разрушает социальные контакты, нарушает размеренность и созерцательность улицы, вносит чувство незащищенности, неопределенности, наполняет улицу шумом. Поэтому вытеснение автомобилей из центров городов – это не только решение экологической проблемы, но и реставрация плотной социальной среды. Так, в Гамбурге, благодаря реализации проекта «Зеленая сеть» пешеходная сеть охватит до 40% города; в Мадриде въезд автомобилям закрыт на многие центральные улицы, и в ближайшие годы планируется освободить от автомобилей весь центр; в Хельсинки в центре города в ближайшие годы оставят только общественный транспорт, а все автомобильное движение будет перенесено в пригороды, в Милане владельцам автомобилей, которые оставляют их дома, раздают ваучеры на бесплатный проезд в общественном транспорте1. Эффективным решением по возрождению общественных пространств может быть и интеримарная передача дорог и трасс под общественное использование. Например, в будние дни улицы выполняют роль автотрассы, а в выходные – прогулочной пешеходной улицы. Так, в Париже в одни дни запрещен въезд в город автомобилям с четными номерами, в другие дни – с нечетными, жителям центральных улиц запрещено пользоваться автомобилями по выходным, позднее планируется разрешить въезд только электромобилям, а в августе каждого года реализуется проект «Пляж», когда автомагистраль Pompidou Expressway становится пешеходной, ее засыпают песком, размещают кафе и площадки для игры; в Боготе реализуется проект Ciclo-via, когда в выходные дни автодороги перекрываются и превращаются в пешеходные и велодорожки [51, c. 295–296].
Следует заметить, что поликомпо-нентная структура городского пространства, комбинирующая и сочетающая в себе элементы, механизмы и практики одновременно индустриальной (фордист-ской) и постиндустриальной (постфор-дистской) систем усложняет процесс институциональных изменений городской среды. Институты задают планировку города, практики землепользования, особенности взаимодействия населения и девелоперов при организации и трансформации городской среды, а, значит, образ жизни и стиль взаимодействия в городе, его пространственно-временное восприятие населением. Как замечает
Т. Михайлова, «города, как и все объекты экономической географии, очень инерционные структуры» [76, c. 50]. Организация городского пространства подвержена влиянию институциональной инерции, когда прежние нормы и правила, регулирующие землепользование и застройку городов, а также модели, образцы и прак- тики территориального поведения населения переносятся на организацию и использование среды постиндустриальных городов. Например, А. Новиков считает, что планировка «спальных» районов в российских городах, уходящая корнями в советскую планировочную политику, наряду с коррупцией и административными барьерами, ответственна за низкий уровень предпринимательской активности и низкую долю малого бизнеса в России, являющихся порождением именно городской среды [17, c. 57]. Планировочные решения индустриального прошлого, как, например, отсутствие торговых улиц в спальных районах, пешеходных улиц в центрах городов, широкая проезжая часть и узкие тротуары, демотивирующие к коммуникации между горожанами, накладывают ограничения на будущее экономическое развитие (прежде всего плотность уличной экономической активности), а также на перспективы социального взаимодействия, инициативность горожан и возможности коллективного решения местных вопросов. Как заметил в отношении инерционности городского развития Ч. Монтгомери, «при ограниченном бюджете градостроителям проще повторить то, что когда-то сработало. Их привычки постепенно оформились в своды правил строительства и зонирования, которые начали диктовать, как обустраивать новые районы» [51, c. 90]. При этом многие инновации, реализованные в наиболее успешных с точки зрения организации городской среды территориях, и современные взгляды на обустройство городов, доминирующие в науке, невозможно приложить и воспроизвести в формате других городов не только по причине ограниченности финансовых ресурсов, которыми располагают территории. Институциональная колея в организации городского пространства подпитывается архитектурным индустриальным наследием, поскольку основные объекты недвижимости, их конфигурация задают тон городской планировке на много лет вперед, т. е. «физические» аспекты тянут город в прошлое [51, c. 270]. Институциональная колея присутствует и в отношении влияния социальных институтов на организацию городской среды, определяющих способы взаимодействия и сосуществования людей, а значит, закрепляющих определенные модели социального устройства города. Например, доминирование идеологии экономического эгоцентризма и низкий уровень социального капитала могут препятствовать солидарному решению общегородских вопросов, осознанию личной ответственности горожанина за положение дел в городе и необходимости ограничить собственные интересы ради качества городской среды (например, ограничить пользование личным транспортом). Данные планировочные «архаизмы» индустриальной эпохи вошли в конфликт с образом жизни горожан постиндустриального общества. Унифицированная, единообразная городская среда, несущая память индустриальной эпохи, входит в противоречие с идеологией индивидуализма, начавшей доминировать в современном городе. Повышение уровня жизни населения, как результат технологического прогресса, привело к изменению ключевой идеологии города: он стал восприниматься не как место аккомодации функционально сегрегированных зон и выполняемых функций, а как место для жизни, потребительский город, место, где возможно удовлетворить свои потребности благодаря разнообразию предоставляемых товаров, услуг, общественных пространств, форм человеческой ассоциации. Однако, в современных условиях только потребительской идеологии городу явно недостаточно. Город должен предоставить людям качественную городскую среду, возможность коллективного участия в общественных делах и городском управлении. В развитых общественных пространствах способность людей к совместным, коллективным действиям, по выражению Э. Бэнфилда, «не подвергается чрезмерному испытанию» [53, c. 177], так как носит добровольный, необязательный, нерегулярный характер.
Люди стали более свободны в своих временных ограничениях, больше ценят свою автономность и независимость, возможности саморазвития, что объясняется рядом обстоятельств. Во-первых, распространение культуры «эгоистичных одиночек» [85, c. 73] делает людей менее зависимыми от семейных обязанностей, ухода за детьми, что высвобождает ресурс времени для самовыражения и самопрезента-ции окружающим. Во-вторых, информационная эпоха увеличивает долю креативных индустрий и число творческих видов деятельности, представители которых предъявляют запрос на гибкий рабочий день и часто находятся в состоянии погруженности в город. В-третьих, новые институты капитализма и гибкая занятость предполагают высокую мобильность рабочей силы и частые перемещения по городу. Дискуссии о переходе к четырехдневной рабочей неделе ведутся не только в русле технологического замещения рабочих мест среднего класса и защиты рабочих мест от сокращения [54, c. 80], но и в русле подобных изменений в восприятии свободного времени.
В силу доминирования институциональных ограничений инновационные пространственные решения наталкиваются на существующие правила землепользования и застройки, действующие на данной территории, что определяет иррациональные, не отвечающие потребностям постиндустриального общества, современным институтам капитализма, занятости и неформальной жизни, решения в сфере городского планирования. Таким образом, институциональные ограничения могут вызывать к жизни пространственные решения, уничтожающие соразмерность построек и планировок человеческому восприятию и ограничивающие жизнь локальных сообществ.
С другой стороны, сформированная пространственная организация города обеспечивает дополнительные выгоды наиболее многочисленной группе субъектов городской среды, интересы которых наименее представлены и защищены в условиях асимметричного доступа к ресурсам города и реализации властного потенциала отдельными его субъектами.
Речь идет о ситуации, когда экономические интересы инвесторов, девелоперов и часто муниципальных властей в освоении и застройке городского пространства (как правило, торговыми и офисными объектами) входят в противоречие с интересами проживающего населения, для которого коммерчески привлекательное пространство выступает локацией привычной жизни и местных смыслов. В данном контексте сложившиеся пространственные формы города выступают дополнительным ресурсом власти местных сообществ (наряду с ресурсом сопротивления и коллективных действий), используемым при реализации механизма согласования и сбалансирования асимметричных интересов субъектов городской среды.
Отличительной особенностью транзитивного периода между индустриальной и постиндустриальной эпохами стал массовый уход промышленных производств из городов в пригороды или страны догоняющего развития. Освобождающиеся производственные зоны образовали лакуны в ткани городской среды, нарушающие связность территорий и проницаемость пространства. Для обеспечения непрерывности и цельности городской среды осуществляется редевелопмент бывших промышленных зон, что закладывает огромный потенциал для формирования востребованных общественных пространств на реновируемых территориях бывших заводов и фабрик: здесь создаются арт-пространства и музеи, устраиваются экспозиции, проводятся конференции, открываются культурные центры (например, выставочный комплекс «Дизайн-завод “Флакон”» на месте бывшего стекольного завода, культурный центр ЗИЛ, центр современного искусства Винзавод, арт-кластер «Красный октябрь» на месте шоколадной фабрики в Москве, социокультурное пространство «Завод Шпагина» в Перми, арт-пространство «Фабрика Восход» на месте бывшей швейной фабрики в Нижнем Новгороде, арт-территория «Открытая сцена» на базе завода «Арсенал» в Санкт-Петербурге и пр.)1.
В постиндустриальной городской среде, по словам У. Гибсона, «приватность будет по средствам далеко не всем» [88], поскольку усовершенствование методов контроля за мобильностью людей усиливает процессы слежения за их перемещением в масштабах всего городского пространства на основе технологий умного города. Городская среда и общественные пространства, оборудованные и пронизанные датчиками и приборами смарт-технологий, предоставляющими методы распознавания личности, а также возможности «проводить мониторинг и оценку поведения и высказываний… предсказывать будущие закономерности передвижений и собраний» [89, с. 68], рискуют потерять важнейшие качества анонимности, спонтанности, непредсказуемости, определяющие шарм и своеобразие городов. С развитием систем мониторинга и геолокации роль общественных пространств трансформируется из места, где встреча является «приятным сюрпризом» в место, где встреча – это «отслеженный» с помощью системы поиска и идентификации личности «погугленный» сюрприз [62]. Возможность идентифицировать личность по биометрическим параметрам, а также отслеживание личных страниц в социальных сетях превращают чужака в «распознаваемого» или «знакомого незнакомца», а возможности слежения за передвижением людей превращают их в незнакомцев с идентифицируемым цифровым следом. А, как верно подмечает З. Бауман, именно «обилие незнакомцев, постоянных незнакомцев, «вечных незнакомцев» делает города благоприятной средой для изобрете- ний и нововведений, рефлексивности и са- мокритики, неудовлетворенности, несогласия и стремления к лучшему» [58, с. 27]. То есть городская среда черпает свой творческий и инновационный потенциал именно в разнообразных, незапланированных и непредсказуемых объединениях людей в группы и сообщества. В условиях повсеместности и непрерывности слежения контролируется сама городская среда, представляющая «вероятность непредсказуемой, алеаторной встречи» [90, с. 251–252].
Таким образом, постиндустриальная городская среда формируется под воздействием нескольких параллельно разво- рачивающихся процессов: развитие экономики совместного потребления, экономики одиночества, перехода к краткосрочной проектной занятости. Все это предъявляет новые запросы к организации общественных пространств, призванных обеспечить высокую плотность неформальной общественной активности, инклюзивность уча- стия в решении городских вопросов и по- лицентричность развития городов. Заключение
В данной работе мы показали, что процессы организации и трансформации городской среды, как сложной многоуровневой системы, обусловлены изменениями инсти- тутов на макроуровне, вызывающими соответствующие сдвиги в иерархической системе мест «дом – работа – общественные пространства».
В рамках предложенной концепции сопряженности порядков координации поведения индивида и порядка мест в его пространственной иерархии установлено, что конфликт рыночного и индустриального порядков координации поведения индивидов, поддержанный институтами производства и занятости, меняет относитель- ную ценность активов, привязанных к разным локациям в городской среде, и приводит к изменению порядка в иерархической системе мест. Как в индустриальную, так и постиндустриальную эпохи новые институты капитализма вызвали «сужение» круга активов, регулируемых «внутренними» рынками, что привело к вытеснению до- машнего и индустриального порядка рыночным порядком обоснования ценности. Подобное изменение в соотношении порядков координации привело к изменению пространственного выбора индивидов в системе «дом – работа – общественные пространства». Изменение территориального поведения микросубъектов обусловило трансформации городской среды в направлении унификации, опустения и исчезновения общественных пространств.
В качестве перспективного направления применения предложенного подхода к согласованию различных способов координации поведения индивидов в городской среде можно назвать анализ асимметрии и конфликта интересов различных субъектов городской среды, действующих в рамках различных иерархий (порядков) ценностей, в отношении доступа и использования общественных пространств. При этом возможно исследование нескольких категорий конфликтов, например, между потенциальными субъектами трансформации городской среды (населением, девелоперами, бизнесом, муниципальными органами власти, общественными организациями). Используемый в работе мезоэкономический подход, предполагающий возможность учета и моделирования множества взаимозави-симостей между уровнями иерархии городского пространства, методологически вписывается в данную задачу, предполагающую необходимость гармонизации множества асимметричных интересов.
Использование методологии иерархического анализа также открывает перспективные направления дальнейших исследований в рамках выбранного предметного поля, например, анализ условий, факторов возникновения и особенностей проявления экономической власти субъектов городской среды, воспроизводимых институциональной инерцией пространственно-планировочных и социально-экономических структур города; исследование особенностей и направлений трансплантации функций мест в иерархической системе мест.
Список литературы Организация и трансформация городской среды на основе соотношения порядков координации в иерархической системе мест
- Одинцова А.В. Пространственная экономика в работах представителей французской школы регуляции // Пространственная экономика. 2011. № 3. С. 56-70. DOI: 10.14530/se.2011.3.056-070
- Украинский В.Н. Французская Пространственная экономика: от промышленных округов до полюсов конкурентоспособности // Пространственная экономика. 2011. № 3. С. 71-99. DOI: 10.14530/se.2011.3.071-099
- Ковалева Т.Ю., Базуева Е.В., Оборина Е.Д., Суханова П.А. Оценка эффективности кластерного пространственного развития регионов: теоретико-методологический подход: монография / под общ. ред. Т.Ю. Ковалевой; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2017. 280 с.
- Использование кластерного подхода в модернизации экономического пространства Российской Федерации / под ред. А.И. Татаркина. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2013. 559 с.
- Марков Л.С. Теоретико-методологические основы кластерного подхода. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2015. 300 с.