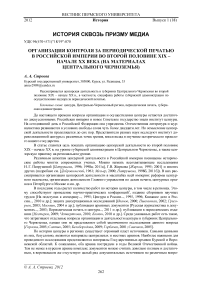Организация контроля за периодической печатью в Российской империи во второй половине XIX - начале XX в. (на материалах Центрального Черноземья)
Автор: Строева А.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История сквозь призму медиа
Статья в выпуске: 1 (18), 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается цензорская деятельность в губерниях Центрального Черноземья во второй половине XIX - начале XX в., в частности, специфика работы губернской администрации по осуществлению надзора за периодической печатью.
Цензура, центрально-черноземный регион, периодическая печать, губернская администрация
Короткий адрес: https://sciup.org/147203385
IDR: 147203385 | УДК: 94(470+571)"18/19":070
Текст научной статьи Организация контроля за периодической печатью в Российской империи во второй половине XIX - начале XX в. (на материалах Центрального Черноземья)
До настоящего времени вопросы организации и осуществления цензуры остаются достаточно дискуссионными. Российская империя и новое Советское государство знали институт цензуры. На сегодняшний день в Российской Федерации она упразднена. Отечественная литература и журналистика развиваются в условиях свободы слова чуть более двадцати лет. Но осмысление цензорской деятельности продолжается до сих пор. Представители разных наук исследуют институт дореволюционной цензуры с различных точек зрения, внося вклад в изучение исторического прошлого нашего государства.
В статье ставится цель показать организацию цензорской деятельности во второй половине XIX – начале XX в. на уровне губернской администрации в Центральном Черноземье, а также цензорскую практику на региональном уровне.
Различным аспектам цензурной деятельности в Российской империи посвящены исторические работы многих современных ученых. Можно назвать всеохватывающие исследования Н. Г. Патрушевой [ Патрушева , 1996; 1998а; 2011а], Г.В. Жиркова [ Жирков , 1995; 2001] и многих других (подробнее см. [ Добровольский , 1961; Мезьер , 2000; Патрушева , 1998б, 2011б]). В них рассматривается организация цензорской деятельности в масштабах всей империи: реформы цензурного ведомства, организация деятельности Главного управления по делам печати, цензурных органов в Петербурге и Москве и мн. др.
В последние годы растет количество работ по истории цензуры, в том числе в регионах. Этому способствуют проведение научно-практических конференций1, издание сборников научных трудов [На подступах к спецхрану..., 1995; Цензура в России..., 1995, 1996; Книжное дело в России..., 2010 и др.]; защита диссертационных исследований [ Иванов, 2000; Пшеничная, 2002; Григорьев , 2003; Москвин , 2004 и др.]; публикация архивных документов [Русская журналистика в документах..., 2003; Периодическая печать и цензура..., 2011 и др.]; публикации в периодических изданиях [ Нестеров , 2009; Четверткова , 2010; Блохин , 2010 и др.]. Среди указанных работ есть такие, что затрагивают отдельные вопросы организации и деятельности цензуры в губерниях Центрального Черноземья, однако они не представляют собой законченного исследования данного вопроса [ Горлова , 2005; Салтык , 2005; Белобородова , 2009; Горбачев , 2001; Савенков , 2005].
По истории цензуры в регионах существует огромный пласт источников . Самыми ценными из них, безусловно, являются материалы центральных и местных архивов. Наиболее важными для проводимого исследования представляются материалы Государственных архивов Курской и Воронежской областей. К сожалению, оба архива пострадали в годы Великой Отечественной войны. Тем не менее в курском архиве комплекс документов можно считать довольно полным и достаточным, в воронежском же отсутствует целый ряд документальных источников по различным вопро-
сам. Недостающую информацию позволяют восполнить документы Государственного архива Российской Федерации.
В губерниях Центрально-Черноземного центра во второй половине XIX – начале XX в. не было отдельных цензурных установлений, а обязанности по цензуре выполняли чиновники губернской администрации. Организация цензорской деятельности в провинции возлагалась на губернатора, вице-губернатора, чиновника особых поручений, на чины исполнительной и политической полиции, а также служащих почтово-телеграфных контор.
На основании статьи 5 главы второй Временных правил о печати 1865 г. прошения о разрешении новых повременных изданий должны были направляться в Главное управление по делам печати, где и принималось решение об их разрешении либо отклонение прошения. Прошение о разрешении газеты в Главное управление должно было направляться самим просителем. Этот порядок, по-видимому, нередко нарушался. В своем прошении заявитель должен был указать название издания, его объем, предполагаемую периодичность выхода в свет, стоимость отдельного номера по подсписке и в розничной продаже, предполагаемого редактора, издателя, место издания газеты и приложить к прошению программу издания [Высочайше утвержденное мнение..., 1865].
Так, в июне 1871 г. курский губернатор обратился к министру внутренних дел с прошением отставного коллежского секретаря Николая Васильевича Луженковского, который хотел издавать в г. Курске «Курскую городскую газету» на условиях представления ее программы в предварительную цензуру. «При чем, – отмечал губернатор, – по отсутствии представителя цензурного ведомства в Курске и истекающей отсюда необходимости обращаться за одобрением каждой газетной статьи к ближайшим цензурным учреждениям в Москве и Киеве, г-н Луженовскй ходатайствует о подчинении газеты его цензурному просмотру на месте, через посредство поверенного от меня чиновника административного ведомства»2. «Местная правительственная цензура» предполагала, что чиновник губернской администрации будет просматривать материалы на месте, а в случае сомнения – возвращать издателю, а тот, в свою очередь, будет отсылать их в указанный цензурный орган (для Курска – это обычно киевский или московский цензурный комитет). По предположению заявленного ответственного издателя – редактора Н. В. Луженовского, это могло бы даже способствовать изменению цензурного законодательства в лучшую сторону.
Для принятия окончательного решения из Главного управления по делам печати посылался запрос губернатору, который предоставлял сведения о личности просителя и высказывал свое мнение о целесообразности издания в губернии нового печатного органа, мотивируя его необходимостью и полезностью открытия газеты или журнала именно данного направления и с заявленной программой. Зная такой порядок, курский губернатор А. Н. Жердинский сразу же указал свои соображения по этому вопросу, приложив к записке прошение и программу газеты. Губернатор указывал, что «…личность господина Луженовского мне совершенно неизвестна и что собранные сведения о нем по месту прежнего жительства и служения его так же не представляют положительного ответа на запрос о благонадежности его. Но при этом рязанский и тамбовский губернаторы удостоверили, что Луженовский во время жительства в Рязани был записан на черную доску в рязанском благородном собрании за неплатеж карточного долга, а в Тамбове имел историю с одним домовладельцем за тайное оставление квартиры своей без надлежащего расчета. По всему этому, не признавая удобным разрешить Луженовскому издание предполагаемой им газеты, а со своей стороны, полагал бы ходатайство его по сему предмету отклонить»3.
В результате рассмотрения всех этих материалов в Главном управлении по делам печати и на основании изложенных губернатором соображений в издании газеты было отказано, о чем курскому губернатору сообщили спустя неделю. При этом было сделано замечание, что губернатору вообще не следовало принимать данного прошения, а проситель должен был сразу направить его в Главное управление по делам печати. Это свидетельствует о путанице, возникающей на местах при применении цензурного законодательства. Об отказе в открытии газеты просителю было объявлено под расписку через курское полицейское управление.
Часто в материалах, которые представлял губернатор в Главное управление, содержались весьма личные характеристики просителей и высказывалось субъективное мнение автора. Например, в конце 1871 г. курский губернатор обратился в Главное управление с просьбой о предоставлении городскому голове и городской управе права печатать в частных типографиях без особого разрешения листовки, известия и доклады по делам, а так же под редакторскую ответственность головы и одного из членов управы издавать городскую газету «с характером литературнополитического издания»4. При этом губернатор дал такую характеристику просителю: «Курский голова – человек весьма ограниченный и при этом обладающий самолюбием, развитым в чрезвычайных размерах. Лишенный совершенно такта и понимания своего общественного положения, способный поддаваться самым вредным влияниям, если только затронуть его самолюбие, он готов прибегать к средствам иногда вполне предосудительным, лишь бы поддержать то значение, которое стремится себе усвоить и усилить свою популярность среди неразвитой массы населения, льстя ее стремлениям и вкусам. В таких руках периодическое издание будет, несомненно, источником всевозможных скандалов, ставя и общество, и администрацию в нескончаемые затруднения»5. Конечно же, он предложил никаких разрешений просителям не выдавать. Департамент полиции также счел целесообразным отклонить первое предложение.
Несмотря на все это, Главное управление в феврале 1872 г. сообщило курскому губернатору, что для облегчения деятельности администрации печатание материалов, предназначенных для обращения внутри Думы, было возможно без особого разрешения, а вот издание газеты не разрешило, так как издательская деятельность не соответствовала назначению Думы6.
В марте 1872 г. в Главное управление обратился самостоятельно, но «с одобрения начальника Тамбовской губернии и сообразно правилам цензурного устава» тамбовский дворянин, надворный советник Александр Кутуков с просьбой разрешить ему издание в г. Тамбове газеты «Хлопо-тунъ». Необходимость издания газеты мотивировалась тем, что «столичные газеты не обеспечивают полностью интересы горожан, так как не пишут о местных событиях». Газета предназначалась не только для города Тамбова, но и для ряда других местностей Тамбовской губернии – Медведицы, Хопра, Битюка, Сурье, Мокши и Цны7. Надо отметить, что программа и само прошение написаны довольно пространно, с массой явно лишних подробностей.
По заведенному порядку 30 марта 1872 г. из Главного управления по делам печати конфиденциально обратились к начальнику Тамбовской губернии с просьбой «дать свое заключение по данному вопросу». В своем ответе губернатор сообщил, что Александр Гордеевич Кутуков в декабре 1871 г. уже подавал такое прошение губернатору. После этого через кирсановского уездного исправника губернатор постарался «оценить степень благонадежности, литературную известность и степень образованности лица, желающего издавать газету, чтобы установить, можно ли вообще ожидать от него успехов в этом деле»8.
В результате было установлено, что «А. Г. Кутуков воспитывался в Санкт-Петербурге, окончил кадетский корпус, оттуда отправился в артиллерию, потом по экзамену 1824 г. был переведен в Генеральный штаб. Вышедши в отставку, он служил кирсановским окружным начальником в 1837 г., потом был помощником начальника съемки казенных земель по Тверской губернии. От роду ему 70 лет, в общественном мнении считался он, в свое время, человеком образованным, но ныне, по преклонным летам, имеет странности»9. На основании этих сведений просителю ответили, что если он может еще издавать газету, то должен соблюсти все формальности, обозначенные в уставе о цензуре. Губернское начальство явно рассчитывало на то, что человек преклонного возраста откажется от своей затеи.
Подтвердили эту точку зрения и сведения, полученные из Третьего отделение собственной Его Императорского величества канцелярии, в справке которого содержалась следующая характеристика просителя: «…умственные способности его по старости ослабели и в поведении его обнаруживаются странности. К одной из этих странностей можно отнести и настоящее предложение его издавать газету, что отчасти подтверждается как самим названием газеты, так и ее программой»10. Ознакомившись с документами, трудно не согласиться с таким точным замечанием.
После почти месячной переписки Главное управление в силу названных обстоятельств приняло решение отказать А. Г. Кутукову в открытии газеты.
Несомненно, ряд прошений получали удовлетворение, и новые периодические издания в провинции систематически выходили в свет. Так, в феврале 1872 г. к министру внутренних дел обратился орловский губернатор с прошением преподавателя русской словесности Орловской военной гимназии Чудинова о разрешении издавать в г. Орле газету «Орловский вестник». Программа газеты была вполне традиционной для своего времени и содержала несколько отделов (официальный, местных и иностранных известий, литературный и справочный). На обращение из Главного управления орловский губернатор ответил, что проситель заслужил замечательные характеристики со стороны начальства гимназии и лестные отзывы о готовящемся издании, к тому же в Орле ожидалось достаточное количество подписчиков. Со стороны Третьего отделения также не было препятствий, но при этом отдельно указывалось, что оно «не принимает на себя ответственность за будущую деятельность этого лица в звании редактора»11. Рассмотрение прошения длилось более трех месяцев, и ответ был получен положительный.
Иногда причиной отказа в издании газеты служили политические соображения. Так, с просьбой о разрешении издания в г. Белгороде два раза в месяц газеты «За и против» в 1900 г. в Главное управление по делам печати обратился лекарь Давид Михчевич Гордон. Он планировал издавать ее на условиях предварительной цензуры и посвятить вопросам литературы, истории, общественной жизни и быта евреев. Для составления своего отзыва в Главное управление курский губернатор обратился к белгородскому уездному исправнику. Выяснилось, что Д. М. Гордон «поведения и нравственных качеств хороших», в политической неблагонадежности замечен не был. Ранее его литературная деятельность касалась только вопросов еврейства (писал статьи в еврейские журналы, например, «Вестник Сиона», а в г. Гродно были изданы его брошюры «Сионизм и религия» и др.). По заключению курского губернатора, обсуждение этих вопросов вряд ли имело большое значение, особенно в уездном г. Белгороде. В результате просьба была отклонена12.
Подобный порядок учреждения новых периодических органов отрицательно сказывался на развитии региональной прессы. Главное управление по делам печати вступало в переписку с начальниками губерний для сбора сведений, те собирали сведения на местах, обращаясь к чиновникам политической и исполнительной полиции.
В начале XX столетия порядок получения разрешения на учреждение периодических изданий был изменен. Манифест 17 октября 1905 г. даровал населению «незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова…» [Манифест..., 1908, с. 754]. В результате 24 ноября 1905 г. высочайшим указом императора Николая II предварительная цензура была ликвидирована [Именной высочайший указ..., 1905, с. 837–840]. Вводился новый режим регистрации периодических изданий.
Все эти нововведения были подтверждены циркулярными распоряжениями Главного управления по делам печати от 9 декабря 1905 г. и 10 апреля 1906 г. Право выдавать разрешение на открытие местных периодических изданий получили губернаторы, а в Главное управление по делам печати с этого момента отправлялись уведомление и копия свидетельства. Для изменения программы уже выходившего в свет печатного органа достаточно было разрешения начальника губернии. Фактически это означало, что любой желающий, удовлетворяющий требованиям закона, мог зарегистрировать новое издание в явочном порядке, а губернатор лишь проверял через полицию предоставляемые сведения [ Курбакова , 2008].
В октябре 1906 г. к воронежскому губернатору с прошением об открытии в г. Воронеже новой газеты «Трудовое обозрение» обратился мещанин, доктор медицины Н. А. Вырубов. Газету планировалось печатать в типографии П. А. Попова, издавать от одного до трех выпусков в неделю по стандартной программе (правительственные распоряжения, заграничные и столичные вести, местная хроника, театр и музыка, фельетоны, объявления). До получения сведений от полицмейстера о политической благонадежности просителя прошение было оставлено без движения. Сбор сведений и переписка по данному вопросу продолжались примерно месяц, после чего разрешение было выдано13.
В 1916 г. к начальнику Курской губернии поступило прошение редактора, издательницы журнала «Курский театр» мещанки Пелагеи Дмитриевны Дементьевой с просьбой вместо журнала «Курский театр», который издавался ею с мая 1915 г., издавать новый еженедельный журнал «Курский театр и жизнь». Причем она написала: «Никакой политической окраски издание мое нести не будет, а будет освещать только лишь местную жизнь»14. Возможно, именно эта фраза в совокупности с тем, что никаких нареканий журнал раньше не вызывал, послужила основанием для скорейшей выдачи ей свидетельства.
Однако многие прошения об открытии новых печатных органов отклонялись. Как правило, поводом к отказу служило то, что в губернии достаточно периодических изданий, которые вполне удовлетворяли потребности местного населения. На практике часто причины отказа в открытии новых периодических изданий были несколько иные: новый печатный орган затрагивал нежелательные вопросы, проситель не вызывал полного доверия у властей, да и просто было трудно наблюдать за большим количеством периодических изданий в губернии, так как обязанности по цензуре выполнялись чиновниками губернской администрации по совместительству.
В результате введения нового порядка открытия печатных органов наблюдалось оживление издательской деятельности в губерниях. Так, по сравнению с концом XIX в. издательская деятельность в Курске стала значительно оживленней и разнообразней. В 1898 г. здесь печатались всего три газеты: «Курские губернские ведомости», «Курский листок», и «Курская газета». В 1916 г. в Курской губернии выходило уже восемь газет и журналов: все «правого направления и материальной поддержки со стороны частных организаций не имеют»15.
Эта точка зрения подтверждается и исследованием С. Я. Махониной [ Махонина , 1991]. Она отмечает, что в 1914-1926 гг. большая часть вновь выходящих периодических изданий приходилась не на столицы, а на регионы. При этом между столичной и провинциальной прессой существовали тесные взаимосвязи, которые выражались в перепечатывании региональными газетами материалов из столичных газет (о чем свидетельствует и обязательное наличие в программе провинциальных изданий пункта «столичные вести»). Столичные газеты тоже давали обзоры провинциальной прессы.
В конце XIX в. периодика существовала в 142 городах России, в 1908 г. – в 161, а в 1911 г. – в 209. Тем не менее, отмечается ее неравномерное распространение. Мало изданий приходилось на центральные области России (в 1911 г. в Воронеже их насчитывалось 6, в Курске – 4, в Орле – 3). В Воронеже, по сведениям С. Я. Махониной, количество изданий к 1911 г. уменьшилось по сравнению с серединой XIX в. [Там же, с. 14616]. К сожалению, плохая сохранность документов Государственного архива Воронежской области не позволяет нам подтвердить или опровергнуть эти цифры. В Курской губернии же проявилась тенденция к росту числа периодических изданий.
В исследовании В. Розенберга также используются данные, свидетельствующие о стабильном увеличении количества этих изданий в Российской империи в начале XX в. [ Розенберг , 1914, с. 50]. В таблице отражены материалы обзоров Главного управления по делам печати, приведенные В. Розенбергом.
|
Год |
Периодические издания |
||
|
Журналы |
Газеты |
Всего |
|
|
1908 |
1128 |
800 |
2018 |
|
1909 |
1319 |
854 |
2173 |
|
1910 |
1494 |
897 |
2391 |
|
1911 |
1536 |
1007 |
2543 |
Возможно, неравномерное развитие провинциальной прессы определялось местными условиями, в частности, такими субъективными факторами, как лояльность губернатора, старательность чиновников губернской администрации в выполнении своих обязанностей по цензуре, активность населения и т.п.
Таким образом, на рубеже XIX и XX в. произошли значительные изменения в механизмах осуществления цензорской деятельности в Российской империи, которые получили свое законодательное закрепление в 1905 г. Они были связаны с общей либерализацией политической обстановки в стране, а также с очевидной неэффективностью цензурной практики. Регионы существовали в рамках имперской практики, а особенности цензорской деятельности определялись местной спецификой.
В Центрально-Черноземных губерниях не существовало специальных цензурных установлений и должностных лиц. Вся работа по цензуре была возложена на чиновников губернской администрации. И, хотя они отмечали в своих докладах в Главное управление по делам печати, что инструкции из центра в целом достаточно, проблемы в этой сфере возникали. Главная трудность, с которой сталкивались на местах, некодифицированность и неупорядоченность огромного количества разрозненных распоряжений Главного управления по делам печати. Основные цензурные уставы и правила, регулирующие деятельность по цензуре на территории Российской империи, постоянно дополнялись циркулярными распоряжениями из Главного управления. Законотворческой практики на местах не существовало. Распоряжения начальника губернии по цензуре повторяли циркуляры Главного управления для губернии. Однако применение цензурного законодательства в регионе было специфично, в первую очередь своими нарушениями в связи с неправильным толкованием.
До 1905 г. существовал громоздкий порядок получения разрешения на издание периодики. Проситель был вынужден обращаться в Главное управление по делам печати, а разрешение выдавалось им на основе мнения региональных властей. Такая практика приводила фактически к произволу чиновников местной администрации. Более того, несмотря на всю сложность выполнения работы по цензурной части, представители губернской администрации не желали выпускать даже ее незначительную часть из-под своего контроля.
После манифеста 17 октября 1905 г. произошла либерализация цензурного законодательства. Однако новый закон и введенный им новый порядок не отменили проблемы произвола чиновников местной администрации по отношению к прессе. Как видно из приведенных примеров, органы цензуры были пристрастны, часто руководствовались собственным удобством при разрешении или запрете издания печатных органов. Большое значение для получения разрешения на издание газеты или журнала имели благонадежность просителя в целом, а также мнение начальника губернии как о полезности издания, так и о самом просителе.
Список литературы Организация контроля за периодической печатью в Российской империи во второй половине XIX - начале XX в. (на материалах Центрального Черноземья)
- Белобородова (Строева) А. А. Цензура в Курской губернии во второй половине XIX -начале XX в. Курск, 2009.
- Блохин В. Ф. Из истории цензурного реформаторства: государство и легальная печать России в политическом контексте (1865-1905 годы)//Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2009. № 6.
- Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета. О некоторых переменах и дополнениях в действующих ныне цензурных постановлениях. 1865. 6 апреля//Полн. собр. законов Рос. имп. Собр. 2, Т. 40, № 41990.
- Горбачев П. Газеты о Курске и губернии: первая половина 1911 г.//Курский вестник. 2011. № 34 (август).
- Горлова Н. И. Печать, цензура и полиция Российской провинции в XIX в.//Цензура и доступ к информации: история и современность: тез. докл. междунар. науч. конф. СПб., 2005. С.18-19.
- Григорьев С. И. Институт цензуры Министерства императорского двора: дис. … канд. ист. наук. СПб., 2003.
- Добровольский Л.М. Библиографический обзор дореволюционной и советской литературы по истории русской цензуры//Тр. БАН СССР и фунд. библиотеки обществ. наук АН СССР. М.; Л., 1961. Т. 5.
- Жирков Г. В. История цензуры в России ХIХ-ХХ вв. М., 2001.
- Жирков Г. В. Цензура в прошлом, настоящем и будущем: Эволюция видов цензуры//Журналистика в 1994 году. М., 1995. Ч. 1.
- Иванов Д. В. Формирование военной цензуры в России. 1810-1905 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2000.
- Именной Высочайший указ, данный Сенату о временных правилах о повременных изданиях от 24 ноября 1905 г.//Полн. собр. законов Рос. имп. Собр. 3, Т. 25, № 26962.
- Книжное дело в России в XIX -начале XX в.: сб. науч. тр. СПб., 2010. Вып. 15.
- Курбакова Е. В. Фонды региональных государственных архивов для изучения практики применения законодательства о печати в Казанской и Нижегородской губерниях (1905-1917 гг.)//Отеч. архивы. 2008. № 6.
- Манифест об усовершенствовании государственного порядка. 17 октября 1905 г.//Полн. собр. законов Рос. имп. Собр. 3, Т. 25. СПб., 1908.
- Махонина С. Я. Русская дореволюционная печать (1905-1914)/под ред. Б. И. Есина. М., 1991.
- Мезьер А. В. Словарь русских цензоров: матер. к библиогр. по истории рус. цензуры. М., 2000.
- Москвин В. А. Цензура и распространение иностранных изданий в Москве: вторая половина XIX -начало XX в.: дис. … канд. ист. наук. Тверь, 2004.
- На подступах к спецхрану: тр. межрегион. науч.-практ. конф. «Свобода научной информации и охрана государственной тайны: прошлое, настоящее, будущее» (Санкт-Петербург, 24-26 сентября 1991 г.). СПб., 1995.
- Нестеров А. А. Цензура под опекой МВД (введение в историю цензуры XIX в.)//Молодой ученый. 2009. № 12.
- Патрушева Н. Г. Изучение истории цензуры второй половины XIX -начала ХХ века в 1960-1990-е гг.: библиогр. обзор//Новое лит. обозрение. 1998. № 30.
- Патрушева Н. Г. Исследования по истории дореволюционной цензуры в России, опубликованные в 1999-2009 гг.: библиогр. обзор//Цензура в России: история и современность: сб. науч. тр./отв. ред. М. Б. Конашев. СПб., 2011. Вып. 5.
- Патрушева Н. Г. Некоторые экономические меры воздействия на периодическую печать во второй половине ХIХ века//Средства массовой информации в современном мире: тез. науч.-практ. конф. Санкт-Петербург, 22-23 апреля 1998 г. СПб., 1998.
- Патрушева Н. Г. Особенности профессии чиновников цензурного ведомства в России во второй половине XIX -начале XX в.//Ист., филос., полит. и юрид. науки, культурология и искусствоведение: в 3 ч. 2011. Ч. 2, № 7 (13).
- Патрушева Н. Г. Цензура в России во второй половине ХIХ в.: Законы и практика//200 лет российской цензуре: тез. науч. сем. каф. ист. журналистики. Ноябрь, 1996. СПб., 1996.
- Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865-1905 гг. Система административных взысканий: справ. изд. СПб., 2011.
- Пшеничная М. А. Государственная политика в области цензуры печати в России в XIX -начале XX в.: дис. … канд. ист. наук. Ставрополь, 2002.
- Розенберг В. Летопись русской печати (1907-1914). М., 1914.
- Русская журналистика в документах: История надзора/сост. О. Д. Минаева; ред. Б. И. Есин, Я. Н. Засурский. М., 2003.
- Савенков С. В. Орловская губернская пресса (1865-1905 гг.) в формировании общественного мнения губернии: дис. … канд. ист. наук. Орел, 2005.
- Салтык Г. А. Военная цензура в России в начале XX века//Цензура и доступ к информации: История и современность: тез. докл. междунар. науч. конф. СПб., 2005.
- Цензура в России: История и современность: тез. докл. конф. (Санкт-Петербург, 20-22 сентября 1995 г.). СПб., 1995.
- Цензура в России: матер. междунар. конф. (Екатеринбург, 14-15 ноября 1995 г.). Екатеринбург, 1996.
- Четверткова Н. Н. Цензурная политика Российского самодержавия и ее реализация в конце XIX -начале XX в. (на примере Средневолжского региона)//Изв. высших учеб. заведений. Поволжский регион. Обществ. науки. 2010. № 3.