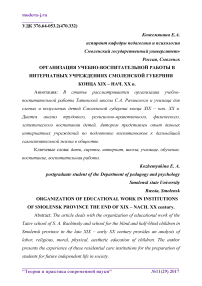Организация учебно-воспитательной работы в интернатных учреждениях Смоленской губернии конца XIX - нач. XX в
Автор: Кожемякина Е.А.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Образование и педагогика
Статья в выпуске: 11 (29), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается организация учебно-воспитательной работы Татевской школы С.А. Рачинского и училища для слепых и полуслепых детей Смоленской губернии конца XIX - нач. XX в. Дается анализ трудового, религиозно-нравственного, физического, эстетического воспитания детей. Автором представлен опыт данных интернатных учреждений по подготовке воспитанников к дальнейшей самостоятельной жизни в обществе.
Дети, сироты, интернат, школа, училище, воспитание, обучение, воспитательная работа
Короткий адрес: https://sciup.org/140270379
IDR: 140270379
Текст научной статьи Организация учебно-воспитательной работы в интернатных учреждениях Смоленской губернии конца XIX - нач. XX в
В Смоленской губернии в конце XIX – нач. XX в. были созданы такие интернатные учреждения, как детский приют для детей-сирот и детей неимущих родителей, который принадлежал ведомству учреждений императрицы Марии и был открыт по инициативе княгини С. П. Голициной, жены Могилевского, Витебского и Смоленского генерал-губернатора А. М. Голицина; школа с интернатом для сирот и детей крестьян, открытая профессором Московского университета С. А. Рачинским в селе Татево Бельского уезда Смоленской губернии; училище для слепых и полуслепых детей; Пречистенский сельский сиротский приют Духовщинского уезда Смоленской губернии; исправительная колония-приют для несовершеннолетних преступников и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в имении Сторожище Смоленского уезда.
Для понимания важности просвещения подрастающего поколения со стороны общества пореформенного периода рассмотрим особенности организации учебно-воспитательной работы в школе для сирот и детей крестьян, открытой профессором Московского университета С. А. Рачинским в селе Татево Бельского уезда Смоленской губернии, и училище для слепых и полуслепых детей.
С.А. Рачинский (1833—1902) – ученый, педагог, просветитель, профессор Московского университета, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук, ботаник и математик. В 1866 г. на волне реформы – в сфере образования в Совете Московского университета произошел раскол, приведший к самым настоящим гонениям против молодых профессоров, что привело к коллективной отставке ряда преподавателей университета. Одним из профессоров, подавших в отставку, был и С.А. Рачинский. Любовь к народу и желание видеть грамотным российского крестьянина явились главными причинами, послужившими основанием для ухода С.А. Рачинского из университета. И в 1875 году в селе Татево Бельского уезда Смоленской губернии он создал школу для детей крестьян. Что важно, при школе был открыт интернат, где проживали сироты и дети из отдаленных сел и деревень. В интернате были созданы комфортные условия для жизни воспитанников. Школа и интернат составляли по-настоящему единый учебно-воспитательный комплекс.
Здание школы было двухэтажное, располагалось напротив церкви. Вокруг нее был разбит цветник. В самом помещении – передняя, куда входили прямо с крыльца террасы, столовая с кухней, классная комната, уставленная столами для учеников, и просторная комната для помощников С. А. Рачинского. В классе, где занимались крестьянские дети, висели иконы, таблицы славянских букв, молитвы и картины из священного писания. Здесь же было много шитых полотенец, которые с любовью собирал С. А. Рачинский.
В книге «Четыре портрета», посвященной жизни выдающегося народного учителя С.А. Рачинского, ее автор М. Е. Стеклов отмечает, что «в первое время учеников было немного – 35, но их с каждым годом становилось все больше и больше. В 1888 г. в школе было 66 мальчиков, а еще с ними обучались и девочки. Сироты воспитывались на полном обеспечении семьи Рачинских» [2, с. 15]. Кроме того, дети получали медицинскую помощь в больнице, построенной в Татеве.
Подчеркнем, что в основу всей системы воспитания в школе С. А. Рачинского были положены нравственно-религиозные начала. Именно поэтому на первое место было поставлено преподавание Закона Божия. Дети активно участвовали в церковном богослужении, разучивали молитвы и пели религиозные песни. Занятия проводил священник в форме беседы.
Сведения из области веры получали сельские учащиеся и при изучении других предметов, например, при обучении чтению на церковнославянском языке. В первый год учения на этом языке дети разучивали молитвы, на второй - с помощью учителя читали Псалтырь, на третий – четыре Евангелия.
М. Е. Стеклов в своей работе также отмечал и то, что «С. А. Рачинский считал необходимым знание учащимися Священной истории. Поэтому по вечерам в школе он читал Ветхий и Новый Завет. Сюда приходили не только дети, но и взрослые. Чтение сопровождалось комментариями Рачинского. Нередко он показывал детям картины известных художников на религиозные темы» [2, с. 16].
Церковнославянский язык начинали осваивать со второго года обучения. Сначала разбирали известные, часто употребляемые молитвы, а затем доводили «ученика» до полного понимания языка церковнославянского Нового Завета. Ребята упражнялись в языке, читали Евангелия, Псалтырь, Часослов, а потом закрепляли свои знания, помогая священнослужителям во время отправления церковных служб.
Несомненно, С. А. Рачинский рассматривал нравственно-религиозное воспитание не как самоцель, а как средство формирования православного самосознания, национальной гордости и патриотизма. Народная русская школа, по мысли С. А. Рачинского, должна была быть церковной, она должна была сделать из ребенка не просто человека, а доброго христианина и воспитать его в духе христианского учения и добрых нравов. Это школа христианской жизни под руководством священников, а потом арифметики, грамматики.
Этим целям, например, служил праздник в день памяти Св. Кирилла и Мефодия, проводившийся ежегодно 11 мая в Татеве. Собирались его отметить все учащиеся, крестьяне, гости из соседних школ.
После торжественной литургии в церкви крестный ход шел в школу, где служили молебен Св. Кириллу и Мефодию. В классе устанавливался стол, где лежали книжки и стояли чашки с красными яйцами, которые потом раздавали крестьянским детям.
Опыт преподавания русского языка в татевской школе был следующий: «здесь прямо и откровенно стремились прежде всего научить читать и писать, затем владеть языком как орудием мысли, и, наконец, усиленными грамматическими упражнениями старались дать то развитие мыслительных способностей, которое естественно и прямо связано со всякими занятиями языком» [2, с. 17].
Отметим, что С. А. Рачинским был четко обозначен тот объем умений, которыми овладевает сельский ребенок при правильной постановке обучения русскому языку: «это, во-первых, умение выражать свои мысли без местных диалектных оборотов; во-вторых, умение читать стихи и прозу пушкинской поры» [2, с. 17].
Действительно, ученики Рачинского с наслаждением читали «Капитанскую дочку», «Дубровского», «Бориса Годунова», «Полтаву» Пушкина, «Тараса Бульбу» и «Ночь перед рождеством» Гоголя, «Песнь про купца Калашникова» Лермонтова, «Семейную хронику» Аксакова, «Ундину» Жуковского и многих других авторов. Размышляя о том, что нужно читать детям, С. А. Рачинский отдавал предпочтение А. С. Пушкину, так как это помогало постичь судьбы народа.
Безусловно, сельские дети, хорошо усвоившие русский язык, прочитавшие А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, сами становились источником распространения грамотности в деревне. Их родители просили ребят вечерами читать вслух книги русских писателей. В-третьих, учащиеся должны были овладеть умением писать грамотно, без ошибок то, «что бывает нужно писать в крестьянском быту: родственное письмо, прошение» [2, с. 18].
По арифметике с учащимися изучали арифметические действия, обратив особое внимание на упражнения и решение задач как письменно, так и устно. Главная цель изучения арифметики состояла в том, чтобы научить детей устному счету, который был необходим крестьянину в обыденной жизни, в торговле, при проведении земледельческих работ.
Наиболее показательным является тот факт, что татевский учитель, основываясь на принципе связи знаний по арифметике с реальными потребностями крестьянской жизни, четко обозначил путь формирования познавательных интересов сельских ребят. Не случайно детьми буквально одолела страсть к устному счету.
Исходя из потребностей крестьянского быта С. А. Рачинский обучал детей и элементам геометрии. Он составил задачник по арифметике, который назвал так: «1001 задача для умственного счета. Пособие для учителей сельских школ». В нем было все то, что непосредственно было связано с жизнью крестьян: о продаже лошади и ее стоимости, о количестве свиней, оставшихся в хозяйстве после зимы, о купцах, меняющих товары.
Подчеркнем, что большое место в системе обучения в татевской школе занимало эстетическое воспитание. Нередко оно выступало как продолжение религиозного. Дети активно участвовали в церковном пении, которым руководил сначала выпускник Смоленской духовной семинарии Л. П. Розов, а затем ученик этой же школы М. О. Шалдыгин. Фактически они были организаторами смешанного хора мальчиков и девочек, который выступал и в обычные и в праздничные дни как в татевской церкви, так и в соседних приходах.
С. А. Рачинский открыл курсы рисования и художественную мастерскую. Он преподавал крестьянским детям музыку, рисование и черчение. С нашей точки зрения, делалось это на достаточно высоком художественном уровне. Не случайно из стен школы вышел такой талантливый живописец, как Н. П. Богданов-Бельский.
Татевский учитель любил во время прогулок с детьми в окрестностях деревни или в школьном саду знакомить их с различными растениями, деревьями и обращал внимание на их естественную красоту. Делалось это не случайно, так как любовь к красоте и природе соседствует с потребностью быть ближе к книге.
Показательным является и то, что татевский учитель старался дать детям достаточно широкое образование. Поэтому в отличие от господствовавшего тогда трехлетнего обучения С. А. Рачинский ввел четырехлетнее. Он предлагал ученикам в течение всего курса обучения рассказы из всеобщей и отечественной истории, преподавалась география всеобщая и русская.
Особое внимание в Татевской школе уделялось трудовому воспитанию крестьянских детей. Они участвовали в хозяйственных работах: «помогали кухарке, рубили дрова, привозили с речки воду, убирали школу, поливали цветы, ухаживали за школьным огородом» [2, с. 20].
Режим дня, установленный для учеников, был следующий: «начало было обычным – в 6 часов утра они приходили в школу и сразу же начиналась утренняя молитва. Потом завтрак – хлеб с молоком, а в постные дни с квасом. После завтрака ребята выполняли различные хозяйственные работы. С 9 до 12 часов следовали учебные занятия, прерываемые на пять минут после часа занятий. В 12 – обед: щи или суп, каша, в праздничные дни – пироги с чаем. К столу подавали и овощи со школьных грядок. После обеда дети отдыхали до 2 часов. С 2 до 4 часов – уроки, в 4 – полдник, после чего игры и прогулки до 6 часов. Вечером, в 6 часов, снова начинались занятия; теперь учащиеся упражнялись в умственном счете, пели, занимались грамматическим разбором. Все это заканчивалось в 9 часов вечера, после чего следовала молитва и ужин» [2, с. 20].
Необходимо отметить, что ученье в татевской школе продолжалось круглый год. Сюда приезжали бывшие ученики, обучавшиеся в Москве, Петербурге, Смоленске в учительских семинариях и духовных училищах, учащиеся, готовившиеся к поступлению в разные учебные заведения, учителя из школ, открытых С. А. Рачинским в соседних деревнях.
По мнению М.Е. Стеклова, «школу С. А. Рачинского в Татеве можно смело назвать школой радости. Ежегодно здесь устраивалась рождественская елка. Сюда приходили все ученики, приезжали гости из близлежащих мест – дети, учителя. Дети получали подарки – чаще всего книги, платки – девочки, рубашки – мальчики. Гостей одаривали гостинцами с елки. Зажигались бенгальские огни. Звучали песни, водили хороводы» [2, с. 21].
В школе экзамены обставлялись так, что дети воспринимали их как настоящий праздник. Девочки убирали школу цветами, ребята выбегали за околицу встречать С. А. Рачинского. А потом начинались экзамены, где детей спрашивали доброжелательные и справедливые учителя. А после С.А. Рачинский дарил каждому ребенку Новый Завет и Псалтырь с Часословом, говорил добрые напутственные слова.
Бесспорно, С. А. Рачинский помогал крестьянским детям найти собственную дорогу жизни. При этом он обязательно учитывал способности и наклонности ребят. Одни воспитанники учились в Духовном училище и даже в Духовной академии, другие заканчивали фельдшерские школы, третьи – ремесленные заведения, многие становились управляющими, купцами и заводили свое дело.
Необходимо подчеркнуть, что в условиях сельской местности С. А. Рачинский сделал попытку создать систему воспитания одаренных крестьянских детей. Он не только помогал им поступить в учительские семинарии, школы живописи, но и продолжал их поддерживать духовно и материально в течение долгого времени.
Летом воспитанники съезжались в Татево, и С. А. Рачинский с ними много занимался, преподавал геометрию, латинский язык, словесность, полный курс гражданской истории и географии. Занятия нередко длились по 12 часов в сутки.
Отметим, что подготовка учителей, как правило, начиналась в школе. С. А. Рачинский, заметив в каком-либо из старших ребят педагогические способности, давал им поручение руководить младшими. После окончания обучения такие учащиеся оставались на несколько лет в педагогическом коллективе. И в зимнее время, но особенно в летнее, С. А. Рачинский проводил с ними дополнительные занятия по Закону Божьему, арифметике, геометрии, географии, истории, словесности.
В 17-18 лет выпускники школ сдавали специальный экзамен комиссии при средних учебных заведениях и, получив звание сельского учителя, сначала работали помощниками, а затем старшими учителями. В 1890 году таким образом было подготовлено сорок педагогов из крестьянских детей. С. А. Рачинский относился к ним с большой любовью.
После того, как бывшие ученики С. А. Рачинского становились учителями, их обучение не заканчивалось. Они приезжали накануне каждого праздника в Татево и начинались долгие собеседования, которые сами молодые учителя называли маленькими учительскими съездами. Душой их был С. А. Рачинский. М. Е. Стеклов повествовал о том, что «эти учителя легко находили язык друг с другом. И это понятно. Ведь они не порывали связи с родной средой, жили в ней, просвещали ее, делали ее более грамотной» [2, с. 31].
Таким образом, С. А. Рачинский, воспитывая и обучая детей крестьян, ориентировался на максимум детских возможностей крестьянских ребят, связь обучения с трудовой деятельностью, развитие математических способностей, воспитание нравственной активности учащихся и их художественной одаренности. Глубокий патриотизм педагога, его верность народным идеалам и Отечеству, стремление построить истинно народную школу не могут не быть восприняты как высокий гражданский подвиг татевского учителя по подготовке крестьянских детей к дальнейшей самостоятельной жизни.
Еще одним ярким примером просвещенческой деятельности является создание в 1892 году Смоленского училища для слепых и полуслепых детей. Училище располагалось в деревянном здании. К зданию прилегал довольно обширный двор, где дети могли свободно играть и бегать. Учебновоспитательный персонал училища был представлен инспектором И. С. Аргуновым, законоучителем протоиереем Н. С. Марковым, старшей воспитательницей Е. Э. Аргуновой, младшей воспитательницей З. В. Цитович, учителем пения Д. О. Концевым и учителем музыки В. К. Гринбергом.
Что касалось коллектива воспитанников, то «всего в училище находилось на воспитании 20 детей. Воспитанники распределялись по классам. В младшем подготовительном классе – 4; в старшем подготовительном – 4; во втором – 4; в третьем – 4; в ремесленном – 4. По своему происхождению это были дети крестьян – 7; мещан – 7; разночинцев – 6» [1, Л. 3].
В отчете Смоленского комитета попечительства императрицы Марии Александровны о слепых приводится распорядок дня в училище для слепых: «день в Смоленском училище для слепых начинался в семь часов утра, дети убирали свои кровати, совершали утреннюю молитву; с 8 и до 8.30 – младшие ученики занимались гимнастикой, после которой изучали предметы общеобразовательного цикла, длящиеся до 13.00 часов; с 13 до 14 часов – обед и свободное время; с 14 до 16 часов – по понедельникам, средам и пятницам проходили уроки пения, а по вторникам, четвергам и субботам – уроки музыки; с 16 до 17 часов – свободное время; с 17 до 19 часов – младшие воспитанники занимались рукоделием, а старшие работали в ремесленном классе; с 19 до 20 часов – осуществлялась подготовка уроков; в 20 часов – ужин, после которого следовало чтение для детей младшего возраста; с 21 до 22 часов – вечерняя молитва и чтение для воспитанников старшего возраста; в 22 часа все ученики отходили ко сну» [1, Л. 5].
Разумеется, в каникулярное время занятия распределялись так, чтобы большую часть времени воспитанники проводили на свежем воздухе, поэтому предметы общеобразовательного цикла и занятия в ремесленном классе продолжались четыре часа с 8 до 12 часов дня, а все остальное время отводилось прогулкам, играм в саду, за городом и т.д.
Что касается обучения, то «дети занимались как учебными предметами, так и практическими работами. Учебные занятия проводились по программе, разработанной учительским коллективом. Закон Божий изучался со слов Законоучителя и по книгам. По русскому языку занятия заключались в чтении, письме, пересказе, заучивании на память и грамматических упражнениях: чтение написанной шрифтом Брайля азбуки Толстого, басен Крылова, Ветхого Завета и Евангелия; диктант, объяснительное чтение, пересказ статей, прочитанных учительницей вслух, заучивание стихов и басен Крылова наизусть осуществлялось со слов учительницы и по книге, написанной выпуклым шрифтом, изучение грамматических сведений таких, как деление речи на слова, слова на слоги, слоги на гласные и согласные звуки, разбор простого предложения» [1, Л. 7].
По арифметике воспитанники решали задачи, связанные с числами первой сотни и до тысячи, различными мерами времени, составлением наименований чисел и т.д.
Во время уроков дети знакомились с предметами первой необходимости, их частями и производством, с планом комнат и дома. На фребелевских занятиях воспитанники упражнялись в плетении и вышивании. Занятия рукоделием предусматривали плетение шнурков и вязание на двух спицах (для младших воспитанников); вязание чулков, плетение сетей, гамаков и ковров (для старших воспитанников).
В ремесленных классах дети обучались щеточному ремеслу: «надзор и руководство за ремесленными занятиями учеников осуществлял инспектор училища, а постоянное наблюдение и преподавание ремесла проводил щеточный мастер. Ремесленные занятия состояли в наборе щеток, в наклейке и отделке их, знакомстве с материалами и качеством, разборкой, сортировкой, плетении стульных решеток» [1, Л. 10].
Преподавание музыки и пения осуществлялось с целью предоставления воспитанникам возможности играть в оркестре и петь в хоре. Это доставляло детям эстетическое удовольствие. На уроках музыки и пения должны были присутствовать все ученики. Учащиеся пользовались нотами, написанными точечным рельефным шрифтом Брайля. Уроки музыки и пения сыграли существенную роль в создании оркестра и хора училища, исполнявших номера на концертах. Оркестр училища был смешанный. Кроме духовых инструментов там были пианино, скрипки, балалайки и виолончель. Таким образом, слепые и полуслепые дети, окончившие училище, умели петь и играть.
Необходимо отметить, что за здоровьем и гигиеной воспитанников следил врач. Дети должны были беспрекословно выполнять рекомендации врача относительно здорового образа жизни, гигиены, режима дня.
В качестве развлечений для учеников выступали: «прогулки, игры во дворе и саду училища, чтение книг, написанных шрифтом Брайля, чтение в классе в свободное от занятий время представителями педагогического коллектива, посещение концертов и спектаклей, даваемых в Смоленске. 8 января, в здании училища, на пожертвованные средства, была устроена елка-вечер для слепых» [1, Л. 15].
Бесспорно, выпускникам училища оказывалась помощь со стороны попечительства, которая заключалась в следующем:
-
«1 . Назначение пособия в сумме 75 рублей на человека. На данные средства они должны были снабжать себя некоторыми ремесленными инструментами, запасом белья, одежды, обуви и т.д.;
-
2. Каждый окончивший училище, по желанию, мог присоединиться к одной из групп или партий, организованных лицами, окончившими училище
-
3. Выпускники училища, умевшие петь или играть, могли организовать хор или оркестр с помощью учителей музыки и пения, помогавших бывшим воспитанникам опытом, знаниями и советами в нахождении применения своему труду: петь в церквях, играть в театрах, на вечерах, гуляниях и т.д.;
-
4. Ремесленный материал, необходимый для изготовления изделий, закупался Отделением Попечительства и выдавался слепым для выполнения заказов» [1, Л. 66].
для слепых. Выпускники-музыканты снабжались за счет Отделения Попечительства соответствующими музыкальными инструментами;
Необходимо подчеркнуть, что воспитательная работа в училище для слепых способствовала выбору воспитанников их жизненного пути. Большинство выпускников смогли успешно устроить свою жизнь. В качестве примеров можно привести следующих выпускников училища: «Федор Егоров, Авраам Рогощенков, Иван Соболев, Андрей Литвинов, Михаил Корсаков, Захар Григорьев и Авраам Иванченков после окончания училища занимались щеточным ремеслом, затем организовали свои щеточные мастерские; Павел Власов после окончания училища продолжил занятия музыкой, пел в церковных хорах, исполнял обязанности псаломщика; Захар Медведев пять лет после окончания училища был надзирателем при училище слепых, затем откомандирован приказчиком во 2-й городской щеточный магазин; Иван Баранов успешно занимался щеточным ремеслом; Андрей Романов зарабатывал себе на жизнь пением и музыкой; Макарий Васильев, Андрей Пашутин, Василий Старовойтов, Николай Скрылев, Андрей Соболев, Семен Логинов и Андрей Раецкий организовали так называемую партию «щеточников-певчих», жили артелью и зарабатывали себе на жизнь щеточным ремеслом и пением не менее 15 рублей в месяц на каждого; Яков Бубнов, Николай Аристархов, Михаил Алексеев и Василий Соколов организовали так называемую партию «щеточников-музыкантов», жили артелью, зарабатывали себе на жизнь щеточным ремеслом и музыкой не менее 15 рублей в месяц на каждого; Василий Смирнов, Василий Рубин, Герасим Луньков и Павел Гречин организовали так называемую партию «щеточников не певчих», зарабатывали себе на жизнь щеточным ремеслом, иногда музыкой не менее 15 рублей в месяц на каждого; Николай Тихомиров, Павел Силкин, Иван Терентьев, Петр Сафонов, Фадей Титов, Андрей Королев и Филипп Архипенков организовали артель «щеточников не музыкантов» и зарабатывали 15 рублей в месяц; Михаил Кругликов, Александр Антонов, Семен Антонов и Парфений Климов организовали партию «исключительно щеточников» и зарабатывали по 15 рублей ежемесячно на каждого» [1, Л. 65].
Подводя итог изложенному, можно заключить, что подготовка воспитанников Татевской школы С.А. Рачинского и училища для слепых и полуслепых детей Смоленской губернии конца XIX – нач. XX в осуществлялась посредством организации их трудового, физического, эстетического и религиозно-нравственного воспитания.
Так, трудовое воспитание осуществлялось в процессе участия в хозяйственных работах, занятий рукоделием, плетения шнурков, вязания на двух спицах, чулков, плетения сетей, гамаков и ковров и т.д.; физическое воспитание - в процессе бесед по гигиене, здоровому образу жизни, прогулок, игр на свежем воздухе и т.д.; эстетическое воспитание - во время участия в художественной самодеятельности и т.д.; религиознонравственное воспитание - во время изучения Закона Божьего, Священной истории, Ветхого и Нового Завета, участия в церковном богослужении, разучивания молитв и религиозных песен и т.д.
Список литературы Организация учебно-воспитательной работы в интернатных учреждениях Смоленской губернии конца XIX - нач. XX в
- ГАСО. Отчет Смоленского комитета попечительства императрицы Марии Александровны о слепых по содержанию училища для слепых в Смоленске за 1892 г. // Ф. Р-552, оп. 1, д. 2.
- Стеклов М.Е. Четыре портрета: С.А. Рачинский, В.П. Вахтеров, Х.Д. Алчевская, К.Н. Вентцель: [Учеб.пособие для учителей, студентов и аспирантов педвузов]. - Смоленск: Вердикт, 1995. - 158 с.