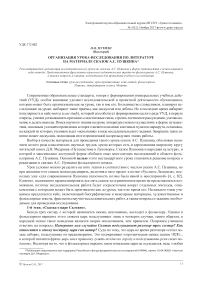Организация урока-исследования по литературе на материале сказок А.С. Пушкина
Автор: Путило Олег Олегович
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Общая педагогика, история образования
Статья в выпуске: 5 (52), 2017 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается организация исследовательского урока по сказкам А.С. Пушкина в форме путешествия с использованием кейс-метода. Представляются фрагменты научно-исследовательских трудов по фольклоризму А.С. Пушкина, а также вопросы и задания, необходимые для проведения учебного исследования.
Урок-исследование, урок-путешествие, кейс-метод, фольклоризм, пушкин, литературная сказка, медриш
Короткий адрес: https://sciup.org/14822615
IDR: 14822615 | УДК: 372.882
Текст научной статьи Организация урока-исследования по литературе на материале сказок А.С. Пушкина
Если бы поэт до конца следовал фольклорным законам, пес легко бы мог предупредить об отраве, но поскольку Соколко говорить не умеет, то, «чтобы показать богатырям, что яблоко отравлено, у него остается одно средство – проглотить отраву и погибнуть. Пушкину просто необходимо, чтобы пес говорить не умел» [8, с. 69]. Соколко отдал самую высокую цену за верность – свою жизнь.
3-й этап. «Сказка о рыбаке и рыбке».
В конце 1860 гг. обнаружилось поразительное сходство пушкинского варианта с одним из текстов, опубликованных в сборнике А.Н. Афанасьева под названием «Золотая рыбка». Возможно, эта народная сказка, которую Пушкин мог услышать от известного собирателя устного народного творчества В.И. Даля, и стала источником «Сказки о рыбаке и рыбке». В пользу этой точки зрения свидетельствовал факт наличия похожих версий в сборнике польских народных сказок, опубликованных в 1853 г А.Ю. Глиньским, и в шведском журнале для семейного чтения 1878 г. Но существует и прямо противоположная точка зрения, вполне допускающая, что «афанасьевский вариант № 39 есть неряшливый пересказ сказки Пушкина, проникшей в народную толщу» [3, с. 62]. Распространенность же этого сюжета, напротив, наталкивает на мысль, что это мог быть «ряд текстов уже вторичного происхождения под влиянием пушкинской сказки – этим обратным влиянием объясняется и столь большое количество вариантов» [1, с. 153]. Этот спор также может дать хороший материал для кейса, в котором ключевым заданием станет вопрос: Какая сказка была первой: «Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина или народная сказка « Золотая рыбка » ?
Помочь ответить на него может анализ финальной сцены сказки Пушкина. Из предыдущих заданий мы уже знаем об обязательном для народных сказок законе «сказано-сделано», который в финале «Сказки о рыбаке и рыбке» нарушается: рыбка ничего не сказала, а превращение все же совершилось. Знаменательно, что рыбка молчит и в афанасьевском варианте, и в зарубежных текстах. «Отсутствие прямой речи в заключительной сцене афанасьевского текста настолько расходится с традициями народной волшебной сказки, что представляется нам новым и весьма убедительным доказательством первичности пушкинского текста» [5, с. 139] – считает Д.Н. Медриш. По мнению ученого, сказка Пушкина распространилась по всей Руси и за ее пределами (чему немало способствовала близость ее народной фольклорной традиции), и стала основной для фольклорных сказок-подражаний. Еще одной приметой, помогающей отличить подлинные фольклорные тексты от вторичных образований является сам образ золотой рыбки, который в русских народных сказках до Пушкина не встречался (в роли дарителя обычно выступала птичка или липка).
4-й этап. «Сказка о попе и его работнике Балде».
В основе «Сказки о попе и о работнике его Балде» лежит народная бытовая сказка о хозяине и работнике, поэтому у нее свои законы речевого поведения: «Здесь, как и положено бытовой сказке подобного содержания, появляется обманная речь: сказано одно, сделано другое» [7, с. 100]. Обрабатывая свои черновые записи, Пушкин выпускает целый ряд эпизодов, более развернуто изображая состязание Балды с чертями.
Народное отношение к образу черта вряд ли можно назвать положительным. Постоянный фольклорный эпитет бедный , сопутствующий слову бес объясняется в поговорке: Беден бес, что у него Бога нет. Скуден да нужен человек, а беден бес . Более того, «в некоторых регионах России вообще считалось неприличным говорить «бедный» о человеке, так как люди только убоги, а бедны – черти» [7, с. 81–82]. Однако у Пушкина бес не просто бедный , а бедненький . Как изменяется отношение к бесенку при использовании другого эпитета? Почему Пушкин отступает от фольклорной традиции в изображении бесенка? С какой целью он пытается вызвать у читателя жалостливое отношение к представителю нечистой силы?
Уменьшительно-ласкательная форма прилагательного, использованная поэтом, вызывает сочувствие к бесенку, а пожалев его, читатель может найти в себе жалость и снисхождение к попу, которого в конце сказки Балда «награждает» тремя щелчками. Да какими щелчками! Известно, что в черновиках Пушкин задумывал написать брызнул мозг до потолка , потом вышибло дух у старика . Причем в народных вариантах сказки жадного попа тоже частенько ждала ужасная расплата. Однако в итоге «эффект расправы с попом, вопреки первоначальной традиционной концепции, не усилен до максимума, но приглушен на третьей, последней ступени приема повторения: попу дарована жизнь» [3, с. 25]. В то же время были отброшены и относительно безобидные варианты он лишился языка и выскочила шишка у старика . Почему поэт изменил концовку своей сказки? Как вам кажется, какая кара более страшна: смерть или сумасшествие?
Переделку финальной сцены традиционно объясняют желанием поэта смягчить наказание, стремлением «гуманизировать Балду <...>, что могло бы облегчить и прохождение «Балды» через цензуру» [3, с. 31] «Окончательная редакция с более «мирным» концом явилась, видимо, результатом работы поэта по сглаживанию особо «острых углов» в целях придания сказке большей защищенности от цензуры» [4, с. 163]. Однако в пушкинской сказке поп не просто одурачен, он лишается ума – это кара, которая в «Медном всаднике» обрушивается на бедного Евгения. И если вспомнить стихотворение А.С. Пушкина «Не дай мне бог сойти с ума...», то можно заключить, что «сам поэт вряд ли посчитал бы такую развязку более благополучной для наказуемого» [8, с. 77].
5-й этап. «Сказка о золотом петушке».
Может показаться, что «Сказка о золотом петушке» написана в подражание отечественной народно-сказочной традиции, неслучайно имя «славного царя» Дадона широко использовалось в лубочных историях и связывалось с представлением о человеке недалеком и самовлюбленном.
Однако в числе источников был не только русский фольклор. А. Ахматова в статье «Последняя сказка Пушкина» (1933) указала на связь «Золотого петушка» с «Легендой об арабском астрологе» американского писателя Вашингтона Ирвинга, отметив при этом, что Пушкин значительно переделал заимствованный сюжет, добавив сыновей (без которых русская сказка неправдоподобна), три похода, в результате которых они гибнут, а царь пирует в шатре шамаханской царицы, и иную, чем у Ирвинга, концовку, взяв, таким образом, курс «подальше от Ирвинга, поближе к русскому фольклору» [3, с. 57]. В народной сказке образ царя обычно идеализирован. Он – отец народа, заботящийся о спокойствии и благоденствии своих подданных. Можно ли Дадона назвать идеальным правителем?
Царь Дадон склонен царствовать лежа на боку , не утруждая себя монаршими обязанностями. Если исходить из представления о «хорошем царе» как норме, то Дадон ведет себя недостойно, «наоборот». Его царское слово дается всерьез, а затем бесстыдно нарушается. Найдя обоих сыновей убитыми, Дадон поступает вопреки традиции: он завыл, запричитал, в то время как причитания – дело не мужское, а женское: «Причитания Дадона близки фольклорным плачам. Но и это – пародия: Дадон именно воет – самым комическим образом, громогласно, аффектированно» [9, с. 235]. В нарушение фольклорной традиции у царя Дадона только два сына, поэтому роль третьего сына, решающего все задачи, вынужден играть он сам. «Ложный» герой принимает на себя прямо противоположную роль героя-протагониста, и эта роль уже не сказочная, а антисказочная, пародийная, «для Пушкина чрезвычайно важно, что Дадон – не просто ложный герой. Он прежде всего «ложный» царь» [10, с. 148]. Почему у Пушкина Дадон предстает не в образе идеального правителя, а выступает то в роли набитого дурака, то в роли наглого деспота?
Известно, что Пушкину не везло в отношениях с царями: «Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвёртого не желаю; от добра не ищут», – писал он своей жене. Неудивительно, что отдельные качества и поступки царя Дадона исследователи соотносят с эпизодами правления целого ряда русских царей: «Образ Додона – своеобразный семейный портрет трех Романовых <...> Дадон – недалек, как Павел I, ленив и бездеятелен, как Александр I, деспотичен и скор на расправу, как Николай I, женолюбив, как все трое Романовых» [2, с. 217]. Изображение дремлющего на престоле Дадона – аллюзия на историю из жизни царевича Павла, произнесшего, едва преодолевая дрему, фразу: «Я царствую». А другой царь, Николай I, обещал поэту содействовать публикации его произведений, но слова не сдержал.
Чем можно объяснить многочисленные отступления от фольклорных норм в сказках Пушкина? Итак, проанализировав сказки А.С. Пушкина, мы выявили многочисленные отступления от фольклорных норм, что продиктовано не только особенностями жанра литературной сказки, но и определенным авторским замыслом. В пушкинских сказках содержатся аллюзии на конкретных события и переживания поэта, которые он не мог высказать прямо из-за цензуры. Однако вносимые поэтом изменения не противоречат внутренней фольклорной логике. Пушкин делал это «не вопреки фольклорной традиции, а в ее развитие» [8, c. 58].
Список литературы Организация урока-исследования по литературе на материале сказок А.С. Пушкина
- Азадовский М.К. Источники сказок Пушкина//Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. № 2. С. 134-163.
- Волков Р.М. Народные истоки творчества А.С. Пушкина (баллады и сказки). Черновцы, 1960.
- Желанский А. Сказки Пушкина в народном стиле. Л., 1936.
- Лупанова И.П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века. Петрозаводск, 1959.
- Медриш Д.Н. Прямая речь в структуре повествования волшебной сказки//Вопросы русской и зарубежной литературы: Учен. зап. Волгогр. педагог. ин-та им. А.С. Серафимовича. Волгоград, 1970. Вып. 30. С. 137-147.
- Медриш Д.Н. «Все в безмолвии чудесном..» (Паралингвистический элемент в структуре пушкинской сказки)//Язык и стиль. Метод, жанр, поэтика. Волгоград: , 1977. С. 50-60.
- Медриш Д.Н. Речь и молчание в сказках Пушкина//Русская речь, 1992. №5. С. 98-102.
- Медриш Д.Н. Путешествие в Лукоморье. Сказки Пушкина и народная культура. Волгоград: Перемена, ВГПУ, 1992.
- Непомнящий В. Поэзия и судьба. М., 1987.
- Сапожков С.В. Жанровое своеобразие сказок А. С. Пушкина 1830-х годов (проблема цикла): автореф. дис.. канд. филол. наук. М., 1988.