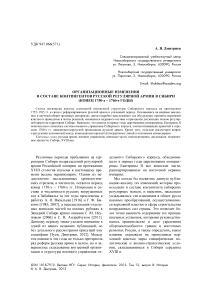Организационные изменения в составе контингентов русской регулярной армии в Сибири (конец 1750-х – 1760-е годы)
Автор: Дмитриев Андрей Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу изменений внутренней структуры Сибирского корпуса на протяжении 1755–1765 гг. в связи с реформированием русской армии в указанный период. Основываясь на впервые введенных в научный оборот архивных материалах, автор подробно прослеживает ход обсуждения, принятие верховной властью и проведение в жизнь решений, касавшихся кадрового состава и принципов дислокации полков регулярной армии на территории Сибири. Выяснено, что именно в первые годы царствования императрицы Екатерины II окончательно сложилась система военного управления Сибирского корпуса, соответствовавшая принятой к середине 1760-х гг. дивизионно-корпусной организации русской армии. Кроме того, отдельно рассмотрен вопрос о разделении полномочий между комендантами крепостей пограничных линий и полковыми командирами.
Русская армия, военное управление, воинские части, комплектование, дислокация, пограничные крепости, сибирь, xviii век
Короткий адрес: https://sciup.org/147218946
IDR: 147218946 | УДК: 947.066(571)
Текст научной статьи Организационные изменения в составе контингентов русской регулярной армии в Сибири (конец 1750-х – 1760-е годы)
Различные периоды пребывания на территории Сибири подразделений регулярной армии Российской империи на протяжении XVIII столетия изучены к настоящему времени весьма неравномерно. Одним из недостаточно исследованных хронологических отрезков, в частности, остается период конца 1750-х – 1760-х гг. Изменения в составе и численности русских вооруженных сил в Забайкалье за эти годы прослежены в работах А. П. Васильева [1916] и Г. Ф. Бы-кони [1985; 2007], а передислокация отдельных воинских частей на южных рубежах в Западной Сибири кратко описана С. Ю. Исуповым [2006] и С. В. Андрейчуком [2011]. Данному периоду также уделено внимание в одной из наших недавних публикаций, но без детального рассмотрения присущей ему специфики [Зуев, Дмитриев, 2012]. Между тем именно в эти годы не только претерпела ряд реформ русская армия в целом, но и завершилось складывание внутренней организации и структуры военного управления от- дельного Сибирского корпуса, объединившего в первые годы царствования императрицы Екатерины II все воинские части, расквартированные на восточной окраине империи.
Мы хотели бы посвятить данную публикацию анализу тех изменений, которые происходили в составе контингента сибирских регулярных полков, и выяснить, насколько укладывались эти изменения в общее русло военных преобразований, осуществлявшихся верховной властью в сфере строительства вооруженных сил страны. Это позволит более точно выяснить содержание тех принципиальных установок, которыми руководствовалось правительство в деле укрепления обороноспособности границ в восточных регионах России, а также определить, какое влияние оказывали на проводимые верховной властью меры специфические политические и военно-стратегические условия, складывавшиеся в Сибири середины XVIII в.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 8: История © А. В. Дмитриев, 2013
Источниковой базой для настоящей публикации послужили материалы, извлеченные нами из фондов Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА, ф. 20 – Воинская экспедиция Военной коллегии) и Российского государственного архива древних актов (РГАДА, ф. 248 – Сенат и его учреждения). Ряд изученных нами дел содержит не только документы, фиксировавшие принимаемые верховной властью и центральными государственными учреждениями решения относительно армейских подразделений в Сибири, но также доношения и рапорты местной сибирской администрации и военных командиров, содержавшие информацию о ходе реализации этих решений и достигнутых результатах. О том, насколько важна для восстановления фактической стороны происходивших событий именно последняя информация, мы имели случай напомнить в одной из недавних публикаций [Дмитриев, 2012].
В 1755 г. на территории Сибири под началом бригадира Джона Крафта дислоцировались три полевых драгунских (Луцкий, Олонецкий и Вологодский), пять гарнизонных (Тобольский, Енисейский и Якутский пехотные, Сибирский и Новоучрежденный драгунские) полков, а также отдельный Но-воучрежденный пехотный батальон. Ранее переведенные в Западную Сибирь Ширван-ский и Нотебургский полевые пехотные полки еще в 1754 г. вернулись в Казанскую губернию [Андрейчук, 2011. С. 39; Зуев, Дмитриев, 2012. С. 20]. Начавшая свою работу в 1754 г. очередная Воинская комиссия, помимо разработки новых пехотных и кавалерийских уставов, озаботилась также изменением кадрового состава русской армии по отдельным родам войск. В частности, как указывал Л. Г. Бескровный, по кадровому составу кавалерии в 1755 г. были приняты следующие решения: «Уменьшить количество драгунских полков, расформировать два полка в Сибири» [1958. С. 64]. Вне штатного расписания, отметил С. Ю. Исупов, оказались как раз Луцкий и Олонецкий драгунские полки, которые, однако, не были расформированы, но сохранились в прежнем составе [1999. С. 47; 2006. С. 167].
Разберем этот сюжет более подробно. Согласно предложению комиссии, вместо 29 драгунских полков следовало первоначально сохранить 20, а оставшиеся девять переформировать: три – в кирасирские полки, шесть – в гренадерские 1. Затем принимается решение о сохранении не 20, а только 18 драгунских полков, причем именно за счет расформирования двух упомянутых выше. Их личный состав надлежало «распределить в новопрожектируемые губернские (т. е. гарнизонные, состоящие в подчинении губернаторов. – А. Д.) полки». Однако при рассмотрении этого вопроса на заседаниях Конференции при высочайшем дворе 4 и 6 апреля 1756 г. было получено соизволение императрицы Елизаветы Петровны «оные два полка, ныне сверх нового положения излишними остающияся, до усмотрения и определения впредь не касовать (раскассировать. – А. Д.), но содержать их в нынешнем состоянии и с нынешним жалованьем на воинской сумме» 2. На основании этого решения 10 апреля того же года в Военной коллегии было вынесено определение: сохранять оба полка в прежнем штате, но прекратить их дальнейшее комплектование, дабы содержать полностью укомплектованным один лишь Вологодский полк. При этом предписывалось, в случае необходимости, переводить в состав последнего нужное число людей из Луцкого и Олонецкого полков, либо же, наоборот, причислить «излишний» контингент из Вологодского в два других полка, «дабы ни лишних от Вологодского полку людей оттуда выводить, ни для комплектования его добавком из России туда людей из других полков заводить нужды не было, и чаемого от того немалого труда избегнуть было можно» 3.
В начале января 1757 г. генерал-аншеф В. В. Фермор запросил генерал-фельдмар-шала А. Б. Бутурлина о дальнейшей судьбе этих полков, поскольку они, вместе с недавно назначенным вместо Крафта генерал-лейтенантом И. Риддером, были причислены в состав дивизии Фермора согласно расположению всех воинских частей русской армии на зиму 1756/57 г. Фермор опасался, чтобы с прекращением комплектования обоих полков они «не могли приттить людьми и лошадьми впредь в несостояние, и что за тем… Сибирскую линию, как весьма обширную, содержать будет некем», а также интересовался, «мундиром и амуни-циею в тех двух полках, коим сроки выйдут, снабдевать ли, и по недостатку в тамошних местах войск против прежнего штату людьми и лошадьми комплектовать ли, и откуда рекрут требовать ли?» 4.
Соглашаясь с доводами Фермора, Военная коллегия тогда же, к концу января 1757 г., представила Сенату свое мнение. Выражая опасение, что из-за прекращения укомплектования оба полка могут со временем «прийти в великий некомплект», а люди начнут терпеть крайний недостаток в снабжении мундирными вещами и прочей амуницией, члены коллегии просили восстановить снабжение полков всем необходимым. Судя по всему, это действительно было сделано в том же 1757 г., даже несмотря на то, что генерал-лейтенант Риддер «не успел попасть в Сибирь» [Огурцов, 2010. С. 91]. Временно командование над дислоцированными к востоку от Урала воинскими частями принял бригадир К. Л. фон Фрауендорф. Уже весной 1758 г. под его начало был переведен также Троицкий полевой драгунский полк, ранее расквартированный в Уфе. А в апреле того же года именным указом императрицы Елизаветы в Сибирь отправился генерал-майор И. И. Веймарн, снятый с должности генерал-квартирмейстера армии, действовавшей в первый год Семилетней войны против Пруссии 5.
По мнению А. Ю. Огурцова, Веймарн пострадал вместе с главнокомандующим, фельдмаршалом С. Ф. Апраксиным, за немотивированное отступление после одержанной над пруссаками победы при Гросс-Егерсдорфе, угодив «в почетную ссылку» [Огурцов, 2010. С. 71, 72]. Впрочем, в протоколе заседания Конференции при высочайшем дворе (от 9 апреля 1758 г.) его назначение мотивировалось так: «По про-изшедшему с Китайским двором по зенгор-ским делам несогласию и опасению к нападению китайцов на Сибирския границы». Вследствие этого было решено вручить командование над всеми воинскими контингентами в Сибири «нарочно посылаемому туда кому либо способному и исправному из генералитета» 6. Обсуждавшаяся в Се- нате в сентябре 1758 г. идея назначить главнокомандующим сибирскими частями иркутского вице-губернатора, генерал-майора И. П. Вульфа 7, поддержки не получила, так что к концу года Веймарн официально вступил в должность.
Обострение отношений с цинским Китаем подталкивало местную администрацию к поиску новых ресурсов, которые можно было бы задействовать для повышения обороноспособности вверенной им территории. Уже в марте 1759 г. сибирский губернатор Ф. И. Соймонов предложил Военной коллегии сформировать четыре ландмилицейских полка и разместить их в Забайкалье. Но лишь осенью 1760 г. состоялось решение Сената о формировании Якутского конного ландмилицейского полка, причем для этого 400 чел. должны были выделить из своего состава драгунские полки, дислоцированные в крепостях Иртышской линии: полевые – Луцкий и Олонецкий, и гарнизонные – Сибирский и Новоучрежденный. На протяжении 1761 г. шло комплектование этого полка до требуемой штатной численности в 1 тыс. чел., а летом 1762 г. он был расположен в Селенгинске [Васильев, 1916. С. 152–156; Быконя, 2007. С. 160, 161].
Чтобы не допустить ослабления войск, дислоцированных в Западной Сибири, Вей-марн и Соймонов просили о переводе на Новую линию из Оренбургской губернии Азовского полевого драгунского полка, а также распорядились привести в готовность казачьи отряды, находившиеся в Ишиме, Ялуторовске, Таре, Кузнецке и Томске. После получения в апреле 1761 г. известий о вступлении китайской армии в Восточный Казахстан и приближении ее к Горному Алтаю, решено было срочно командировать в Усть-Каменогорскую крепость бригадира Фрауендорфа 8. Однако вскоре выяснилось, что опасность китайского нападения сильно преувеличена, так что Азовский полк был оставлен на прежнем месте [Андрейчук, 2011. С. 40]. Таким образом, к 1763 г. в Сибири насчитывалось уже девять полков регулярной армии и еще один конный ланд-милицейский (т. е. нерегулярный) полк. Командование над ними в этом году вре-
-
7 Там же. Д. 873. Л. 4, 4 об.
-
8 См.: Там же. Д. 861. Л. 1, 6 – 7 об., 35 – 40 об.
менно принял Фрауендорф, произведенный в генерал-майоры, поскольку Веймарн, повышенный в 1762 г. в чин генерал-поручика, был возвращен из Сибири в столицу вскоре после вступления на престол императрицы Екатерины II [Путинцев, 1891. С. 37; Огурцов, 2010. С. 74].
Осенью 1763 г. были приняты сразу несколько важных решений, определивших кадровый состав и организационную структуру Сибирского корпуса. Во-первых, 19 сентября назначенному его новым командующим генерал-поручику И. И. фон Шпрингеру была вручена личная инструкция императрицы, в которой, среди прочего, говорилось о необходимости иметь в составе корпуса еще троих генерал-майоров. Каждый из них должен был командовать бригадой, состоявшей из нескольких полков 9. Таким образом, произошло усложнение системы военного управления корпуса с добавлением передаточного звена между командующим и полковыми командирами. Во-вторых, в ноябре того же года Екатерина утвердила доклад Военной коллегии о формировании пяти пехотных и двух конных карабинерных полков, предназначавшихся для укрепления обороноспособности Забайкалья. Кадрами для их комплектования должны были послужить беглые старообрядцы, возвращенные в Россию после недавнего завершения Семилетней войны (1762 г.) с территории Речи Посполитой – так называемые «польские выведенцы» 10.
Этот сюжет был подробно исследован в одной из последних наших публикаций [Дмитриев, Зуев, 2013]. Здесь скажем лишь, что в результате дело ограничилось преобразованием Якутского ландмилицейского полка в карабинерный и формированием Селенгинского и Томского пехотных полков, из которых только первый был отправлен в Забайкалье в 1766 г. Наконец, в 1764 г. принимается решение о переформировании трех гарнизонных пехотных полков и Ново-учрежденного батальона в отдельные гарнизонные батальоны – всего последних здесь появилось шесть 11 [Зуев, Дмитриев, 2012. С. 23]. Затем к ним был добавлен еще один батальон, предназначенный для охраны горных заводов и получивший название Ко-лывано-Воскресенского 12 [Пережогин, 2005. С. 92]. Эта мера была связана с принятием в декабре 1763 г. новых штатов как для полевых, так и для гарнизонных войск [Бескровный, 1958. С. 326; Быконя, 2007. С. 164]. Кроме того, 19 октября 1764 г. Екатериной был «конфирмован» (подписан и одобрен) доклад Сената, в котором предлагалось направить в Западную Сибирь Азовский и Ревельский драгунские полки, ранее дислоцированные в Казанской губернии [Андрейчук, 2011. С. 40].
Рассмотрим теперь сложившуюся новую структуру корпуса более подробно. В указанном выше докладе Сената места дислокации, предназначенные для каждого из 11 полков, определялись следующим образом: Азовский полк должен был следовать в Петропавловскую крепость, Ревельский – в Омск. В крепостях по Иртышу располагались Сибирский полк (Железенская крепость), Троицкий (Ямышевская) и Вологодский (Усть-Каменогорская), к последнему должен был добавиться в будущем Томский пехотный полк. На Колывано-Кузнецкую линию назначались Луцкий (в Бийскую крепость) и Олонецкий (в Кузнецк) полки. В Иркутск с упомянутой линии переводился Колыванский (бывший Новоучрежденный) полк, в Селенгинске к уже расквартированному там Якутскому карабинерному полку должен был присоединиться в дальнейшем Селенгинский пехотный полк 13. Передвижение Азовского и Ревельского полков началось уже зимой 1764/65 г., после того как их личный состав был «удовольствован» денежным жалованием и всеми необходимыми для похода вещами от комиссии обер-кригс-комиссара Неплюева в Казани. Соответствующее распоряжение было отдано генерал-кригс-комиссаром и генерал-проку- рором империи А. И. Глебовым 9 ноября
1764 г.
Передислокацию требовалось осуществить в максимально короткие сроки, для чего командирам обоих полков предписывалось, «собрав всех полковых служителей из отлучек, по первому зимнему пути со всеми полковыми тягостьми следовать в Сибирь, а кои из отлучек к тому времяни собраны не будут, о тех, не останавливаясь походом, прислать обстоятелную имянную ведомость… А состоящему в Оренбургском корпусе командиру, тех отлучных собирая, отправлять к тем полкам партиями с обер и ундер-афицерами и вступить в непременныя квартиры» 15. Уже в мае 1765 г. генерал-поручик Шпрингер рапортовал в Военную коллегию, что «Азовской 31 марта, а Ревельской 15 апреля, на Новую линию час-тию прибыв, начали по крепостям и редутам располагаться, а в последних апреля месеца числах и совершенно уже Азовской в крепости Святаго Петра, а Ревельской в Омской расположились» 16. Это позволило командующему отдать приказ к выступлению остальным шести драгунским полкам, направлявшимся в назначенные им места дислокации. Уже к осени 1765 г. все полки прибыли в соответствующие пункты, за исключением Колыванского драгунского полка, с которым вышла заминка.
Дело в том, что, отправившись из Кузнецка 11 июня 1765 г., полк в сентябре того же года добрался лишь до Красноярска. Объяснялось это, прежде всего, плохим состоянием конского поголовья. Как доносил Шпрингер в Военную коллегию, «по бытности оного в расположении по Кузнецкой и Колыванской линиям по частому употреблению по пограничности в партии в еже-дневныя разъезды от воски казенного пра-вианта и прочаго государевы лошади были в худобе, в каком состоянии и на марш выступили и, быв в марше, по немалому разстоянию по худобе дороги и прочаго беспокойствие имели» 17. В связи с этим командующий принял решение оставить полк на зиму в Красноярске. Более того, Шпрингер предложил оставить его там и далее, указывая, что расположение полка в Иркутске не дает возможности использовать его для укрепления обороны границы в Забайкалье, а кроме того, полк «не может раскомандировками в разные городы и дистрикты… быть свободным, и от отлучек и общаго несоединения придет в неисправность» 18.
Красноярск же, по мнению командующего, имел более выгодное расположение: «Хотя также почитается внутренним, однако посредине к тамошним линиям и на самом болшем тракте, а паче от стороны китайских смежностей прилежит самым пограничным, и от последующих набегов и нещастей может свободно близостию защищать и немалое подкрепление делать, нежель к Селенгинску» 19. Шпрингера поддержал иркутский губернатор генерал-майор Фрауендорф, опасавшийся, что для полка не удастся заготовить достаточный объем провианта, поскольку немалый объем собираемого урожая ежегодно шел на «партикулярные» (т. е. частные) заводы генерал-кригс-комиссара Глебова для винокурения. Однако Военная коллегия, твердо придерживаясь первоначального решения, отклонила их соображения и настояла на дальнейшем переводе Колыванского драгунского полка в 1766 г. именно в Иркутск 20.
В итоге описанное нами выше распределение всех армейских полков по территории Сибири сохранилось в неизменном виде до 1769 г. [Масловский, 1894. Прилож. 2. С. 20; Огурцов, 2010. С. 77]. Вскоре после начала русско-турецкой войны 1768–1774 гг. из Сибири были выведены два недавно сформированных пехотных полка (Селенгинский и Томский), так что здесь остались лишь девять кавалерийских полков (карабинерный и восемь драгунских) и семь гарнизонных пехотных батальонов [Зуев, Дмитриев, 2012. С. 23]. Таким образом, в Сибири не было до конца проведено в жизнь решение екатерининской Воинской комиссии о том, чтобы «совсем исключить драгун из состава полевой конницы, оставив этот тип для внутренней службы… заменить драгун в полевых войсках новым типом – карабинерами… ни под каким видом не употреблять карабинер для внутренней службы» [Масловский, 1894. С. 63, 64]. Только в 1771 г. указом императрицы все сибирские конные полки будут переформированы в легкие полевые команды (когорты) и линейные батальоны [Андрейчук, 2011. С. 41; Зуев, Дмитриев, 2012. С. 23].
Другим важным нововведением, как уже упоминалось выше, стало организационное деление корпуса на бригады, состоявшие из нескольких полков каждая и находившиеся под командованием одного из представителей армейского генералитета. Согласно предложениям Сената, одобренным Екатериной в октябре 1764 г., в подчинении у ге-нерал-поручика Шпрингера, имевшего постоянную квартиру в Омске, должны были находиться четверо генерал-майоров, несущих службу в Петропавловской, Усть-Каменогорской и Бийской крепостях, а также в Селенгинске. Последнее место предназначалось для произведенного недавно в генерал-майоры бригадира В. В. Якоби, бывшего командира Якутского пехотного полка и селенгинского коменданта, который теперь становился командиром всех воинских частей, дислоцированных в Забайкалье 21. Трое остальных отправились на сибирскую службу из европейской части страны.
В мае 1765 г. Шпрингер доносил Военной коллегии о том, что над Азовским и Ревельским полками принял командование генерал-майор П. Девиц, находившийся в Петропавловской крепости, Троицкий, Вологодский и Сибирский полки были вверены генерал-майору А. М. Хераскову, прибывшему в Усть-Каменогорскую крепость, Луцким и Олонецким полками распоряжался состоявший в Бийской крепости генерал-майор И. А. Деколонг 22. Таким образом, генерал Девиц (выходец из прибалтийских немцев, начал службу в 1736 г.) отвечал за состояние дел на Новой линии, генерал Херасков (старший брат известного русского поэта М. М. Хераскова, впоследствии участник русско-турецкой войны 1768–1774 гг.) контролировал Иртышскую линию, находясь в самой южной из ее крепостей, а генерал Деколонг (по происхождению француз, с 1733 г. служил в Инженерном корпусе, участник Семилетней войны 1756–1762 гг.) надзирал за Колыванской и Кузнецкой линиями [Русская армия…, 1898. С. 17, 18, 27;
Огурцов, 2010. С. 76]. Тем самым внутренняя структура Сибирского корпуса была приведена в соответствие с принятой в русской армии после 1763 г. дивизионно-корпусной организацией, ознаменовавшей собой переход к постоянным высшим тактическим соединениям [Столетие…, 1902. С. 61, 62; Бескровный, 1958. С. 327, 328].
Наконец, к середине 1760-х гг. относится еще одно из организационных новшеств, проведенных в жизнь генералом Шпрингером. В феврале 1765 г. он вошел в Военную коллегию с предложением: замещать должности комендантов сибирских крепостей специально назначаемыми туда лицами, а не командирами тех или иных армейских полков, как это происходило до сих пор. Так, в 1740-х гг. полковник Т. Зорин, командир Новоучрежденного драгунского полка, был одновременно комендантом Ямышевской крепости, а в 1750-е гг. сменивший его в должности полкового командира полковник Ф. де Гаррига являлся комендантом Бийской крепости. До 1765 г. комендантом Ямышевской крепости состоял полковник А. Скалон, командир дислоцированного на Иртышской линии Луцкого полка. Шпрингер находил такое положение вещей неудобным по двум причинам.
Во-первых, еще со времен похода вниз по Иртышу полковника И. Д. Бухгольца (в царствование Петра I) именно канцелярия коменданта Ямышевской крепости считалась первой инстанцией для решения всех дел, связанных с обороной границы, и подчинялась непосредственно Сибирской губернской канцелярии. Однако с переводом в Сибирь частей полевой армии в 1745 г. крепостные коменданты оказались также в подчинении у тех лиц, которые командовали воинскими контингентами Сибирского корпуса, начиная с генерал-майора Х. Кин-дермана. Это двойное подчинение приводило к дублированию принимаемых решений и промедлению в их исполнении. Во-вторых, имела место непрерывная текучесть кадров и, как следствие, возникали затруднения в делах. Как замечал сам Шпрингер, «по случаю состоящих здесь на линиях полков из места в место переходу определяются в те крепости по выходе одних другие вновь командиры, кои и никогда на линиях не бывали, и не зная совершеннаго в новых кре- постях распорядка, прежде принуждены еще за несколько лет разбирать и расматривать письменные всякие дела, а уже по оным с немалою трудностию в командование и внутреннее управление привыкать, чрез что некоторые при первом случае оплошности и разные медлительности чинят» 23.
В связи с этим командующий предложил учредить «главную всех линейных дел канцелярию» в Омской крепости, где располагался он сам вместе со своим штабом, а во всех остальных крепостях Иртышской линии, равно как и в Петропавловской, Пресногорьковской и Бийской, организовать отдельные канцелярии во главе с комендантами, непосредственно подчиняющимися Омску. В сферу их ответственности переходили «принадлежащия к тем крепостям редуты, фарпосты и станции, а в крепостях в точном смотрении и надзирании артиллерия с ее снаряды, разная на всякие употреблении денежная казна, крепостныя казаки, школьники, правиантские и заполошные магазеины, разные казенные суда, дощаники и плашкоуты с снастьми, материалы, и все касающееся до крепости» 24. Комендант отвечал за обороноспособность вверенной ему крепости, ему подчинялись все военнослужащие, как регулярных подразделений, так и нерегулярных войск, составлявших ее гарнизон. При переводе в ту или иную крепость какой-либо воинской части комендант должен был временно подчиняться ее командиру, если последний оказывался старше его чином, но сохранял все свои полномочия, будучи обязан только уведомлять полкового командира обо всех делах.
Обосновывая свое предложение, Шпрингер писал: «Определенные в крепости коменданты… станут собственное свое х крепости старание, как хозяин о своем домосодержании прилагать… Будучи со своих мест неподвижны, в правлении пограничных дел по привычке никакого упущения и ничему казенному потеряния не зделают… За имеющимися в крепостях всякого звания людьми в исправлении ими своего домостроительства и в заведении всего потребнаго хорошее смотрение иметь будут и ни до каких шалостей не допускать, а на- против того и жители крепостные, видя своего настоящаго и непоколебимаго командира, будучи всегда в страхе, ни в какия непристойности впадать отваживаться не станут» 25. К занятию комендантских должностей генерал предлагал определять армейских офицеров: в главную канцелярию Омской крепости в чине подполковника, в остальные крепости – майоров. Не забыл он и о средствах, необходимых на содержание комендантов, штата их канцелярий и покупку расходных материалов: «На покупку бумаги, сургуча, чернил, свеч и протчаго потребно осигновать денег в Омскую сто, а в протчия крепости по сороку рублев» 26.
Доношение Шпрингера было получено в Военной коллегии 11 апреля 1765 г., а после рассмотрения его в Воинской комиссии 28 мая того же года члены последней представили всеподданнейший доклад императрице, испрашивая ее соизволения на реализацию предложений командующего Сибирского корпуса. Через полторы недели (7 июня) Екатериной была наложена резолюция: «Быть по сему» 27. А спустя два с небольшим месяца состоялся сенатский указ о назначении омским комендантом ранее находившегося на пенсии после выхода в отставку полковника Н. Декоменжа, француза по происхождению 28. Одновременно аналогичные меры были предприняты в Восточной Сибири: так, обер-комендантом Иркутска стал А. Белевиц, ранее бывший премьер-майором в Якутском гарнизонном пехотном полку, а комендантом Селенгин-ска генерал Шпрингер назначил драгунского капитана И. Апелгрина 29. Интересно отметить, что эти люди также были иностранцами – первый принадлежал к австрийскому дворянству, а второй был выходцем из Скандинавии. Таким образом, с 1765 г. в структуре Сибирского корпуса управление линейными крепостями и их гарнизонами было окончательно отделено от управления полевыми войсками. Вместе с тем это означало фактически отстранение местной администрации во главе с губернаторами от участия в военных делах, которые целиком переходили в сферу компетенции корпусного командира [Столетие…, 1902. С. 62].
Итак, мы выяснили, что проводившиеся на протяжении первой половины 1760-х гг. в масштабе всей страны военные реформы распространялись также на организационную структуру и кадровый состав регулярных армейских контингентов, дислоцированных на территории Сибири. Создание системы военного управления в рамках Сибирского корпуса, переформирование гарнизонных полков в батальоны, отделение института комендантов крепостей от полковых командиров – все эти меры вполне соответствовали курсу императрицы Екатерины II на дальнейшую реорганизацию вооруженных сил Российской империи. Вместе с тем специфика военно-политической ситуации в восточных регионах страны продолжала диктовать свои условия в сфере военного строительства. Об этом свидетельствует, в частности, сохранение драгунских полков в составе корпуса в конце 1750-х и после 1763–1764 гг. Задачи обеспечения обороноспособности российских границ на юге Западной Сибири и в Забайкалье заставляли как верховную власть, так и командование корпуса в ряде случаев отступать от тех принципов, которые проводились в жизнь на территории европейской части страны. Тем не менее мы можем утверждать, что именно в 1760-х гг. внутренняя организация и структура управления Сибирского корпуса обрели в достаточной мере упорядоченный характер, что позволило добиться более или менее равномерного распределения дислоцированных к востоку от Урала воинских частей на всем протяжении российской границы.
ORGANIZATIONAL CHANGES WITHIN RUSSIAN REGULAR ARMY TROOPS IN SIBERIA (END OF 1750S AND 1760S)
Список литературы Организационные изменения в составе контингентов русской регулярной армии в Сибири (конец 1750-х – 1760-е годы)
- Андрейчук С. В. Становление Сибирского корпуса: структура, численный состав и принципы дислокации (1745-1771 гг.) // Военно-исторический журнал. 2011. № 3. С. 38-42.
- Бескровный Л. Г. Русская армия и флот в XVIII веке (Очерки). М., 1958. 645 с.
- Быконя Г. Ф. Русское неподатное население Восточной Сибири в XVIII - начале XIX в. Формирование военнобюрократического дворянства. Красноярск, 1985. 297 с.
- Быконя Г. Ф. Казачество и другое служебное население Восточной Сибири в XVIII - начале XIX века (демографосословный аспект). Красноярск, 2007. 415 с.
- Васильев А. П. Забайкальские казаки. Исторический очерк. Чита, 1916. Т. 2. 267 с.
- Дмитриев А. В. К вопросу о передислокации армейских регулярных частей в Забайкалье во второй половине 1750-х гг. // Исторический ежегодник: Сб. науч. тр. / Ин-т истории СО РАН. Новосибирск, 2012. С. 244-254.
- Дмитриев А. В., Зуев А. С. Формирование подразделений регулярной армии в Сибири середины 1760-х гг.: планы и достигнутые результаты // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2013. Т. 12, вып. 1: История. С. 31-38.
- Зуев А. С., Дмитриев А. В. Армейские регулярные части в Сибири в XVIII - начале XIX в.: численность, состав, дислокация // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 1: История. С. 17-29.
- Исупов С. Ю. Бийск: острог, крепость, город. Бийск, 1999. 149 с.
- Исупов С. Ю. Динамика изменения численности регулярных воинских контингентов Западной Сибири к началу второй половины XVIII в. // Социокультурное взаимодействие алтайского и русского народов в истории Государства Российского: Тр. Всерос. науч.-практ. конф. Бийск, 2006. С. 163-167.
- Масловский Д. Ф. Записки по истории военного искусства в России. СПб., 1894. Вып. 2: Царствование Екатерины Великой 1762-1794 г. 507 с.
- Огурцов А. Ю. «Отец милостливый…» (генерал-поручик Иван Иванович фон Шпрингер - командир сибирских войск) // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2010. Вып. 1. С. 69-92.
- Пережогин А. А. Военизированная система управления Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа (1747-1871 гг.). Барнаул, 2005. 262 с.
- Путинцев Н. Г. Хронологический перечень событий из истории Сибирского казачьего войска со времени водворения западносибирских казаков на занимаемой ими ныне территории. Омск, 1891. 256 с.
- Русская армия в начале царствования императрицы Екатерины II. М., 1898. 114 с.
- Столетие военного министерства. СПб., 1902. Т. 1: Исторический очерк развития военного управления в России. 679 с.