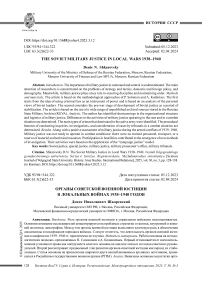Органы советской военной юстиции в локальных войнах 1938–1940 годов
Автор: Шкаревский Д.Н.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: История СССР
Статья в выпуске: 3 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Роль органов военной юстиции в управлении войсками недооценивается. Основное внимание исследователей концентрируется на проблемах стратегии и тактики, внутренней и внешней политики, демографии. Между тем органы военной юстиции выполняют ключевую роль в обеспечении дисциплины и поддержания порядка в войсках. Следует отметить, что деятельность органов военной юстиции в конфликтах 1939–1940 гг. практически не изучена. Методы и материалы. Работа основана на методологических подходах, предложенных П. Соломоном и А. Кодинцевым. Первый отталкивается от идеи использования уголовного права как инструмента власти и основан на анализе личных взглядов советских руководителей. Второй рассматривает предвоенный этап развития органов советской юстиции как период их стабилизации. Статья основана на привлечении широкого круга неопубликованных архивных источников, хранящихся в Российском государственном военном архиве (РГВА). Анализ. Выявлены основные недостатки организационного построения и материально-технического обеспечения органов военной юстиции. Определены отличия в деятельности органов военной юстиции в тылу и в боевой обстановке. Выявлены основные виды преступлений, доминировавшие в действующей армии. Определены процессуальные особенности проведения дознания, следствия и рассмотрения дел трибуналами в боевой обстановке. Результаты. Наряду с положительной оценкой органов военной юстиции в ходе вооруженных конфликтов 1939–1940 гг. в их работе был выявлен ряд недостатков. Они оказались не готовы к деятельности в боевых условиях: отсутствовали подготовленные кадры, транспорт, резерв материально-технических средств (например, канцелярских товаров). Участие в боевых действиях способствовало появлению новых методов ведения следствия. Их деятельность была основана на применении модели «кампанейского правосудия». В результате предъявления повышенных требований к формальным индикаторам (сроки, доля прекращенных дел) в деятельности органов военной юстиции наблюдаются различные нарушения процессуальных норм.
Советская юстиция, специальная юстиция, военная юстиция, военная прокуратура, военные трибуналы
Короткий адрес: https://sciup.org/149148815
IDR: 149148815 | УДК: 93/94+344.322 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.3.12
Текст научной статьи Органы советской военной юстиции в локальных войнах 1938–1940 годов
DOI:
Цитирование. Шкаревский Д. Н. Органы советской военной юстиции в локальных войнах 1938–1940 годов // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 3. – С. 128–138. – DOI:
Введение. Вооруженные конфликты 1938–1940 гг. достаточно глубоко изучены отечественными и зарубежными историками. Однако их основное внимание было сосредоточено на вопросах внешней и внутренней политики, тактики и стратегии [2; 13; 23]. Между тем роль органов военной юстиции в этих событиях представляется значимой, так как они способствовали социальной мобилизации. Специальные исследования по этой теме практически отсутствуют. Данные вопросы отдельно не изучались и в носивших характер учебных изданий публикациях советских юристов и историков [7]. Ряд работ современных авторов продолжает советскую традицию [5; 8; 10].
В последнее время появились исследования, в которых предпринята попытка проанализировать проблемы общего надзора военной прокуратуры РККА в 1938–1940 гг. Активно используется биографический метод исследования [1; 19]. Достоинством работы Н. Петухова, Ю. Кунцевича является опубликование архивных документов о деятельности трибунала Северо-Западного фронта [14]. Существует группа юбилейных изданий, в которых эта тема обычно не рассматривается [4]. В целом деятельность этих органов в боях 1938–1940 гг. изучена фрагментарно.
В статье под термином «локальная война» понимается такой конфликт, в котором преследуются ограниченные военно-политические цели, военные действия ведутся в границах противоборствующих государств и которая затрагивает преимущественно интересы этих государств [3].
Методы и материалы. Статья основана на методологических подходах, предложенных П. Соломоном и А. Кодинцевым. Первый находится в русле таких научных направлений, как криминология и история юстиции. Он отталкивается от идеи использования уголовного права как инструмента власти [21]. Второй рассматривает предвоенный этап развития органов советской юстиции как период их стабилизации [11].
Статья основана на привлечении архивных источников, хранящихся в Российском государственном военном архиве (далее –РГВА). Среди них следует отметить делопроизводственные документы военных прокуратур и трибуналов, отчеты и докладные записки о деятельности этих органов. Источниковая база ограничена. Многие документы по теме, хранящиеся в РГВА, пострадали в 1990-е гг. и не выдаются. Доступ к документам, находящимся в архивах Военной коллегии, Главной военной прокуратуры (далее – ГВП), Центрального архива Минобороны ограничен.
В связи с этим деятельность органов военной юстиции представляется возможным проследить на основе трех локальных войн: конфликта у оз. Хасан, так называемого «Польского похода» (освободительного похода РККА) Советско-финляндской войны.
Анализ. Работоспособность органов военной юстиции в боевой обстановке подверглась проверке в ходе вооруженных конфликтов конца 1930-х – начала 1940-х годов. Перед ними были поставлены специфические задачи. Например, в Польском походе на органы военной прокуратуры была возложена «обязанность по осуществлению прокурорского надзора как в РККА, так и в отношении местных органов власти и гражданских лиц» [12, л. 259]. Эта деятельность опиралась на временные акты. Например, действовала «Временная инструкция военным прокурорам, работающим по обслуживанию местного населения» [6, л. 207].
Военные действия выявили две группы изъянов. Во-первых, проблемы в организационном строительстве. В период финской кампании «Военный прокурор ЛВО не знал, подчинены ему ВП армии или нет» [9, л. 194]. Многие военные прокуроры (далее – ВП) указывали на необходимость создания дивизионных прокуратур. Дело в том, что в результате их ликвидации в 1929 г. многие крупные части оставались без прокурорского надзора [9, л. 194]. В ходе боевых действий проявилась краткосрочность пребывания дивизий в подчинении корпусов. Это не давало возможности согласовывать действия ВП с командованием [22, л. 47].
В результате ВП вынуждены были создавать внештатные подразделения. Так, ГВП не разрешила создать отдел ВП в г. Новгороде, который являлся сосредоточением большого количества воинских частей для СевероЗападного фронта (далее – СЗФ). Поэтому ВП СЗФ был вынужден 25.02.1940 сформировать внештатную прокуратуру.
Выявились недостатки мобилизационных планов [17, л. 73]. При подведении итогов деятельности в 1940 г. ГВП отметил: «Сентябрьская частичная мобилизация 1939 г.... [выявила], что приписным составом мы занимались от случая к случаю, за учетом приписного состава не следили, не знали его и не готовили его для войны» [18, л. 272]. Множество проблем возникло с комплектованием технического аппарата. ВП Украинского фронта В. Носов отмечал: «Приписали сплошь и рядом не только неграмотных колхозников, не только калек, но... директоров школ, агрономов и ставили их старшими писарями. <...> У нас были такие случаи, когда на должность секретаря был приписан заместитель областного прокурора» [9, л. 289].
Обнаружилось, что ВП «недостаточно быстро ориентировались в новой обстановке», не знали порядок действий, не занимались вопросами уклонения от воинских обязанностей и материально-технического обеспечения [9, л. 289].
Органам военной юстиции и командованию не всегда удавалось наладить взаимодействие. Отмечалось, что «информация со стороны командования о чрезвычайных происшествиях и отрицательных явлениях... была несвоевременная» [12, л. 83].
Разразились дискуссии о месте нахождения сотрудников военной юстиции. Выяснилось, что один следователь, обслуживая 1–2 дивизии, физически не мог охватить своей работой все части. Доминировало мнение о необходимости нахождения военного следователя «в полку». Высказывалось предложение о том, что «в бою военный следователь должен был быть при штабе части». ВП активно предлагали ввести должности военных следователей при каждой части. Однако руководство это предложение признало «вредным», «так как оно не способствует развитию требуемой мобильности». Обсуждался «вопрос авторитетности военного следователя». Например, военный следователь 11 с.к. «был направлен в полк и там... красноармейцы не давали ему обеда, писари прогоняли с машины и он шел пешком, не находя себе ни места, ни работы» [12, л. 190; 17, л. 35].
Дискутировался вопрос о местонахождении ВП. В. Носов его определил следующим образом: «Некоторые товарищи требуют, дайте нам не то приказ, не то специальный указ... в каком было бы указано место прокурора в первом или втором эшелоне. <...> Существует одно положение – военный прокурор находится там, где этого требует обстановка» [22, л. 58].
Обсуждалась эффективность использования дознавателей в боевых условиях. Одни прокуроры указывали на невозможность их использования во время боевых действий по причинам их занятости и регулярного переформирования частей. Ряд ВП с этим не соглашались [22, л. 58].
Во-вторых, проявились недостатки материально-технического обеспечения. Остро стояла проблема обеспечения автотранспортом. Нередко прокуратуры получали автомобили в нерабочем состоянии. Серьезным препятствием являлся недостаток горючего.
ВП настаивали на обеспечении мотоциклами. Острым был вопрос передвижения военного следователя. Часто он «двигался пешком или пользовался случайными машинами» [17, л. 105].
Органы военной юстиции не были обеспечены в достаточном количестве пишущими машинками, канцтоварами. Существовал недостаток служебных, жилых помещений, мебели, финансов. ВП отмечали отсутствие юридической литературы и законодательных материалов. Доступ к «Методике по работе Военного следователя» был только в канцелярии ВП, так как она была секретным документом. Фотоаппараты имели единицы следователей.
Боевые действия выявили непригодность следственной сумки: «громоздкая и ... является обузой». Были сделаны предложения по ее усовершенствованию [12, л. 96, 98].
Проблемы в деятельности военных трибуналов были аналогичны. Например, выездная сессия ВТ 1 армии, принимавшая участие в событиях у оз. Хасан, отмечала отсутствие помещений [20, л. 110].
Вооруженные конфликты способствовали появлению новых приемов работы в органах военной юстиции. Например, предлагалось применять следующий метод: «Военный следователь выбрасывается вперед на несколько километров по маршруту движения части с необходимыми ему свидетелями по делу и до подхода колонны успевает закончить допросы».
Деятельность органов военной юстиции, принимавших участие в военных конфликтах, имела свою специфику. В тылу органы военной юстиции делали акцент на борьбе с дисциплинарными проступками (самовольные отлучки), хищениями и контрреволюционными преступлениями.
В военных конфликтах перед ними стояли иные задачи. Основную массу составляли уголовные дела о воинских преступлениях. Характер уголовных дел, возникших в период Советско-финляндской войны, был следующим: членовредительство (26,3 %), дезертирство и побег с поля боя (25,8 %), контрреволюционные преступления (17,6 %; антисоветская агитация – 17,2 %), прочие воинские преступления, как неисполнение приказа, нарушение уставных правил, должностные, мародерство (15 %) [9, л. 319].
Прокуроры отмечали, что «в период отмобилизования [и сосредоточения] характерными были дела об уклонении и срывах снабжения, а в период пребывания на театре военных действий возникла новая категория дел: грабежи, мародерство, побеги с поля боя, самоуправные расстрелы. <...> Большинство дел возникало за счет лиц призванных из запаса». Сложных дел, которые бы требовали знания криминалистики, было мало.
Первостепенное значение придавалось борьбе с дезертирством. Его причины заключались в следующем. Во-первых, «тяжелые условия театра военных действий, которые разукрашивались слухами об адском коварстве врага». Во-вторых, «плохой учет личного состава. Командование, даже рот, зачастую даже не имело точных списков своих людей. Уход... не был сопряжен с какими-либо трудностями или с быстро наступающей ответственностью». В-третьих, «наличие в частях сравнительно большого количества старых возрастов», то есть старше 40 лет. Они составляли до 40 % дезертиров.
Были установлены факты, когда дезертиры скрывались «под покровительством своих родных и знакомых». Розыск дезертиров был организован плохо. По Западному особому военному округу на 31.07.1940 в розыске находилось 30 % дезертиров [16, л. 231].
Несмотря на это практика борьбы с дезертирством была успешной. Так, ВП СЗФ В. Носов отмечал: «Из действующих частей дезертировало: декабрь [1939 г.] – 121, январь [1940 г.] – 80, февраль – 39, 15 дней марта – 16, всего – 256. <...> ...Они более или менее правильно отражают общую тенденцию». Добиться этого удалось суровыми мерами. В. Носов приказал в феврале 1940 г. провести «очищение тылов от «отстающих» и болтающийся элементов и их фильтрацию» в соответствии с приказом НКО и НКВД от 24.01.1940 № 003/0093. Также в частях были проведены по «1–2 показательных судебных процесса» [9, л. 325].
Несмотря на это, при подведении итогов в июне 1940 г. ГВП отмечал «либерализм» по данным делам: «Любые объяснения обвиняемых в большинстве случаев принимались на веру без критической оценки». В качестве примера можно привести объяснение дезертира Д.: «Сел в трамвай, закружилась голова, что было дальше в течение 12 суток – не по-мню»[18, л. 279].
После завершения кампаний имело место массовое прекращение дел о дезертирах. Например, в марте 1940 г. после окончания Советско-финляндской кампании ВП стали прекращать дела на дезертиров с формулировкой: «В силу изменившейся обстановки военных действий и нецелесообразности привлечения к ответственности».
Динамика членовредительства зависела от состояния обстановки на фронте. Так, по СЗФ в декабре 1939 – феврале 1940 г. насчитывалось «значительно меньшее количество этих явлений, а в феврале и марте – наоборот. Это объясняется, с одной стороны, возраставшими трудностями (сильные бои), с другой, что в части поступило не обстрелянное и не подготовленное пополнение». ГВП в июне 1940 г. также указывал на проявления «либерализма» по этим делам [18, л. 280].
Большое значение придавалось борьбе с мародерством и «барахольством». Командующий Украинским фронтом С. Тимошенко даже вынужден был издать приказ о противодействии этим явлениям. Другой приказ запрещал военнослужащим «заполнять» магазины и «закупать “предметы совершенно не нужные в условиях фронтовой обстановки: будильники, скатерти, дамские туфли и др.”». С точки зрения руководства, это «подрывало престиж РККА и Советской власти» [9, л. 285–286].
ВП группы войск Волочинского направления И. Нечипоренко так описывал ситуацию: «От подразделения до штабов корпусов войска группы подобрали все трофейное имущество и транспорт польских войск и загрузили последним весь свой обоз» [9, л. 285–286].
Подобная ситуация создавала «неурядицы» и «безобразия в тылах». И. Нечипо-ренко отмечал: «С 17.9 по 24.9.1939 г. корпусной артполк РГК совсем отстал на большое расстояние от войск корпуса, и если бы войскам группы пришлось бы встретиться с противником и вести настоящие боевые действия, то войска группы первые 7 дней были бы без тяжелой корпусной артиллерии» [9, л. 285–286].
Опасаясь повторения подобных эксцессов во время финской кампании, ВП ЛВО В. Шмулевич требовал: «Случаи “барахоль-ства” нетерпимы в рядах Красной Армии, но применять судебные меры за это следует с особой осторожностью» [9, л. 285–286].
Имели место и самосуды («самочинные расстрелы»). В связи с этим Нарком обороны даже издал приказ № 0059 от 10.11.1939 о наложении дисциплинарных взысканий на командование 6-й армии за «вынесение поспешных, необдуманных постановлений». Затем С. Тимошенко потребовал «разъяснить всему составу недопустимость и вред не основательных задержаний граждан» [9, л. 285–286].
В развитие приказа № 0059 ГВП были направлены письма подчиненным прокурорам. Так, ВП ЛВО было приказано «в местностях, занятых войсками РККА не допускать самочинных расстрелов», «судебными мерами не разбрасываться» [22, л. 55]. Необходимо отметить, что действия такого рода совершались в отношении как военнослужащих, так и гражданских лиц. Органы военной прокуратуры даже составляли справки о самочинных расстрелах.
Со стороны рядового состава имели место случаи угроз в адрес комначсостава. Так, 30.01.1940 «К. свою угрозу привел в исполнение, смертельно ранив комсорга т. И. К. приговорен к расстрелу, приговор приведен в исполнение» [22, л. 55]. В связи с этим случаем В. Носов потребовал «решительно усилить» борьбу с угрозами.
Одним из направлений деятельности органов военной юстиции в 1939–1940 гг. являлся контроль тылов. ВП ЛВО В. Шмулевич и ВП СЗФ В. Носов неоднократно приказывали «обратить особое внимание тылам», отмечая что «в работе тылов ряда частей имеет место хаос и безответственность» [22, л. 55].
Среди основных причин слабой работы по обслуживанию тылов обычно назывались: недостаточная конкретизация объектов тылов, слабое знание работы тылов работниками военной прокуратуры, отсутствие личной инициативы у ВП, частое изменение подчиненности дивизий.
Контрреволюционные преступления в основном были связаны с антисоветской агитацией. Например, командование 21-й танковой бригады «вынуждено было возить с собой явного симулянта М., отказавшегося при переходе границы от службы в РККА от оружия и от выполнения присяги под предлогом религиозных убеждений, симулянта, который продолжая свое преступное поведение уже на территории Западной Белоруссии, распространял контрреволюционную клевету среди детей... М. был арестован, предан суду ВТ и приговорен к расстрелу. После ареста М., комиссар бригады заявил следователю “вот спасибо, у вас как-то все просто и быстро, а мы его столько времени возили и не знали куда деть”» [22, л. 55].
Дела в отношении гражданского населения составляли небольшое количество. Так, органами военной юстиции БОВО лишь 6,3 % дел были возбуждены в отношении гражданского населения (убийства, кражи и т. п.).
В ходе конфликтов появились новые составы уголовных преступлений. Так, 12.12.1939 В. Шмулевич приказал лиц, виновных в нарушении правил противовоздушной обороны, привлекать к уголовной ответственности по ст. 59-6 УК, а в случае, если будет установлен контрреволюционный умысел, – по ст. 59-8 УК.
Отмечу, что увеличение преступлений, обычно связывалось с ростом числа военнослужащих.
В боевых условиях отмечается ликвидация общего надзора. ВП объясняли это организационными и материально-техническими сложностями: «Эти обстоятельства лишили возможности заниматься общим надзором, правовой пропагандой, профилактической работой в частях, контролировать и руководить своими подчиненными, так как я вынужден был сам вести следствие» [9, л. 331].
В ходе военных действий были ужесточены требования к процессуальным срокам. В. Шмулевич в начале финской кампании установил правило: расследования о чрезвычайных происшествиях «заканчивать в суточный срок», а переданные в Военные Трибуналы уголовные дела рассматривать не позже суток с момента вручения обвинительного заключения.
Позднее он требовал: сроки «должны исчисляться ЧАСАМИ, и как редкий случай – ОДНИМИ СУТКАМИ». Подобные указания объяснялись «обстановкой»: «Затяжка следствия на лишних 2–3 дня ставила перед фактом невозможности полного расследования, так как быстро терялись следы преступления, свидетели выбывали» [16, л. 283].
Такие требования оценивались ВП как «не реальные». ВП СЗФ В. Носов отмечал, что даже «многие “мелкие” дела о членовредителях требуют не одних суток» [16, л. 283].
Тем не менее деятельность фронтовых ВП в официальных отчетах описывалась как приближенная к выполнению заявленных высоких требований. Например, в июне 1940 г. ГВП отмечал: «Работа военных следователей и прокуроров на различных театрах военных действий показала, что в самых сложных условиях оперативные работники добивались неплохого качества расследования, в сроки исчислявшиеся часами. Этого добивались люди, жившие при 40-градусных морозах, при отсутствии элементарных удобств» [16, л. 283].
Средние сроки следствия в ВП СЗФ составляли 2,6–5,6 дня. Средний срок от момента совершения преступления до вынесения приговора составлял 9,6–16 дней. В целом сроки следствия в боевой обстановке были более короткими, чем в тылу. В. Носов признавал: «Точно такие же дела, которые до боевой обстановки “проворачивались” в течение 18–20 суток, а иногда даже и 30 суток, в условиях боевой обстановки заканчивались в течение 1–2 дней и даже в несколько часов» [9, л. 335].
В то же время он указывал, что «огульная установка на 24 часа по всем делам дезориентирует работников и часто влечет за собой скоропалительность и поверхностность в расследовании» [9, л. 335]. Причем он заметил закономерность: чем короче сроки следствия, тем большее количество дел возвращалось трибуналами на доследование.
Высокие требования привели к серьезным последствиям. Во-первых, в сленге работников появился термин «спихнутое дело». ВП, не успевавший окончить дело в 24-часовой срок, просто направлял первичные материалы дела в ту прокуратуру, в которой должен был рано или поздно оказаться подозреваемый. В случае с ВП СЗФ это была ВП Ленгарнизона. Во-вторых, прокуроры активно использовали тактику умолчания о резуль- татах следствия, то есть просто не сообщали о них.
В период боевых действий ВП были вынуждены «исходя из конкретной обстановки... в интересах дела представить право военным следователям решать вопрос принимать или не принимать дело к производству». Поэтому «следователи самостоятельно заводили дела даже в отношении комначсостава», что оценивалось вышестоящими органами как «результат плохого инструктажа и руководства» [9, л. 335].
Широкое распространение получает практика так называемых «расследований» по фактам, не имевшим состава преступления. В. Носов отмечал: «Таких “расследований” некоторые военные следователи в месяц проводили по 50–60–70. <...> ...погрязая в мелочах, не имели возможности видеть более серьезные явления». Например, «начальник ОО № с.д. сообщает для принятия надлежащих мер прокурору дивизии, что в № полку красноармеец Н. отказался идти баню, заявив, что мытого могут убить также, как и не мытого. Вместо того, чтобы это сообщение передать комиссару части, прокурор поручает следователю расследовать. Начинаются допросы и проч. Выясняется, что красноармеец был с повышенной температурой и не мог мыться» [9, л. 335].
Получает распространение так называемая «доследственная проверка». ГВП назвал такой метод работы «очковтирательством». Дело в том, что «Инструкция по методике работы военного следователя» допускала производство доследственной проверки лишь в одном случае, когда поступившие к прокурору материалы о должностных или хозяйственных преступлениях являлись, по мнению прокурора, «неполноценными». В этом случае ВП был вправе дополнить этот материал, используя методы прокурорского общего надзора, «то есть путем возвращения материалов командованию для дополнения». Между тем военные следователи «сплошь и рядом получив материалы по делу, не принимая к своему производству, месяцами проводят по ним следствие в полном смысле этого слова, называя это “доследственной проверкой”» [18, л. 284].
По СЗФ доля прекращенных дел составляла 30,3 %. В июне 1940 г. Главный военный прокурор подтвердил эти показатели и заявил: «Это значит, что тысячи командиров и бойцов безосновательно отвлекались от своих прямых обязанностей» [18, л. 283].
Поэтому В. Носов 5.2. 1940 г. приказал «ликвидировать практику “стихийного” возникновения дел. Всякое следственное производство должно возбуждаться мотивированным постановлением прокурора» [18, л. 283].
Качество следствия в боевой обстановке оценивалось как низкое. Это объяснялось слабой подготовкой военных следователей. Они не умели проводить осмотр мест происшествия: «В протоколах осмотра подчас отсутствовали самые необходимые данные, а восполнить их было невозможно, в связи с тем, что происходила перегруппировка частей» [18, л. 283]. Также «серьезным пробелом» являлась недостаточная общевойсковая подготовка военного следователя, отсутствие знаний боевого устава пехоты и полевого устава. Препятствием стало отсутствие переводчиков. Эти недостатки касались как «запасных», так и «кадровых» военных следователей.
Распространенным являлось нарушение процессуальных норм. ГВП в июне 1940 г. заявил: «Нарушения норм УПК... приняли угрожающие размеры. Доходит до того, что в качестве понятых привлекаются люди неподготовленные; суду предаются люди без предъявления им постановления о привлечении в качестве обвиняемых; допрашиваемые свидетели не предупреждаются об ответственности за дачу ложных показаний. Систематически нарушается ст. 206 УПК, так как после окончания следствия, следователи производят новые следственные действия, с которыми не знакомят обвиняемых. Широко развиты самодопросы. Какая цена предварительному следствию по делу, когда из 17 допрошенных свидетелей, 13 – писали свои показания сами на дому... Следственные документы пишутся безобразно» [18, л. 283].
В этот период на практике изменился порядок привлечения к суду лиц комначсос-тава: «Старый порядок в получении санкции (получение материалов ВП фронта, согласование вопроса с Военным Советом, а затем посылка данных в ГВП) себя не оправдал. Поэтому... мы ввели другую практику, а именно: вопрос о данном командире докладывается
Военному Совету, который выносил решение и от своего имени телеграммой запрашивал санкцию Наркома обороны. Копия телеграммы направлялась Главному военному прокурору. Этот порядок значительно улучшил положение» [9, л. 339].
Еще одна особенность заключалась в практически полном отсутствии прокурорского надзора за следствием в особых отделах. ВП СЗФ В. Носов отмечал: «Прокуроры от надзора самоустранялись, и надзор осуществляли после поступления дела для направления в Трибунал. Это самоустранение привело к явно нежелательным последствиям. Прежде всего, были многочисленные факты параллельного расследования». На практике Особые отделы вторгались в компетенцию органов военной прокуратуры и занимались следствием по общеуголовным делам. При этом в их производстве отсутствовали дела о государственных преступлениях. Сроки и качество следствия в Особых отделах руководством органов ВП оценивались негативно [9, л. 339; 19, л. 47].
Как правило, военные трибуналы рассматривали дела в предварительном заседании с участием прокурора, заместителя или помощников ВП. Допуск защиты к этим делам был ограничен. Например, на территории Западной Белоруссии военные трибуналы рассматривали дела в судебном заседании без участия обвинения «по мотивам отсутствия организованной на территории Западной Белоруссии защиты».
Судебные заседания, как правило, были открытыми и проводились в тылу. Средний срок прохождения дел в ВТ в условиях боевых действий у оз. Хасан составлял 12–23 ч., а в условиях перемирия – 4 суток.
Соотношение дел, рассматриваемых трибуналом, действовавшим в боях у оз. Хасан, было следующим: побег с поля боя (35 %), нарушение караульной службы (27 %), халатность и злоупотребления (14 %), контрреволюционная агитация (9 %), самовольное оставление части (7 %), неисполнение приказаний (5 %) [20, л. 110].
Выносимые трибуналами меры наказания были достаточно жесткими. Например, ВТ 1-й армии в 1938 г. приговорили к ВМН 58 % осужденных. 23 % были осуждены к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет. Трибуналы СЗФ в декабре 1939 – марте 1940 г. приговорили 31,6 % осужденных к расстрелу. Наиболее жесткие меры наказания выносились по контрреволюционным делам, за побеги и членовредительство.
Среди примеров суровых наказаний за малозначительные проступки можно привести следующие. Так, «кр-ц 205 с.п. П. за похищение у гражданки Г. теплой мужской рубахи ВТ 15 с.к. осужден к 3 годам ИТЛ» [15, л. 539]. «Кр-ц противотанкового дивизиона 97 с.д. К. за то, что при снятии с трактора пулемета по неосторожности произвел выстрел вблизи командного пункта, не причинивший никому вреда, осужден ВТ 17 с.к. на 3 года ИТЛ» [15, л. 539].
Порядок утверждения и пересмотра приговоров военных трибуналов оценивался как «крайне неподходящий»: «Какой-нибудь абсурдный приговор изымает бойца из строя, а исправление этого приговора из ВК ждать через 1–1,5 месяца. С другой стороны, исполнение приговора о расстрелах при существующем порядке затягивается на совершенно недопустимое время» [15, л. 539].
Доля пересмотренных приговоров была высока. В результате в сленге сотрудников военной юстиции стал использоваться термин «ломка приговоров». По оценке В. Носова срок пересмотра приговоров занимал от 2 до 10 дней. При этом применялось примечание 2 к ст. 28 УК. В результате «на СЗФ было распространено мнение, что к расстрелу приговаривают только так, для острастки, а все равно не расстреливают» [15, л. 539].
Активное применение примечания 2 к ст. 28 УК привело к появлению в частях «возвращающихся» осужденных, которые должны были «находиться под не ослабленным наблюдением командования». Однако, по утверждению прокуроров, «этому вопросу не уделяется должное внимание и за осужденными... фактически никто не наблюдает» [15, л. 539]. В ходе «Хасанских боев» ситуация с пересмотром дел в порядке надзора Военной коллегией была весьма схожей.
Опыт деятельности органов военной юстиции в военных конфликтах был обобщен в «Наставлении по работе органов военной прокуратуры Красной армии в военное время», принятом в июне 1940 году. Кроме общих указаний, документ содержал методику расследования ряда дел [15, л. 539].
Выводы. В целом деятельность органов военной юстиции в военных конфликтах конца 1930-х – начала 1940-х гг. руководством была оценена положительно [18, л. 272]. Более 80 оперативных и технических работников военной юстиции были удостоены правительственных наград.
Но конфликты 1938–1940 гг. выявили неготовность органов военной юстиции к деятельности в условиях боевых действий. Отсутствовали реальные мобилизационные планы, не существовало подготовленного резерва кадров. Остро не хватало квалифицированных кадров. Многие сотрудники даже не могли определиться с местом своего нахождения в боевой обстановке. Материально-техническая обеспеченность находилась на низком уровне. Было выявлено отсутствие системы взаимодействия между органами военной юстиции и командованием воинских частей, а также прокурорского надзора по делам, находившимся в следствии Особых отделов.
В то же время в условиях боевых действий произошло некоторое обновление, появились новые методы работы, понимание недостатков и планы по их исправлению.
Задачи, стоящие перед органами фронтовой и тыловой военной юстиции, существенно отличались. Тыловые органы преимущественно занимались борьбой с дисциплинарными преступлениями (самовольные отлучки, нарушения уставов и т. п.), хищениями, контрреволюционными преступлениями. Перед фронтовыми органами стояли задачи по борьбе с воинскими (дезертирство, побеги с поля боя, членовредительство и т. п.) и контрреволюционными преступлениями.
Органы военной юстиции действовали знакомыми методами «кампанейского правосудия», для которого характерна концентрация в конкретный отрезок времени на борьбе с определенным видом преступлений.
В условиях боевых действий стали предъявляться повышенные требования к их деятельности. В частности это касалось резкого сокращения сроков расследования и рассмотрения дел. В результате в их деятельности стало проявляться «упрощенчество» – нарушение процессуальных норм с целью быстрейшего разрешения дел. Появились «спихнутые дела», активно использовалось умолчание.
В боевой обстановке в условиях нехватки кадров наблюдается расширение автономии отдельных должностных лиц, ослабляется контроль за их деятельностью со стороны руководителей. Так, военным следователям доверяется самостоятельно решать вопрос о возбуждении уголовных дел. Появляется практика проведения следствия по малозначительным делам и «доследственных проверок». Это приводит к увеличению доли прекращенных дел до 30 %.
В целом к деятельности органов военной юстиции со стороны руководства предъявлялось большое количество претензий. Основная заключалась в отсутствии сбалансированной судебной политики: вынесении суровых приговоров по малозначительным делам и мягких приговоров по делам о серьезных преступлениях.