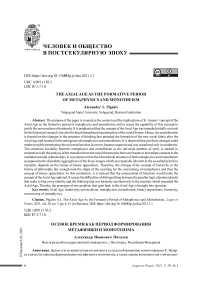Осевое время как период формирования метафизики и монотеизма
Автор: Пигалев Александр Иванович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Человек и общество в постсекулярную эпоху
Статья в выпуске: 3 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является анализ контекста и следствий концепции осевого времени К. Ясперса в качестве периода формирования метафизики и монотеизма, а также оценка возможностей этой концепции обосновать универсализм модерна. Подчеркивается, что концепция осевого времени изначально предназначалась не только для исторических исследований, но и для философской реконструкции всемирной истории. Исходя из этого, рассмотрение сосредоточивается на тех изменениях структуры мышления, которые сопутствовали формированию нового общественного устройства после осевого времени и привели к возникновению метафизики и монотеизма. Отмечается, что именно эти изменения сделали возможным создание прототипа универсализма, который, однако, оказался востребованным и стал реальностью лишь в эпоху модерна. Структурное подобие между метафизикой и монотеизмом в качестве универсальных образцов единства исследуется в связи с анализом перехода от социальной структуры, основанной на непосредственных контактах, к опосредованным социальным отношениям. Указывается, что иерархическая структура и метафизики, и монотеизма, в отличие от совокупности беспорядочных объединений нечетких образов, которые считаются присущими так называемому первобытному менталитету, обусловливается представлением о бинарных оппозициях. В связи с этим критика концепции иерархии в истории философии вполне объяснимо приняла вид стремления к преодолению метафизики и, таким образом, концепции бинарных оппозиций. В этой связи обращается внимание на то, что отказ от бинаризма cделал бы концепцию осевого времени необязательной. Это вызывает трудности различения между специфической логикой постмодерна, требующей размывания любой идентичности, и мышлением, которое прежде считалось присущим лишь обществам, предшествовавшим осевому времени. Таким образом, прототип универсализма, восходящий к осевому времени, оказывается под вопросом.
Осевое время, модерн, универсализм, метафизика, монотеизм, бинарные оппозиции, иерархия, преодоление метафизики
Короткий адрес: https://sciup.org/149139146
IDR: 149139146 | УДК: 1(091):130.2 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2021.3.1
Текст научной статьи Осевое время как период формирования метафизики и монотеизма
DOI:
Цитирование. Пигалев А. И. Осевое время как период формирования метафизики и монотеизма // Logos et Praxis. – 2021. – Т. 20, № 3. – С. 6–15. – DOI:
Метафора «осевое время» (от нем. Achsenzeit ) была в качестве гипотезы введена в научный оборот К. Ясперсом в 1949 г. в книге «Истоки истории и ее цель» [Ясперс 1991]. Она предназначалась для характеристики особой культуры, ставшей, как считал автор гипотезы, причиной возникновения и философии, и монотеистической религии, и всей последующей цивилизации. Понятие осевого времени стало использоваться философами и историками для обозначения качественно своеобразных фундаментальных процессов, которые, как предполагается, происходили в период приблизительно от 800 до 200 гг. до н. э. В понимании они Ясперса, отграничили культурный потенциал древности от оснований, целей и особого типа универсализма культуры, который, несмотря на старые проблемы и новые вызовы, все еще сохраняет свое значение.
В сущности, с осевым временем связывается именно универсальный характер принципов построения человеческого общества в качестве единого и в пространстве, и во времени и, таким образом, приходящего в процессе своего исторического развития к некоему единому для всех совершенному состоянию. Это позволяет утверждать, что именно определенный тип универсализма, претендующий на окончательность, является тем исходным образцом, который и делает соответствующее время осевым. В результате оно превратилось в конвенциальный маркер ранее не выделяемого, но затем неожиданно обнаружившего свою исключительную важность исторического периода, последствия которого, несмотря на его ограниченность во времени по меркам всемирной истории, определили развитие цивилизации на тысячелетия вперед.
Речь идет о последствиях такой пограничной эпохи, с одной стороны которой находится безличная однородность и массивность мифологической архаики с ее слабо структурированным и локальным коллективизмом. С другой ее стороны располагается такая культура, в центре которой стоит отдельный человек как деятельная личность, понимающая себя в качестве некоторой автономной единицы, способная к рефлексии над собственным мышлением и к поведению, основанному на личной ответственности, что является специфической предпосылкой того типа универсализма, который присущ первым формам и философии, и монотеизма.
К. Ясперс подчеркивает, что появление такого человека означало прежде всего разрушение мифологических оснований прежней культуры и создание основных категорий мышления, которые сделали его рациональным и универсальным и с помощью которых люди мыслят до сих пор. Главное, что, по мнению К. Ясперса, обеспечивается осевым временем – это возможность понимать историю в качестве универсального процесса, охватывающего все человечество, которая появляется благодаря тому, что именно в осевое время люди впервые начинают мыслить транс-ценденцию – некоторую не поддающуюся объективации действительность.
Выполняя функцию абсолюта, находящегося за пределами материального мира, трансценденция является залогом универсальности в качестве императива исторического развития. К. Ясперс подчеркивает, что, будучи однократным, осевое время требует тем не менее возвращения к себе и восстановления связи с ним для того, чтобы вновь и вновь обретать постоянно искажаемую, забываемую и утрачиваемую истину [Ясперс 1991, 38–39]. Нельзя, однако, не признать, что значение последствий осевого времени разными исследователями понималось довольно неопределенно, и это понимание никогда не было конкретизировано настолько, чтобы довести его до уровня рабочей теоретической концепции.
В итоге эвристический потенциал этой концепции не становился выше и ограничивался возможностями ее использования лишь для обозначения и схематичного описания некоторой исторической реальности, для чего, впрочем, она годилась изначально [Provan 2013]. Кроме того, довольно скоро обнаружилось, что особая значимость выделенного К. Ясперсом исторического периода признавалась не им одним. Однако оценка его влияния на последующее развитие цивилизации могла быть при этом не только однозначно положительной, но и столь же отрицательной.
Пожалуй, самой характерной в этом отношении является позиция одного из основоположников и главных представителей традиционализма Р. Генона. Он считал период, границы которого практически совпадали с теми, которые называл К. Ясперс, источником далеко идущих разрушительных последствий. Для Р. Генона именно тот период, который К. Ясперс называет осевым временем и последствия которого он оценивает однозначно положительно, является последним, принадлежащим к историческому времени и поддающимся исследованию с помощью «профанных» методов. В итоге Р. Генон реконструирует события этой эпохи, в сущности, точно так же, как К. Ясперс, но тем не менее дает им прямо противоположную оценку.
По мнению Р. Генона, в эту эпоху в культуре всех народов на самом деле произошли переломные, но отнюдь не конструктивные, а однозначно разрушительные изменения. В частности, согласно и К. Ясперсу, и Р. Генону, именно к этому времени относится возникновение той специфической формы мышления, которая получила характерное название «философия» – «любовь к мудрости», но отнюдь не сама «мудрость». Для Р. Генона философия как некая предварительная стадия развития мышления равнозначна поддельной или ложной мудрости, полностью отбросившей эзотерическую сторону знания и породившей гуманизм в качестве одного из результатов отхода от первоначальной традиции.
В целом этот период, в понимании Р. Ге-нона, действительно определил будущее, но оценивается он им как источник деградации цивилизации и всех ее последующих бед. В результате то, что для К. Ясперса является восхождением к подлинному универсализму, Р. Геноном рассматривается как источник движения по нисходящей линии развития, неизбежно ведущей к катастрофическому завершению циклического периода времени. Поэтому, в противоположность Ясперсу, последствия исторического периода, который хронологически и содержательно – но не оценочно – с удивительной точностью совпадает с осевым временем, вызывают, по убеждению Р. Генона, глубокий кризис современного мира [Генон 2004, 159–176].
Указанные особенности концепции осевого времени свидетельствуют о том, что она основывается отнюдь не на обобщении реальных исторических фактов, целью которых могло бы быть более масштабное, объемное и точное описание событий далекого прошлого. Эта концепция вообще ориентирована не столько на поиск и анализ действительно имевших место исторических событий, не столько на прошлое как таковое, сколько на выявление смысла и последствий некоторых возможных исторических процессов, восходящих именно к осевому времени. В этом смысле постулат осевого времени представляет собой инструмент концептуальной истории идей и исторической герменевтики.
К. Ясперс говорит, с одной стороны, о некотором содействии углублению нашего понятия современности, а с другой стороны, о необходимости заглянуть в вечные истоки [Ясперс 1991, 28]. В то же время в дальнейшем изложении он не акцентирует ни приоритетную ориентацию анализа на современность, ни следование схеме возрождения образца прошлого. Такой способ анализа и создает впечатление, что К. Ясперса так же, как историков, действительно интересует в первую очередь само прошлое, осевое время как таковое, а не смысл его последствий и их значение для последующего исторического развития вплоть до современности.
Между тем весьма многозначительны результаты попыток институционализировать концепцию осевого времени, использовать ее в качестве исследовательского инструмента для анализа возникновения религий [Bellah 2011]. Но и ориентация концепции осевого времени на разрешение проблем именно современности, стремление К. Ясперса извлекать из прошлого урок также вызвали большой интерес исследователей, разрабатывавших проблемы философии и социологии [Arnason et al. 2005; Assmann 2012; Bowman 2015; Peet 2019; Roetz 2012]. В этой связи особый интерес имеют причины явного параллелизма процессов развития философии и религии, или, иначе говоря, их структурного подобия. В философии это выражается в ее в качестве метафизики, а в религии – в возникновении монотеизма.
В обеих областях произошло резкое структурное усложнение, которое означало переход от довольно аморфной и неоднородной множественности со слабыми взаимосвязями к центрированному, внутренне дифференцированному, иерархическому единству, претендующему на охват всего сущего. Процессы, вызвавшие этот переход, достаточно точно описываются как распад непосредственных межчеловеческих связей, соответствующих родоплеменному типу общности, и возникновение опосредованных социальных отношений. Таким образом, осевое время открывает эпо- ху репрезентации, противоположную непосредственности «доосевых» культур.
Главное, что должны были обеспечивать метафизика и монотеизм – создание такой модели символического опосредования, которая порождала бы убеждение в существовании только одной истины и только одного человечества [Assmann 1989], то есть убеждение в существовании универсализма, который присущ модерну. Именно в этом смысле осевое время выступает в качестве структурного прототипа такой разновидности универсализма. При этом традиционно считается, что политеизму в социальном плане соответствует принципиально конфликтная множественность, а монотеизму, напротив, – смягчающее и сглаживающее конфликты единство, способное в итоге окончательно примирить противоборствующие стороны, что, собственно, и объясняет его универсалистские притязания.
Между тем даже до обращения к историческим фактам, о смысле которых можно спорить, ясно, что понимание политеизма в качестве источника непримиримых противоречий делает концепцию осевого времени если и не бессмысленной, то все же весьма сомнительной. Приходится предположить, что если метафизике, как и монотеизму, предшествовал политеизм, то его структура должна была быть все же несколько иной, чем это обычно принято считать. Такое предположение обусловливается тем, что с метафизикой и монотеизмом в качестве «центрированных» систем, элементы которых группируются вокруг одного особого, связывается модель единства, основанная на так называемом бинаризме.
В парадигме бинаризма исходной единицей любой внутренне дифференцированной целостности является элементарная структура – бинарная оппозиция, состоящая, естественно, из двух элементов, которые тесно взаимосвязаны. В то же время они изначально неравноценны хотя бы уже потому, что один из них является первым, а другой – вторым, и, таким образом, их единство представляет собой простейшую иерархию. В соответствии с логикой рассматриваемого подхода существование бинарных оппозиций на этапе политеизма допустить нельзя. Их просто не может быть, потому что в противном случае структурирование множеств в качестве иерархии, то есть путем «центрации», могло бы произойти и до осевого времени, и даже вообще без него.
Именно бинаризм выступает в качестве главного новшества осевого времени, с которым могли связываться надежды на глобальное примирение и обеспечение всеобщего единства. Если следовать представлению о качественной новизне осевого времени, то в политеистических религиях должна обнаруживаться парадоксальная способность избегать бинарных оппозиций, а точнее – устанавливать такие формы единства, которые не основываются на бинаризме. Косвенным, но, самым красноречивым свидетельством необходимости ввести в теорию такую способность является явная и устойчивая потребность современной философии в концепции так называемого «первобытного мышления», или «первобытного менталитета».
Один из основоположников этой концепции Л. Леви-Брюль исходил из предположения, что могут существовать различные мен-талитеты, отличающиеся друг от друга не столько степенью развития и отдельными особенностями, сколько типом. Различие между современным и первобытным типами мышления, согласно Л. Леви-Брюлю, заключается в том, что первобытный менталитет малочувствителен к противоречиям и причинности [Леви-Брюль 2002]. Иными словами предмет может быть одновременно самим собой и чем-то иным, что делает представления о тождестве, различии, противоречии и причинности невозможными.
Столь же определенно особенности мифологического сознания, касающиеся отношения к бинарным оппозициям, были зафиксированы и систематически описаны К. Леви-Стросом. Он выявил и теоретически оформил их с помощью термина «бриколаж» (от фр. bricolage), означающего нечто вроде «самодельщины», «любительской работы». Бриколаж в прямом смысле подразумевает конструкции, сделанные лишь из подручных материалов, которые остались после разрушения предшествующего сооружения, и с помощью ограниченного набора инструментов, имеющихся в наличии на данный момент. Поэтому структура этих поделок представляет собой непрочное, из- менчивое соединение несоединимого, и связи между частями целого постоянно возникают, разрушаются и вновь появляются, образуя различные конфигурации при неизменности набора элементов.
Это означает, что бриколаж строится не на основе фиксированных бинарных оппозиций, а представляет собой повторяющийся процесс встряски, разрушения и создания новой системы из фрагментов некоторой предварительно разрушенной конструкции [Леви-Строс 1994, 128–140]. При этом уже существующие различия используются для создания новых. Таким образом, в понятии бриколажа подразумевается, что смысл некоторого элемента системы не считается внутренне присущим ему, а определяется его отношением к другим элементам, как применительно к языку это было постулировано в структурной лингвистике Ф. де Соссюра.
Поскольку у К. Леви-Строса бриколаж характеризует структуру связи между культурой и природой, субъектом и объектом и в общем смысле между означаемым и означающим в структуре мифов, именно он, характеризуясь превращением означаемого в означающее и наоборот, противопоставляется понятийному мышлению, которое указывает на некоторую иную вещь в качестве четко определенного означаемого 1. Таким образом, различие между мифом и рациональным мышлением существенно определяется способом референции, невыходящей за пределы постоянно разрушаемой и вновь создаваемой системы в случае бриколажа. Напротив, мышление в понятиях соотносит себя с внешним миром, и оно, не допуская смешения означающего с означаемым, то есть, будучи репрезентативным, было бы невозможно без опоры на бинарные оппозиции.
Отсюда следует, что вопреки простейшим реконструкциям политеизм должен считаться не только почитанием многих богов, но и особым представлением о том, каким образом боги живут совместно и проявляют себя до того времени, когда появляется понятие трансцендентного бога. Лишь переход от мифа к логосу и, соответственно, от множества богов к представлению о едином боге, приведший к возникновению метафизики и монотеизма, означал появление первых символических порядков, структурированных не только «горизонтально», но и «вертикально», то есть иерархически. Особенно отчетливо формирование такой иерархической структуры видно в развитии метафизики, которую именно вследствие этого М. Хайдеггер характеризовал как онто-тео-логию [Хайдеггер 1997].
При этом переход от мифа к Логосу соответствовал замещению непосредственных структурных зависимостей, запечатленной в мифе игры сходств и подобий, едва отличимых друг от друга, уже довольно сложными опосредованными отношениями. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что концепция Логоса, связываемая с философией Гераклита, обусловливается появлением именно тех принципов, которые должны рассматриваться как выражение духа осевого времени. Однако это делает концепцию Логоса зависимой от тех открытий, автором которых традиционно считается Парменид, относимый, как правило, к идейным противникам Гераклита. Это не только первоначальная формулировка закона исключенного третьего, то есть признание того, что с помощью средств, которые использовались в мифе, противоречие не только не может быть преодолено, но даже и не может быть увидено.
В сущности, означаемое и означающее для мифологического сознания неразличимы, между ними нет принудительной связи, превращающей их в исходную модель иерархии и тем самым запрещающей их перестановку. Поэтому одной из главных заслуг Парменида следует считать открытие той новой реальности, которая скрывается по ту сторону закона исключенного третьего и требует для принудительного отождествления нетождественного, то есть преодоления противоречия, следования некоторым принципам и правилам [Heinrich 1987; 1992]. Именно Парменид открывает появление в мышлении некоторых жестких ограничений, в соответствии с которыми должно осуществляться отождествление нетождественного, то есть законов, которым мышление должно подчиняться 2.
Впоследствии эти ограничения будут теоретически оформлены как законы логики, отличающие мышление осевого времени от первобытного мышления и делающие его эф- фективным в условиях перманентного конфликта. У Гераклита анонимная принудительность единства противоположностей уже характерным образом описывается как борьба, то есть единство через столкновение враждебных усилий. Эта четко выраженная мыслительная необходимость, некая принудительная структура мышления, воспроизводящаяся в иерархической структуре метафизики, делает явными внутренние напряжения усложнившихся структур опосредования в обществе.
При этом истина как непосредственность, ничем не замутненная чувственная данность или, если воспользоваться хайдег-геровским термином, «несокрытость», попадает под власть принудительно установленных отношений. Она частично заслоняется, частично искажается ими, становясь в итоге «сокрытой» [Хайдеггер 2009]. Иначе говоря, истина как несокрытость, будучи отличительным признаком исходного, «доосевого» состояния непосредственности, «золотого века» человечества, попадает во внутренне напряженную систему опосредований. В итоге на смену естественной среде приходит символическая, подчиняющая себе «неприручен-ность» мышления, дисциплинирующая его путем подчинения системе ограничений и превращающая его в «логическое».
Считается, что теперь доступ к несок-рытости возможен либо путем включения в систему социальных опосредований, то есть дискурсивного, развертывающегося во времени приобщения к накопленным знаниям, либо путем радикального выхода из этой системы ради обретения непосредственности мистического опыта. С пониманием истины описанные метаморфозы происходят потому, что вследствие появления метафизики «не-сокрытость», как сформулировал это М. Хайдеггер, идет «под иго» идеи. В итоге истина включается в систему опосредований, становится направленностью на идею, превращаясь в «правильность взгляда» [Хайдеггер 1993, 357] и тем самым выступая в качестве элемента бинарной оппозиции правильность / неправильность.
Таким образом, ту принудительность, которая с начала осевого времени будет проявляться и фиксироваться в законах становя- щегося знания о мышлении и опирающейся на метафизику логики, открывает именно Парменид. Соответственно, метафизика как система идеальных сущностей, будучи продуктом осевого времени, представляет собой символическую модель опосредования, невозможного без размежевывающей силы отрицания, которое обеспечивает прогрессирующую дифференциацию на основе бинарных оппозиций. Все эти изменения привели к концепции знания, которое радикально отличается от «знания», типичного для «неприрученной» мысли.
Не менее показательна и структура монотеизма, в которой единый Бог определенным образом подчинил себе множество божеств. В этом отношении очевидно, что монотеизм, как и первые формы метафизики, представляет собой переход от множества к единству, которое также структурировано как иерархия [Schneider 2008]. Поэтому именно иерархия выступает как структурный прототип того безальтернативного и окончательного универсализма, притязания на установление которого являются характерной отличительной чертой модерна. Соответственно, хотя становление монотеизма и выглядит более сложным процессом, чем становление метафизики, анализ его формирующейся структуры приводит к тем же выводам, что и анализ формирования структуры метафизики.
Это обращает внимание на главную специфическую особенность политеизма в теоретических реконструкциях, основывающихся на гипотезе осевого времени. Хотя этой особенностью действительно должна считаться уже отмеченная нечеткость взаимоотношений между богами в пантеонах культур, предшествовавших цивилизациям осевого времени, одной этой констатации явно недостаточно для обобщающей характеристики. Логика концепции осевого времени неизбежно приводит к вопросу о том, как структурные различия мышления осевого и «доосевого» времени воспроизводятся во вполне практических различиях в отношении к чуждости, инако-вости и вообще к Другому.
В соответствии с моделями партиципа-ции и бриколажа и в согласии с концепцией осевого времени, отношение к Другому, как это ни парадоксально, должно быть более мягким и терпимым в культурах «доосевого» времени, правда, не на самом раннем этапе, то есть не на уровне родоплеменных объединений. На этом этапе, насколько можно судить, «свое» отграничивалось от «чужого» весьма резко, и потому сама возможность широкого единства, не говоря уже об универсализме, исключалась. В противоположность этому имеется в виду тот этап формирования ранних форм государственности, который был связан с появлением первых, сравнительно простых структур социального опосредования.
Это обусловлено тем, что во взаимоотношениях богов политеизма воспроизводится качество межчеловеческих отношений в «доосевых» обществах, в которых, как предполагается, представление о бинарных оппозициях было еще не сформировано. Немецкий египтолог Я. Ассман считает, что особое качество таких межчеловеческих отношений выразительнее и четче всего представлено императивами, исходящими от одной из богинь древнеегипетского пантеона Маат («правда», «справедливость») [Assmann 2006], хотя следы аналогичных представлений можно обнаружить и при изучении пантеонов других культур.
Соответствующие императивам Маат межчеловеческие отношения предполагают условия сосуществования людей, которые, уже подчиняясь законам иерархии, заметно отличаются от условий родоплеменного строя, но еще не достигли той степени однозначности, которая, как предполагается, была характерна для осевого времени. Тем не менее Маат, как считается, позволяет установить не только «горизонтальные», но и «вертикальные» межчеловеческие отношения. В результате, хотя «правда» и «справедливость» распространяются на более многочисленные сообщества, в их основе, строго говоря, все же еще не лежат ни бинарные оппозиции, ни четкие иерархические структуры.
Монотеизм, как и метафизика, соответствует более сложным структурам социального опосредования, но он преобразует пантеоны древности иначе, чем метафизика. Если в метафизике боги политеизма в конечном итоге превращаются в иерархическую систему абстрактных понятий [Adorno 2001, 18–20], то в монотеизме совокупность языческих бо- жеств замещается иерархической системой ангелов, «служебных духов». Они беспрекословно подчиняются единому Богу, несут перед ним ответственность и служат ему, воюют с его врагами и выступают посредниками между ним и миром. Иерархичность системы «служебных духов» и их посредническая функция проявляются и в ветхозаветном образе лестницы Иакова, и в представлении об ангельских чинах.
Известно, что возникновение монотеизма было не постепенным созреванием, а резким разрывом с предшествовавшими формами религии в качестве результата исхода из Египта [Assmann 1998]. Разрыв нашел выражение в понимании этих форм в качестве «патриархальных», «языческих» и в конечном счете однозначно ложных. Это указывает на то, что в основе монотеизма так же, как и в основе метафизики, уже лежат бинарные оппозиции, делающие монотеизм несравнимым с другими религиями. Если следовать этой логике, соответствующей принципам концепции осевого времени, то в политеизме, напротив, должны были быть возможны сравнимость и сосуществование «своих» и «чужих».
Иными словами, сравнимыми должны считаться принадлежащие к другим пантеонам божества. Это в точности подобно тому, как в «дометафизическом» мышлении, основанном на принципе «партиципации», должны были бы мирно сосуществовать рядом взаимоисключающие суждения. Соответственно, в условиях политеизма любой договор, заключаясь от имени богов договаривающихся сторон, означал бы сравнимость этих богов, а в ряде случаев даже возможность их отождествления друг с другом, поскольку их имена должны были бы считаться условностью, за которой скрывается один и тот же бог.
Напротив, переход от так понимаемого политеизма к монотеизму должен – в соответствии с представлением о сути качественного своеобразия осевого времени – означать проведение резких границ между «своим» и «чужим», так что чужие божества считались бы однозначно ложными. Следовательно, их сравнение со своими божествами, не говоря об их отождествлении друг с другом вследствие условности их имен, становится невозможным [Assmann 2010, 1–23]. После возникновения христианства бинарный характер структур опосредования начинает размываться и именно способность преодоления резкого разрыва между «своим» и «чужим» отражается в понимании христианской любви как основы христианского универсализма.
Критика и самокритика модерна – во всяком случае, в их секулярных версиях, использующих тип дискурса, который присущ ему самому, – начали выступать в виде переосмысления сущности метафизики и призывов к ее преодолению. Основой этой критики, в свою очередь, является стремление отказаться от иерархии в качестве прототипа структуры универсального единства. Критика ведет еще дальше, предсказуемо относя истоки иерархии в качестве прототипа универсализма к возникновению в мышлении бинарных оппозиций 3.
В связи с этим следует обратить внимание на то, что отказ от бинаризма cделал бы концепцию осевого времени необязательной. Это вызывает трудности различения между специфической логикой постмодерна, требующей размывания любой идентичности, и мышлением, которое прежде считалось присущим лишь обществам, предшествовавшим осевому времени. Тем самым прототип универсализма, восходящий к осевому времени, оказывается неоднозначным. Он, в свою очередь, подводит к вопросу о том, что после деконструкции бинаризма (если она осуществима) могло бы прийти на смену прототипу универсализма, который возник в осевое время и определяет историческое своеобразие модерна.