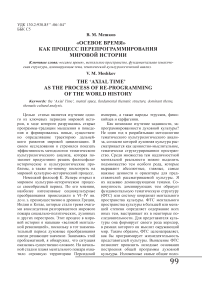«Осевое время» как процесс перепрограммирования мировой истории
Автор: Мешков Вячеслав Михайлович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (31), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье показано, как великая ментальная революция VI-IV вв. до н. э. привела к разрушению натуралистически-силовой системы координат ментального пространства древнегреческой, древнеиндийской и древнекитайской культур и формированию разумно-добродетельной, которая задала новую программу исторического развития.
"осевое время", ментальное пространство, фундаментальная тематическая структура, доминирующая тема, тематический культурологический анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/14720902
IDR: 14720902 | УДК: 130.2:930.85’’
Текст научной статьи «Осевое время» как процесс перепрограммирования мировой истории
Целью статьи является изучение одного из ключевых периодов мировой истории, в ходе которого разрушались старые программы-традиции мышления и поведения и формировались новые, существенно определявшие траекторию дальнейшего развития мировой цивилизации. В своем исследовании я стремился показать эффективность методологии тематического культурологического анализа, которая позволяет продуктивно решать философско-исторические и культурологические проблемы, а также по-новому посмотреть на мировой культурно-исторический процесс.
Немецкий философ К. Ясперс открыл в мировом культурно-историческом процессе своеобразный период. По его мнению, наиболее интенсивные социокультурные преобразования происходили в VI–IV вв. до н. э. преимущественно в древних Греции, Индии и Китае, которые стали тремя очагами впоследствии разгоревшегося мирового пожара социально-политических, духовных и других перестроек. Этот процесс в мировой истории я называю «великой ментальной революцией», поскольку в тот знаменательный период духовные преобразования имели решающее значение. Занимаясь этой проблематикой, я обнаружил, что ситуация оказалась существенно сложнее. На начальной стадии пламя ментального пожара охватило огромную территорию Персидской империи, а также народы этрусков, финикийцев и карфагенян.
Как возможно изучение заданности, запрограммированности духовной культуры? Не один год я разрабатываю методологию тематического культурологического анализа, согласно которой духовная культура рассматривается как ценностно-мыслительное, тематически структурированное пространство. Среди множества тем надличностной ментальной реальности можно выделить подмножество тем особого рода, которые выражают абсолютные, главные, самые важные ценности и ориентиры для представителей рассматриваемой культуры. Я их называю доминирующими темами. Совокупность доминирующих тем образует фундаментальную тематическую структуру (ФТС) или систему координат ментального пространства культуры. ФТС ментального пространства культуры в большей или меньшей степени определяет содержание всех иных тем, выстраивает их в некоторые последовательности. Для представителя культуры она формирует своего рода коридор, в рамках которого он мыслит окружающий мир. Таким образом, ФТС целенаправляет, как бы программирует жизнедеятельность представителей культуры. Выявление ФТС позволяет прояснить исходные основания построения общей программы духовной культуры. Изложенные самые общие поло- жения тематического культурологического анализа носят универсальный характер, т. е. применимы для изучения какой-либо культуры на любом этапе ее развития. Этот подход в полной мере проявил свою эффективность при исследовании мной древнерусской культуры [5], а также «осевого времени» [6].
Как возможно найти доминирующие темы изучаемой культуры? Их следует искать в письменных источниках исследуемой эпохи, потому что только в них объективируется дух времени, ментальное пространство культуры. К ним относятся, прежде всего, философские, исторические, литературнохудожественные произведения, а также документы, воспоминания, письма и др. В поворотные моменты истории в полной мере проявляются доминирующие темы и даже ФТС в целом (речь Перикла, речи перед решающей битвой и др.).
Если рассматривать «осевое время» как процесс перепрограммирования мировой истории, то возникает вопрос о природе предыдущей программы архаического периода. Работая над первым томом по «осевому времени», я обнаружил, что во всех известных письменных источниках архаического этапа «Ригведе», «Мятикнижие Моисеевом», эпосе о Гильгамеше, поэмах Гомера «Илиаде» и «Одиссее», «Теогонии» Гесиода содержится одна и та же ФТС, которая задавала систему координат ментального пространства культур предысторического периода мировой истории. Систему координат архаического Духа составляли доминирующие темы «натуры», «силы», «рода», «эроса» и «ритуала». Смысловое поле темы «натура» определяется совокупностью жизненно важных целей для удовлетворения материальных потребностей, ненасытной жажды чувственных удовольствий, концентрированным выражением которых часто выступает тема «добычи». В архаическом жизненном мире физическая сила является одним из важнейших критериев значимости объекта или явления. Физическая сила составляет корень и ствол характера бога, героя и др. Натуралистический образ жизни с необходимостью предполагает эротическое отношение к действительности как фундаментальную ценностно-мыслительную ори- ентацию. Это означает, что ментальное пространство было эротически насыщенным. Эрос воспринимается как норма, как важнейшая, базисная характеристика «жизненного мира», как необходимое, безусловно, позитивное начало. Эротическая насыщенность ментального пространства культуры с необходимостью предполагает органическую связь с темой «рода». Значимость этой темы выражается в том, что осмысление мира осуществляется в терминах родовых отношений. Тема «рода» выступает важнейшим средством упорядочивания, структурирования жизненного мира. Мировосприятие через призму универсальных отношений порождения является эффективным средством определения места любого объекта (божественного, природного, социального) в системе мироздания, характера его отношений с другими объектами. Вне родовых отношений статус человека или другого объекта был не определен. Важнейшей и, по-видимому, главной функцией ритуала в человеческом сообществе была функция объективации ментальных представлений, одновременно закрепления и воспроизведения иерархически упорядоченных социальных связей и отношений. Универсальность доминирующей темы «ритуала» выражается в том, что всякое социально важное отношение или действие становилось легитимным, когда оно было ритуализовано.
В гимнах «Ригведы» ярко выражена натуралистически-силовая система мировосприятия. Дух завоевания в гимнах «К Индре» выступает всепоглощающей страстью:
«Завоевывающему все, завоевывающему добычу, завоевывающему небо, Завоевывающему всегда, завоевывающему мужей, завоевывающему пашню, Завоевывающему коней, завоевываеще-му коров, завоевывающему воды – Индре, достойному жертв, принеси желанного сому!» [9, II, 21, 1].
В Индре были собраны все силы: «Один, ты несешь всю силу, собранную воедино» [9, I, 57, 6]. «Никогда... никто не превосходил Индру героической силой» [9, I, 80, 15].
В натуралистическом, дионисийском ментальном пространстве архаической Греции господствовал диктат силы. В «Теого- нии» Гесиода, жившего в конце этой мрачной эпохи, преобладают силовые характеристики персонажей. О Зевсе он пишет: «Сколь превосходнее всех он богов и могучее силой... В небе царит он, громом владеющий страшным и молнией огненно-жгучей, силою верх одержавший над Кроном-отцом» [3, с. 30]. «Громовержец... сам же с великою властью и силой царит над вселенной» [3, с. 37]. «Мифологическая библиотека» грамматика Аполлодора, написанная во II в. до н. э., беспристрастно воспроизводит древнегреческие мифы в виде сюжетных схем, которые дают достаточно полное представление о жестоких нравах и характере отношений богов и героев. Приведем несколько примеров из жизни богов-олимпийцев. Зевс сошелся с Метидой. Когда она оказалась беременной, Зевс проглотил ее, потому что боялся, что она родит сына, который станет властителем неба [1, с. 7]. Аполлон, победив Гарсия в игре на кифаре, подвесил последнего на высокой сосне и убил, содрав с него кожу [1, с. 8]. В многообразной деятельности героев греческой мифологии нередко трудно различить границу между подвигом и разбоем. Весьма часто избыток силы приводит к немотивированному убийству, чрезмерной жестокости и насилию. Так, Геракл встретился с глашатаями, направлявшимися в Фивы за получением дани. «Он жестоко с ними расправился: отрубил им носы, уши и руки, повесил все это им на шею» [1, с. 32]. Однажды «Геракл был ввергнут ревнивой Герой в безумие и кинул в огонь собственных детей» [1, с. 33]. Как-то Гераклу не понравилось поставленное перед ним вино, и он одним пальцем ударил виночерпия Киафа и убил его. Захваченных женщин он дарил как скот или неодушевленные предметы. Свою жену Мегару отдал Иолаю. Жизнь героев являла собой уровень образца для греческого архаического общества. Когда мы читаем, как Тидей, убив Уеланиппа, расколол его череп и выпил из него мозг; фракийский царь Диомед кормил своих кобылиц мясом чужестранцев; Атрей, убив трех сыновей Фиеста, разрубил их на куски, сварил в котле и преподнес в качестве угощения последнему, то нетрудно представить суровые нравы реальной жизни.
Кто был первым в революционном движении «осевого времени»? Заратуштра был первым, кто в проповеди верховного бога Ахура-Мазды утверждал приоритет чистого разума и добродетели. Ангра-Майнью был носителем архаических натуралистических ценностей и ориентиров. Борьба между этими богами знаменовала начало вечного противостояния духовно-нравственного и натуралистически-силового начал в истории человечества.
Насколько позволяет размер статьи, в самом общем плане рассмотрим своеобразие «перепрограммирования» в древних Греции, Индии и Китае. Обратимся к античному Средиземноморью. Обычно современные публикации о культуре Древней Греции слишком афиноцентричны. Когда говорят о великих древнегреческих преобразованиях, то вспоминают Солона, Клисфена, Перикла и др. Между тем последние были деятелями лишь локального, афинского масштаба. Безусловно, главным преобразователем Древнегреческого мира был Пифагор. Поэтому при рассмотрении Древней Греции в VI в. до н. э. как сложной динамично развивавшейся системы полисов, укрепившихся и борющихся за свое существование и процветание по всему Средиземноморью, Афины оставались на периферии. Благодаря первому локомотиву древнегреческой ментальной революции Пифагору основной очаг духовно-нравственных преобразований находился в Западном Средиземноморье. А это значит, что поток ценностно-мыслительных перестроек захватил италиков, римлян и соответственно этрусков.
Выделение списка доминирующих тем в определенном смысле представляет собой непростую задачу, потому что требует по возможности проработать большое количество первоисточников. Гораздо более трудной задачей является осмыслить их как целостную систему координат. Нет уверенности, что выделенный список является конечным. Поэтому представляется, что руководящим методологическим принципом тематического анализа предварительно должно быть определение смысла революционных изменений, после чего должна проясниться структурная целостность изучаемой ментальности культуры. Как известно, стержнем преобразований в древнегреческих городах-государствах было реальное обеспечение свободной жизнедеятельности граждан полиса. Выделение системы доминирующих тем в совокупности обеспечивает реализацию этой задачи.
В греко-римском жизненном мире, безусловно, абсолютной ценностью выступала тема города «Афин», «Рима», «Сиракуз» и других. Эта тема синтезировала все духовные силы в единое целое. И это понятно, потому что утрата города в битве с неприятелем означала утрату всего. Обычно мужчин убивали, а остальных продавали в рабство. Своеобразие древнегреческой ментальной революции заключается в том, что натуралистически-силовые жизненные ориентации архаического общества были взяты под строгий контроль и духовнонравственно нагружены. Так, благодаря власти закона, применение силы в межличностных отношениях было категорически запрещено. Выход энергии физической силы допускался в локальных субпространствах под строгим контролем (Олимпийские игры у греков, гладиаторские бои у римлян). Духовно-нравственная, эстетическая устремленность древнего грека объективировалась во всех предметах, к которым прикасалась его рука, которые обычно приводят нас в восторг.
В произведениях Геродота, Фукидида, Ксенофонта, Платона, этических и социально-политических трудах Аристотеля система аксиом, абсолютных тем-ценностей раннего Духа европейской цивилизации представлена в явном виде и в полном объеме. Систему доминирующих тем как систему координат ценностномыслительного пространства древнегреческой культуры составляли: «разум», «свобода», «закон», «добродетель» («справедливость») и «красота». Всего на пяти столпах держалась и держится европейская цивилизация! Согласно текстам, для древних греков абсолютной ценностью была тема «справедливости». Ее целесообразно рассматривать как важнейшую составляющую субпространства античной добродетели. Реформатору Солону удалось существенно разрушить силовое мышление в Афинах. Об этом он так пишет: «Я принуждение с законом сочетал» [8, с. 162]. При описании природы сверхчув- ственной божественной реальности Платон выделяет следующие ее атрибуты: «божественное же прекрасно, мудро, доблестно» [7, т. 2, с. 182]. «Мысль бога питается умом и чистым знанием», – говорит Платон устами Сократа в диалоге «Федр» [7, т. 2, . 183]. Согласно Платону, «существует лишь одна правильная монета – разум, и лишь в обмен на нее должно все отдавать; лишь в этом случае будут неподдельными и мужество, и рассудительность, и справедливость – одним словом, подлинная добродетель: она сопряжена с разумом» [7, т. 2, с. 28]. Исследуя в «Большой этике» проблему высшего блага, Аристотель утверждает: «Можно было бы, пожалуй, сказать, что разумность высшее благо из всех, если сопоставлять с ним каждое в отдельности» [2, т. 4, с. 302]. «Прекрасное есть причина блага»; «прекрасное – это своего рода отец блага», – утверждает Платон [7, т. 1, с. 174]. В телеологическом учении Аристотеля добродетель и прекрасное составляют высшие цели: «Всякая вещь, заключающая высшее начало, сама ставит цель и осуществляет ее. Но выше добродетели нет ничего, ради нее и все прочее; и первоначало в ней, и средства существуют по большей части ради нее как цели. Цель подобна как бы первоначалу, и всякая вещь существует ради нее... Цель добродетели – прекрасное, причем она больше устремлена к нему, чем к его составляющим частям… непременное дело добродетели – ставить прекрасные цели» [2, т. 4, с. 316]. Важнейшее, может быть центральное, место в философии Платона и Аристотеля отводилось добродетели. «Ведь все золото, – пишет Платон, – что есть на земле и под землею, нельзя сравнить с добродетелью» [7, т. 3 (2), с. 200]. Согласно Аристотелю, «выше добродетели нет ничего, ради нее и все прочее» [2, т. 4, с. 316]. Примечательно, что бог не представал в качестве абсолютной системы отсчета. Аристотель и, особенно, Платон всячески стремились избавиться от архаических, натуралистических представлений о богах и предлагали рассматривать их как носителей, источников и строгих контролеров именно духовно-нравственных ориентиров.
Если мы обратимся к произведениям римских историков эпохи краха республи- канского Рима Титу Ливию, Саллюстию, поэту Вергилию и др., то увидим, что системы координат ментальных пространств Древней Греции и республиканского Рима практически совпадают. У римлян особенно ярко выступают доминирующие темы «доблести» и «закона». По мнению Цицерона, «нет на свете ничего достойнее любви, чем доблесть, и ничто не привлекает нас сильнее; потому-то за доблесть и добродетель иногда любим мы даже тех, кого никогда не видали» [12, с. 456]. «Нужно в первую голову стремиться к доблести» [12, с. 472]. Саллюстий в своем небольшом историческом обзоре развития Рима пишет: «Ссоры, раздоры, неприязнь – это было у врагов; граждане соперничали между собой в доблести» [10, с. 9]. «В римском войске, – справедливо замечает Тит Ливий, – доблесть не может остаться не замеченной» [11, т. 2, с. 119]. Тит Ливий приводит слова римского сенатора, объясняющие одну из главных причин победоносной римской истории: «Только так, не отталкивая спесиво никого, в ком блеснула доблесть, и смог подняться в своем величии Рим» [11, т. 1, с. 180]. Описывая тяготы и лишения войны с Ганнибалом, Публий Сципион сказал: «И среди этих бедствий стояла несокрушимо одна только доблесть народа римского; она подняла и воздвигла из праха все повергнутое наземь» [11, т. 2, с. 264].
В системе координат ментальных пространств Древней Греции и Рима значимость отдельных ее осей неодинакова. Как бы исходными являются доминирующие темы «добродетели» и «закона». Если они приняты всем населением, то создаются благоприятные условия для полноценной реализации «свободы», вдохнув благоприятный воздух которой в свою очередь укрепляется добродетель и совершенствуется законодательство. Все эти предпосылки стимулируют рациональную деятельность, развитие духа разума.
Выделение доминирующих тем и осмысление их как системы координат древнеиндийского Духа было гораздо более сложной задачей. Нет уверенности, что удалось с ней справиться. Для выявления системы доминирующих тем ментального пространства древнеиндийской культуры одним из наибо- лее важных представляется «Манавадхар-машастра» («Законы Ману»). Специалисты относят ее создание к III в. до н. э. Приблизительно в то же время была сотворена «Бхагавадгита» («Гита»). IV – III вв. до н. э. были временем кристаллизации древнеиндийского Духа после революционных перемен. «Гита» и «Законы Ману» задавали своеобразную парадигму древнеиндийской ментальности. В первой же главе последнего излагается миф о творении мироздания, кастовой структуре общества и др. Для индийца окружающий его мир предстает как целостная сбалансированная система, в которой нет места для свободной жизнедеятельности. Индиец не мог даже помыслить, что такое мирская свобода. Какой смысл древнеиндийской ментальной революции? Следуя этому тексту, «Упанишадам» и другим основания древнеиндийского Духа составляли доминирующие темы: «Бог», «аскетизм», «Веды», «дхарма», «освобождение» (бессмертие) и «ритуал». Как их выстроить в целостную систему? Смысл древнеиндийской ментальной революции выражается в освобождении от бесконечного колеса сансары, достижения немирского, а метафизического освобождения. Поэтому ментальное пространство Древней Индии приобрело достаточно сложную конфигурацию. Мирское бытие обеспечивает отлаженный, циклический механизм «колеса сансары», для работы которого предназначено большинство нормативных требований «Законов Ману». Вместе с тем последние имеют мистическую, запредельную ориентацию. Мистически-метафизическое ядро древнеиндийского Духа составляет трансцендентная, чисто духовная божественная реальность Брахмана-Атмана (Брахман в мире, Атман в человеке). «То, ради чего», – сказал бы Аристотель. Ментальный коридор для достижения этой священной реальности для каждого правоверного индуиста предоставляет подсистема координат, осями которой являются доминирующие темы «аскетизм», «Веды», «дхарма» и «ритуал». С этими темами тесно связаны темы «риши», «брахмана» как образцы реализации заветной мечты достижения мокши (духовного освобождения). Примечательно, что в «Законах Ману» Бог творит мир посредством аскетизма [4, I. 41], хотя для него, обладающего абсолютной мощью, проще было бы творить непосредственно без особого напряжения. Однако в то благословенное время аскетизм уже был абсолютной ценностью, основанием отсчета всех иных ценностей, которой следовал даже Бог-творец и вседержитель. Меня долгое время сбивал с толку буддизм. Обычно Будду называют главным перестроечным локомотивом в «осевое время» в Древней Индии. Оказалось, что буддизм со своим абсолютным нигилизмом был неудачной мутацией древнеиндийского Духа, чужеродным образованием, которым можно пренебречь. Тогда все становится на свои места. До крайности бережливый ум древнего индийца никогда ничего не выбрасывает. Поэтому индийцы сохранили архаический комплекс в составе Вед практически полностью, слегка его духовно-нравственно переосмыслив. Виш-нуисты даже включили в качестве аватары чужака Будду.
Китайская ментальная революция была наиболее продолжительной и поэтому наиболее сложной. Она началась с проповеди Конфуция (конец VI в. до н. э.) и в определенном смысле завершилась с установлением правления династии Хань (II в. до н. э.), когда начался активный переход от натуралистически-силовой к конфуцианской, духовно-нравственной системе координат ментального пространства древнекитайской культуры. В обстановке многовекового соперничества воевавших царств основная энергия древнекитайского Духа была устремлена на достижение единства Поднебесной. Если в Древней Греции благодатный ветер демократизации охватил города-государства Средиземноморья и даже Черного моря, если в Древней Индии в массовом аскетическом движении брахманов и представителей других варн даже затерялись вожаки, пастухи-аскеты, то китайскую ментальную революцию начинал один человек – Конфуций. Легисты, даосы и другие были носителями архаической ментальности, которую они предлагали существенно модернизировать. В то время сущностную ФТС древнекитайского Духа составляли доминирующие темы «натуры», «силы», «рода», «эроса» и «ритуала». Сила, насилие и страх воспринимались как норма жизни. Эту структуру нужно было «перепрограммировать». Конфуций был один белый ворон среди бесконечного множества черных воронов. Не на что было опереться. Мудрый Кун-цзы придумал весьма продуктивный ход, правда, с точки зрения науки не вполне достойный (но тогда и науки еще не было), который позволил существенно укрепиться его учению в ментальности того времени. Он подготовил книгу песен народного фольклора «Шицзин». В действительности, надо полагать, из 305 песен до трети являются носителями конфуцианской ментальности, особенно оды. «Шицзин» сразу стала популярной в Поднебесной и таким образом завоевала духовно-нравственный авторитет, чему в немалой степени способствовал сам Конфуций. Впоследствии в книгах конфуцианского канона «Шицзин» будет выступать в качестве важнейшего средства обоснования конфуцианского учения. Затем он занялся историей Китая. Из имевшихся летописей он составил свой сборник «Книгу истории» («Шуцзин»). При этом в ходе цензурирования архаической истории Китая он частично ее фальсифицировал, когда из первых китайских императоров Юя и Шуня создал образы совершенных конфуцианцев. Затем он своим ученикам говорил, что по уровню конфуцианских добродетелей он не догоняет последних. Какие имеются документальные основания для подобного рода рассуждений? Никаких. На мой взгляд, главным и очень сильным аргументом в пользу высказанной версии является сверхреволюционность нравственного учения Конфуция в современном Китае. Его проповедь была подобна вспышке сверхновой в темном царстве древнекитайского архаического Духа. Его учение было великим достижением в истории человечества, большим духовно-нравственным прорывом. Подобные события приходят только сверху. Они постепенно не вырастают снизу в устном творчестве темного, угнетенного народа. В III–II тыс. до н. э., когда натуралистически-силовой жизненный мир был перенасыщен насилием, силой и страхом появление высоконравственных Зара-туштры или первых китайских императоров было в принципе невозможно. Недооценка этого обстоятельства нередко ведет к существенным модернизациям в современных исторических исследованиях. Как показала последующая история Китая, прививка конфуцианской ментальности древнекитайским правителям и населению оказалась весьма многотрудным делом, продолжавшимся с VI в до н. э. вплоть до конца II в. до н. э.
Какая система координат ценностномыслительного пространства древнекитайской культуры вырисовывается из текстов эпохи ментальной революции? В результате тематического анализа выстраивается следующая тематическая структура архаического Духа Китая. Мирскую ментальность древних китайцев доисторического периода определяла универсальная ФТС доминирующих тем «натуры», «силы», «рода», «эроса» и «ритуала». Над этой натуралистически-силовой реальностью надстраивается специфическая для китайцев подсистема доминирующих тем божественных «Неба» и «Земли», «вана» («царя») и «Поднебесной». Эта «программа» задавала коридор жизнедеятельности архаического Китая. После утверждения конфуцианской ментальности в Китае в текстах начала высвечивать следующая система доминирующих тем: «Неба» (Дао-Пути), «вана», «Поднебесной», «семьи», «гармонии» и «добродетели». В обвалившейся натуралистически-силовой системе мировосприятия тема «рода» подверглась существенному преобразованию в тему «семьи», ставшей одной из важнейших доминант китайской ментальности. В божественном «Небе» Конфуций обнаружил мистически-метафизическое дно Дао-Путь, которое, по существу, представляло собой идеализиро- ванную модель духовно-нравственных отношений между людьми, в семье и государстве. После смерти Мэн-цзы и его учеников эта важнейшая метафизическая реальность конфуцианцами была утрачена. Конфуцианские добродетели своей благодатной энергией насытили и преобразили ментальное пространство китайской культуры. Все доминирующие темы как оси координат выполняли синтетическую функцию, имели центростремительную направленность, что в немалой степени придавало китайскому Духу прочность и стабильность. Это обстоятельство весьма способствовало за два с лишним тысячелетия преодолеть серьезные вызовы и испытания. Совокупность этих доминирующих тем образовала систему координат китайского Духа, то русло культурно-исторического потока, которое целенаправляло многонациональный китайский народ. Выдержит ли эта ФТС китайского Духа сильный прессинг современных социокультурных изменений?
Таким образом, в результате тематического анализа «осевого времени» существенно проясняется дальнейшая история мирового культурно-исторического процесса. Трансляция древнекитайской и древнеиндийской ФТС на народы-прозелиты Восточной и Юго-Восточной Азии привела к образованию метакультурной ментальной реальности – цивилизации Востока. Распространение греко-римской ФТС привело к формированию европейской цивилизации (Запада). Все остальное культурное многообразие, в том числе исламская ментальность, производно. Всего три ФТС, три системы координат существенно определяют и программируют мировую историю!
671 с.
Список литературы «Осевое время» как процесс перепрограммирования мировой истории
- Аполлодор. Мифологическая библиотека/Аполлодор. -М.: Наука, 1993. -214 с
- Аристотель. Сочинения: в 4 т./Аристотель. -М.: Мысль, 1976. -Т. 4. -830 с
- Гесиод. Теогония/Гесиод//Эллинистические поэты. -М.: Ладомир, 1999. -515 с
- Закон Ману. -М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. -496 с
- Мешков В. М. Опыт тематического анализа древнерусского и русского Духа (X-XVII века)/В. М. Мешков. -Полтава: Скайтэк, 2005. -432 с
- Мешков В. М. Опыт тематического анализа осевого времени/В. М. Мешков. -Полтава, 2010. -Т. 1. -442 с
- Платон. Сочинения: в 3 т./Платон. -М.: Мысль, 1970
- Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 3 т./Плутарх. -М.: Кристалл, 2001. -Т. 1. -671 с
- Ригведа. Мандалы I -IV/пер. Т. Я. Елизаренковой. -М.: Наука, 1989. -767 с
- Саллюстий Гай. Сочинения/Гай Саллюстий. -М.: Наука, 1981. -221 с
- Тит Ливий. История Рима от основания города./Тит Ливий. -М.: Наука, 1989. -Т. 1. -576 с
- Цицерон. Этетика: Трактаты. Речи. Письма/Цицерон. -М., 1994