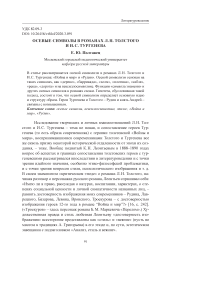Осевые символы в романах Л.Н. Толстого и И.С. Тургенева
Автор: Полтавец Елена Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается осевой символизм в романах Л. Н. Толстого и И. С. Тургенева: «Война и мир» и «Рудин». Осевой символизм основан на таких символах, как «дерево», «баррикада», «холм», «плотина», «сабля», «река», «дорога» и на вексиллосимволике. Функции «символа знамени» и других осевых символов в романах схожи. Гипотеза, обусловившая такой подход, состоит в том, что осевой символизм определяет основную идею и структуру образа. Герои Тургенева и Толстого - Рудин и князь Андрей - связаны с возвышенным.
Осевые символы, вексиллосимволика, эпилог, "война и мир", "рудин"
Короткий адрес: https://sciup.org/146281729
IDR: 146281729 | УДК: 82.09-3 | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.3.091
Текст научной статьи Осевые символы в романах Л.Н. Толстого и И.С. Тургенева
Исследование творческих и личных взаимоотношений Л. Н. Толстого и И. С. Тургенева – тема не новая, и сопоставление героев Тургенева (то есть образа современника) с героями толстовской «Войны и мира», воспринимавшимися современниками Толстого и Тургенева все же сквозь призму некоторой исторической отдаленности от эпохи их создания, – тоже. Вообще поднятый К. Н. Леонтьевым в 1888–1890 годах вопрос об аспектах и границах сопоставления толстовских героев с тургеневскими рассматривался впоследствии в литературоведении и с точки зрения идейного значения, особенно этико-философской проблематики, и с точки зрения вопросов стиля, психологического изображения и т. д. В своем знаменитом «критическом этюде» о романах Л. Н. Толстого, начиная разговор о персонажах русского романа, Леонтьев спрашивал себя: «Имею ли я право, рассуждая о натурах, воспитании, характерах, о степенях социальной ценности и личной симпатичности названных лиц, – равнять достоверность изображения моих современников – Рудина, Лаврецкого, Базарова, Левина, Вронского, Троекурова – с достоверностью изображения героев 12-го года в романе “Война и мир”?» [16, с. 242]. («Троекуров» – здесь персонаж романа Б. М. Маркевича «Перелом».) Художественная правда и столь любезная Леонтьеву «достоверность изображения» всесторонне представлены как «стиль» и «веяние» (пусть во многом в традициях А. Григорьева) в его этюде и, по сути, эстетическом завещании с подзаголовком «Анализ, стиль и веяние».
Вопросы и «веяния», и влияния, и «страха влияния», и творческой полемики Тургенева и Толстого, и даже «метахронотопа» (см.: [25]) усадеб того и другого гения затрагивались в отечественном литературоведении в работах Б. М. Эйхенбаума, Г. А. Бялого, А. А. Сабурова, Н. П. Лощинина, А. Б. Муратова, А. И. Батюто, Г. И. Курляндской, Л. Д. Громовой-Опуль-ской, В. М. Марковича, С. Ю. Николаевой, Г. М. Ребель, Н. Л. Вершининой, И. А. Беляевой, Н. А. Никитиной и многих других исследователей. В свете проблемы диалога текстов – романа Тургенева «Рудин» и толстовской «Войны и мира» – выделим непосредственно касающуюся сопоставления образов Рудина и Андрея Болконского статью Т. Б. Трофимовой [36]. Сходство психологических характеристик Рудина и Андрея Болконского Т. Б. Трофимова рассматривает в плане исторической преемственности выявленных Тургеневым «гамлетовского» и «донкихотского» начал, определяющих характер героя русского романа. Автор статьи указывает также на расширение «философского подтекста» образа Андрея Болконского в свете параллелей (в том числе сюжетных) с романом «Рудин». В работе проанализированы некоторые черты сходства Рудина и Болконского «в описании их внешности, характеров, мировоззрений» [Там же, с. 70], параллели отдельных сюжетных ситуаций и кризисных моментов (например, разочарование в общественной и, говоря современным языком, проектной, а у Болконского еще и в государственной деятельности). Хотя «исполнение должности секретаря в комитете Сперанского, проекты в области образования» [Там же, с. 71] напрасно приписаны в статье князю Андрею (к «области образования» можно отнести только его заботы о распространении грамотности среди крестьян; в комиссии Сперанского он был отнюдь не секретарем, он занимал другие должности), но установленная в исследовании идейная связь двух образов представляется бесспорной, а постановка вопроса является импульсом к продолжению поиска.
На наш взгляд, необходимо дополнить сопоставление структурно-семантическим анализом двух образов – Рудина и Андрея Болконского – и прежде всего объединяющей эти образы символики (не только той, которая зависит от «стиля» и «веяния», но и объективно существующей в культуре и в силу этого также оказывающей определенное давление на идейную структуру произведений), что и является целью нашей статьи. Исходя из утверждения Ю. М. Лотмана, что символ есть «посредник между синхронией текста и памятью культуры» [19, с. 199], сосредоточимся на выяснении функций таких символов, связанных с образами Рудина и Болконского, как птица, река, дуб, сабля, баррикада, гора, знамя. Эти символы (а все они, кроме символа птицы, являются осевыми), может быть, не менее значимы для выяснения соотношения между двумя центральными образами двух романов, чем аспекты преемственности (или отторжения) идейного наследия «рудинского типа» [36, с. 69] в изображении Толстым князя Андрея как одного из «лучших представителей дворянского сословия» [Там же, с. 70]. Не надо быть адептом деконструктивизма, чтобы увидеть правоту Поля де Мана, который писал: «В литературоведении структуры значения часто описываются при помощи исторических, а не семиологических или риторических терминов» [20, с. 98]. По мнению американского исследователя, литературоведы «стремятся уклониться от анализа семантических структур» [Там же], подменяя этот анализ обсуждением внеэстетических проблем психологии или историографии. Наверное, это отчасти объясняет, почему орнитосемантика, вексиллосемантика и многие аспекты осевой символики не затрагивались в исследованиях, посвященных сопоставлению «Рудина» и «Войны и мира», а также других произведений Тургенева и Толстого.
«Скандинавская легенда», которую рассказывает Рудин, и предсмертные размышления Андрея Болконского о евангельских «птицах небесных» объединены не только орнитосимволикой, но и темой, являющейся одной из центральных в том и другом произведении, – это тема, которую можно назвать танатоборческой. Птица здесь символ как души, так и «высших сил» [37, с. 230], восхождения (в этом смысле этот символ приближается к осевому) к иным мирам, где душе уготовано бессмертие, потому что «сознание быть орудием тех высших сил должно заменить человеку все другие радости: в самой смерти найдет он свою жизнь, свое гнездо» [Там же]. Эту концовку «скандинавской легенды» К. Кроо связывает с идеей «высокого» в романе (по нашему мнению, эта стилевая и идейная структура должна быть подвергнута более тщательному мотивному анализу). Выводы исследовательницы: «…в плане семантики, Рудин через свое стремление (к высокой цели) и является орудием всего высокого» [14, с. 15], «в этом влиянии Рудина в области высокого и проявляется то его назначение, о котором он говорит в своем толковании скандинавской легенды» [Там же, с. 121].
В связи с этим уместно сослаться на положения других исследований орнитосимволики, не касающихся творчества Тургенева и Толстого, но близких методологически. Э. Ф. Шафранская пишет: «Увязывая метатекст мировой культуры с конкретным сюжетом, вне зависимости от локально-контекстных ходов и перипетий, в которых «работает» образ птицы…, вне зависимости от воли, желания, знания автора, обнаруживаешь новые, неожиданные смыслы» [40, с. 97]. Эти наблюдения можно отнести и к другим образам, например, к символике дуба в произведениях Тургенева и Толстого.
Контекстные обертоны образа дуба в «Рудине» и «Войне и мире» сближаются, как и обертоны орнитомотива. Слова Рудина о молодых листьях на дубе и описание душевного подъема, вызванного общением с Натальей Ласунской, нельзя не вспомнить в связи с символикой зазеленевше- го дуба в «Войне и мире» и внутренним монологом Андрея Болконского, его «весенним чувством радости и обновления» [34, т. 5, с. 165] под влиянием встречи с Наташей Ростовой. Традиционной осевой символике дуба как мирового и «вещего» дерева в том и другом случае сопутствует символика внутреннего обновления и возрождения. Если в романе Тургенева слова Рудина о дубе могут также означать скрытое сравнение с душевным состоянием героя и даже, как считает К. Кроо, «аллегорическое высказывание» [Там же, с. 121] о любви, то в «Войне и мире» князь Андрей не только сравнивает себя с дубом, но и разговаривает с ним, причем поверяет ему самое сокровенное. На персонажном уровне дуб в «Войне и мире», разумеется, не аллегория, но и не только «символ разных периодов духовной жизни Андрея Болконского» [17, с. 4]. Дуб еще и его собеседник вполне в друидическом духе (в мифологическом восприятии князя Андрея облака на небе Аустерлица, волны в реке, дуб, ели и березы – все наделены сознанием). Так что вряд ли можно в полной мере согласиться с А.Ф.Лосевым, что «в этой картине дуба нет никакой мифологии» [18, с. 235].
Жизнеутверждающая семантика дуба в том и другом романе связана с переживанием любви. Антропонимическая семантика ориентирована на продолжение жизни и природное начало в женщине: героини обоих романов носят имя «Наталья» (лат. «родная», «природная»), а Рудин, кроме того, – Дмитрий (имя, для Тургенева связанное с Деметрой и диалектикой жизни и смерти).
Осевая символика реки и дороги в том и другом романе может быть рассмотрена как намек на скитальчество героев (хотя принципиальный агасферизм Дмитрия Рудина глубоко отличен от миссии покровителя и защитника России – такова символика апостольского имени Андрея Болконского). В то же время, как показала И. А. Беляева, «донкихотством» герой Тургенева не ограничен, он может быть сопоставлен не только с героем Сервантеса, но и с «Сыном Человеческим» (см.: [4]).
В «Рудине» и в «Войне и мире» наличествуют горизонтальные осевые символы (река и дорога), которые могут пониматься как «неисчерпаемо-многозначное символическое выражение» [21, с. 132] «максималистской жажды абсолюта» [Там же], как выразился В. М. Маркович о Рудине. Но есть и другие смысловые обертоны. «Владельцы мельниц» [37, с. 315], противостоящие Рудину, интерпретируются исследователями как отсылка к «донкихотскому» началу (к этому нужно добавить, что река традиционно символизирует жизнь, а мельницы в фольклоре и литературе связаны с мортальной тематикой). В романах же Толстого («Война и мир», «Воскресение») имеет значение именно переправа через реку со всеми ее смыслами метанойи и инициации.
Сабля и знамя – осевые символы, связанные у Тургенева с эпилогом, то есть завершением сюжета, а у Толстого – с эпизодами перво- го тома, то есть с началом сюжетной линии князя Андрея и его «первой смертью» как первой кульминацией его сюжетной линии. (О вексилло-семантике в других эпизодах «Войны и мира» речь впереди). Поскольку сабля (меч) символизирует «духовную активность» [12, с. 323] (а сломанный меч – ее уничтожение), легко поддаться искушению интерпретировать символику холодного оружия слишком прямолинейно. (У Р. Барта сабля, шпага – «фаллическое оружие чести, поруганной любви, мужского самоутверждения» [2, с. 186], но Барт склонен абсолютизировать эротический контекст новеллы Бальзака). Шашка, «подарок отца, привезенный из-под Очакова» [34, т. 4, с. 133], у князя Андрея в большом почете и сбережении, у Рудина же сабля «кривая и тупая» [37, с. 322]. Герой Тургенева «карабкается» на баррикаду, «помахивая и знаменем, и саблей» [Там же]. Если некоторые исследователи пишут о гибели Рудина на баррикаде как о «бессмысленной с точки зрения результата общего дела восставших», но «жертвенной» [5, с. 149], «героической, но при этом и умиляющей в своей комической странности» [Там же, с. 205], или даже как о «смерти русского Дон-Кихота» [28, с. 249], то другие совершенно отрицают донкихотское в Рудине и настроены по отношению к этому герою гораздо более критически: «Странная его смерть – “сложное самоубийство” – вне трагического, героического, жертвенного. Она пародийно комична в отношении данных категорий» [8, с. 70].
Последняя точка зрения предполагает, по сути, что Тургенев отрицает «положительное историческое значение» людей типа Рудина, издевается над жертвенностью, даже высмеивает «карабкание» на баррикаду, «когда руки заняты и знаменем, и саблей» [Там же, с. 69]. И все же, какими бы идеологическими резонами и сложной позицией Тургенева в идейной полемике эпохи ни объяснять добавленный в издании 1860 года постэпилог, изображающий смерть Рудина на парижской баррикаде, вряд ли можно приписать авторской позиции карикатуру на рудинский тип и глумление над гибелью героя. Ведь в финале романа дается и философское обобщение «личностной противоречивости» [29, с. 98] Рудина, и метаситуация «несовпадения субъективной устремленности к идеалу и объективной невозможности ее реализовать по причине неготовности почвы, на которую падают семена» [Там же]. Нельзя не согласиться с мыслью, что это возвышает, а не принижает героя.
Игнорирование объективной семантики осевых символов, особенно таких, как знамя, даже в интерпретации, например, полотна «Свобода на баррикадах», являющегося одной из вершин творчества Э. Делакруа и всего французского изобразительного искусства эпохи романтизма, может привести к нелепым выводам о том, что фигура полуобнаженной и босой Марианны со знаменем в одной руке и оружием в другой тоже не отвечает боевой целесообразности. Кстати, если Тургенев признавал величие в пе- реплетении трагического с комическим (см.: [38, с. 14, 406]), то Делакруа в своем дневнике отмечал, что «смесь комического с трагическим невыносима» (цит. по: [Там же, с. 460]); в комментариях к 4-му тому Писем Тургенева высказано предположение, что «запись Делакруа косвенно связана с мнением Тургенева» [Там же]. Почему бы не предположить, что постэпилог романа Тургенева навеян впечатлениями от картины Делакруа, хотя хронологически приурочен к революции 1848 года (1848 год тоже в известной степени не согласуется с внутренней хронологией романа)? Возможно, что и на отступление от хронологического правдоподобия автор «Рудина» пошел ради создания обобщенной знаковой ситуации: героическая смерть на поле боя со знаменем в руках. Приуроченность финала романа к «июньским дням» 1848 года давала такую возможность.
Романтический пафос картины Делакруа уместнее, конечно, сопоставлять с творчеством романтиков, например, Ф. Шиллера. О шиллеров-ском элементе в романе «Рудин» писал боннский исследователь Петер Тирген [41], что было отмечено в обзоре Г. А. Тиме [32]; определенные корректировки в концепцию вносит статья Р. Ю. Данилевского. Как бы то ни было, подвергая сомнению некоторые параллели, проведенные П. Тиргеном между отдельными произведениями Шиллера и Тургенева, Данилевский в итоге соглашается с выводом немецкого ученого о том, что в «Рудине» шиллеровский элемент «объясняет нам, почему Тургенев привел в конце концов русского “лишнего человека” <…> на парижские баррикады» [11, с. 223]. В черновиках «Войны и мира» содержится упоминание о чтении князем Андреем Шиллера [33, с. 813]; отношению Толстого к наследию Шиллера посвящена работа немецкого исследователя Р. Клуге [13]. В духовном облике князя Андрея шиллеровское начало присутствует (несмотря на исключение упоминания о Шиллере из окончательного текста толстовского романа), и это тоже объединяет героя Толстого с Рудиным. Однако у Толстого, в отличие от Тургенева, читательские интересы главных героев обрисованы крайне скупо (за исключением масонского периода Пьера Безухова), и не потому, что князь Андрей и Пьер уступают тургеневским героям в силе мысли и широте интересов (в этом отношении среди героев русской классики вообще нет равных князю Андрею), а потому, что внутренний мир толстовского героя формируется не только историей и культурой, а всем мирозданием, которое историю и культуру уже в себе и содержит. Так что Шиллер, как и все духовное наследие человечества, для князя Андрея и Пьера включен в то самое восхождение, о котором говорит философия И. Г. Гердера. Поэтому сама философия Гердера, отчасти превращающаяся у толстовских героев в осевой символ, заслуживает упоминания в их философском диалоге.
Баррикада как субститут горы также является осевым символом; восхождение, даже если герой «карабкается» на гору, знаменует возвы- шение. Символика горы и жертвы связана в «Войне и мире» с образом князя Андрея, на Праценской горе он совершает свой подвиг во время Ау-стерлицкого сражения. В толстоведении установилась традиция подвиг этот принижать, видеть все значение эпизода лишь в толстовском неприятии честолюбия, наполеонизма и в отрицании роли личности. На самом деле Толстой роль личности не отрицает, но видит эту роль по-другому. В.В. Бибихин объясняет смысл «Тулона» князя Андрея: в результате атаки на французов, которые уже начали стрелять в главнокомандующего, Болконский «спас Кутузова от плена или смерти под Аустерлицем – совершенно странным образом читатели и критики, завороженные общим мнением об отсутствии исторического героя у Толстого, не замечают этого решающего подвига, важнее Тулона, потому что Кутузов потом решает исход русской кампании Наполеона» [6, с. 194–195].
Итак, тема жертвенности и жертвы на горе как обобщенное значение постэпилога романа Тургенева и эпизода на Праценской горе в «Войне и мире» отсылает к сопоставлению с Голгофой, что в «Войне и мире» поддерживается еще и перифразом этого сакрального топоса в названии имения Болконских: Лысые Горы. Да и в романе Тургенева подчеркивается, что, ожидая Наталью, Рудин стоит «на юру», на плотине, то есть все-таки на возвышении. Одинокое дерево близ дороги (дуб, по крайней мере, растет особняком среди берез, на краю дороги, как подчеркивает Толстой), то есть два направления, которые пересекаются (горизонтальное и вертикальное), даже вне зависимости от смысловых интенций автора символизируют крест как акт жертвенной решимости. (О евангельском контексте эпизода с дубом в «Войне и мире» см.: [26, с. 90–91].) Что же касается Рудина, то, каким бы нелепым ни выглядело его «карабкание» на баррикаду, оно должно быть рассмотрено в контексте символики восхождения. Подъем (на гору, лестницу, башню), шаманское влезание на дерево, левитация – любое возвышение соотносится с посвящением и переходом на высшую, более совершенную ступень сознания. Именно такое посвящение, пусть совершившееся в считанные секунды перед смертью на баррикаде, сообщает герою Тургенева осознание положения человека в мире и завершается его поклоном «высшим силам». Выронив знамя, Рудин «повалился», «точно в ноги кому-то поклонился» [37, с. 322]. Не так стремительна, но так же направлена метанойя Андрея Болконского на Праценской горе. Раненый, он падает, знамя достается неприятелю как трофей, Болконский же обретает высшее знание о торжественном небе. В том и другом эпизоде знамя как осевой символ военного, хюбристиче-ского самоутверждения заменяется в результате посвятительного возвышения символом трансцендентности (поклон «высшим силам» у Рудина, торжественное небо над Праценской горой у Болконского).
Семантика знамени в «Войне и мире» Толстого амбивалентна. Называя знамена «кусками материи на палках» [34, т. 6, с. 274], Толстой при- бегает к знаменитому остранению, служащему в «Войне и мире» для развенчания официальных ритуалов, прежде всего милитаристских, а также военной атрибутики. Вместе с тем в большинстве эпизодов «Войны и мира» символика знамени выступает в связи с самосознанием и достоинством нации, недаром Кутузов в эпизоде встречи с Преображенским полком говорит солдату, в руках которого взятое в плен французское знамя: «Нагни, нагни ему голову-то» [Там же, т. 7, с. 199]. Понятно, что в этом случае знамя есть знамя, «эмблема власти, <…> воплощение духа группы людей или их лидера» [35, с. 120], и «французский орел» (французские знамена украшались наверху изображением орла) склоняется перед знаменем Преображенского полка (подробнее см.: [27]). Склонение знамен побежденных символизировало поражение еще и потому, что знамя как эмблема непременно должно было занимать возвышенное положение. Семантика возвышения эмблемы в данном случае важнее, чем семантика самой эмблемы, причем эта осевая символика – одна из древнейших. Так, в вишнуитской мифологии известен спор Вишну и Гаруды, когда Вишну соглашается поднять над собой знамя с изображением Гаруды (но при этом Гаруда используется как ездовое животное Вишну). В буддизме большое значение имеет сутра «Верх знамени». Эта сутра говорит о том, что от страха смерти помогает избавиться один только взгляд на «верх знамени», который символизирует «три прибежища»: Будду, дхарму (учение) и сангху (общину буддистов; см.: [9, с. 468]).
Упоминания о знаменах в Библии связаны прежде всего с теофа-нией и военными победами. «В псалмах именно Бог дарует знамя Своему народу» [30, с. 384]. Однако в стихотворении «Бородино» М. Ю.Лермон-това знамена упоминаются скорее в духе античной, плутарховской традиции («Носились знамена, как тени»), то есть тень героя (это может быть genius loci ), вдохновляет своих соотечественников на битву. Плутарх, например, говорит о призраке (тени) Тесея, который был виден перед войском афинян в битве при Марафоне («Тесей и Ромул»).
Известно, что прототипической ситуацией для изображения подвига князя Андрея в «Войне и мире» был подвиг в Аустерлицком сражении Ф.И. Тизенгаузена, любимого зятя Кутузова (см., например: [22, с. 184]); описание войны 1805 года в книге Михайловского-Данилевского послужило одним из исторических источников «Войны и мира». Другой подобный случай связан с Бородинским сражением. «Генерал-майор Александр Тучков 4-й имел славную, редчайшую участь быть убитым с полковым знаменем в руках» [23, с. 112]. По М. Ф. Мурьянову, знамя означает не только «присутствие духа», но «горение духа». «Участникам боя, чтобы они не дрогнули, чтобы ни на мгновение не растерялись, подаются особые знаки духа. Важнейший из этих знаков – полковое знамя, поднимаемое высоко вверх» [24, с. 407].
Символика знамени не была пустым звуком и для Тургенева. Приведем одно из характерных для Тургенева обращений к вексиллосемантике (в письме к А. И. Герцену от 13 (25) ноября 1862 г.): «Я все-таки европеус – и люблю знамя, верую в знамя, под которое я стал в молодости» [39, с. 131]. Нельзя не упомянуть, что С. Н. Тургенев, отец писателя, в 1812 году был знаменосцем Кавалергардского полка, участвовал в Бородинском сражении. В отличие от Толстого, Тургенев нигде не подвергает ни сомнению, ни остранению возвышенный смысл вексиллосемантики. Неуклюжая фигура Рудина со знаменем в руке – ни в коей мере не инверсия возвышенной век-силлосемантики, а символ трагической и одинокой гибели.
Тема «тургеневского текста, скрытого в подтексте “Войны и мира”» [36, с. 69], обычно рассматривается без учета того обстоятельства, что вопрос о знакомстве Л. Н. Толстого до или во время написания «Войны и мира» с постэпилогом «Рудина», то есть с «вексиллосеман-тическим» финалом, до сих пор не прояснен. Известное свидетельство В. Ф. Лазурского, зафиксировавшего воспоминания Толстого о чтении Тургеневым «Рудина» в окружении Н.А. Некрасова до сдачи романа в печать и отзыв Толстого об этом чтении («Как это – Тургенев, и мог написать такую фальшивую, придуманную вещь» [15, с. 450]), не проясняет, знакомился ли позже (в 1860–1865 годах) Толстой с изданием 1860 года, в котором «Рудин» был дополнен постэпилогом. А. И. Батюто, к примеру, вообще склонен подчеркивать именно разницу в понимании героического Тургеневым и Толстым [3, с. 245–259]. Еще Г.А. Бялый, отметив, что смерть Рудина «снимает с него все тривиальное, все мелкое» [7, с. 86], продолжал сравнение творческой манеры Тургенева и Толстого, но обращался к демонстрации «диалектики души» на примере не «Войны и мира», а рассказа «Севастополь в мае» (описание смерти Праскухина), в чем шел вслед за Н.Г.Чернышевским.
Л. Д. Опульская объясняет отзыв Толстого тем, что «совершенно романтические пассажи, любование романтическим отношением к жизни можно встретить и в реалистических повестях и романах Тургенева» [10, с. 221], Толстому же, по мысли исследовательницы, «это было совершенно неведомо» [Там же]. Думается, что дело здесь в другом. Не романтическое, а мифологическое сознание не только не «неведомо», но очень свойственно тому и другому, но Тургенев еще инстинктивно опасается возможных грубых обвинений в равнодушии к «социальности» и в симпатиях к «марлинщине» (еще и поэтому он заставляет Рудина неуклюже «карабкаться» и «помахивать» саблей), а Толстой с его говорящими волнами и мыслящим дубом совершенно свободен от всяких оглядок на идейные направления и литературные тенденции. Это заметно уже при сопоставлении произведений 1855 года: тургеневского «Рудина» и толстовских севастопольских рассказов.
Вернемся к вопросу о возможных реминисценциях. 10 ноября 1856 г. Толстой записывает в дневнике: «Купил книгу, <…> прочел все повести Тургенева» [34, т. 21, с. 165]. Имеется в виду издание «Повестей и рассказов» Тургенева (1856), туда входил и «Рудин», но еще без постэпилога. В годы работы над «Войной и миром» Толстой читает «Довольно» (1865) и «Дым» (1867), отзывы об этих произведениях Тургенева есть в письмах Толстого. В 1883 году он перечитывает Тургенева в собрании сочинений 1880 года, в том числе и «Рудина» (в редакции 1860 года), делает многочисленные пометки (тема подробно освещена Т.Н. Архангельской в ряде работ: [1; и др.]), но к вольным или невольным перекличкам с «Войной и миром» это чтение, разумеется, отношения уже не имеет.
Cопоставление вексиллосемантики двух произведений возможно в широком смысле и без решения вопроса о времени знакомства Толстого с опубликованным (а может быть, и пересказанным самим автором) постэпилогом «Рудина». В любом случае нельзя не отметить объединяющую образы Рудина и Андрея Болконского символику осевого и возвышенного. Обратим внимание еще на одну черту сходства между героями, не имеющую, на первый взгляд, отношения к вышеназванным смысловым структурам. В четвертой главе романа автор замечает, что Рудин «засмеялся, что с ним случалось очень редко» [37, с. 234] – характеристика, как будто несколько приглушенная в придаточном предложении, да и не такая уж подробная на фоне других, куда более развернутых. У Толстого тоже говорится довольно кратко о том, что князь Андрей «редко смеялся, но зато когда он смеялся, то отдавался весь своему смеху…» [34, т. 5, с. 238]. Эти лаконичные штрихи в обоих случаях выявляют не только особенность психологического склада героя; они потому так осторожны, что вступают в диалог с нуминозным и возвышенным. Христос никогда не смеялся.
Постэпилог «Рудина», не совсем вписывающийся во внутреннюю хронологию романа, обобщает и выявляет вневременный смысл этого произведения как сюжета об искупительной жертве. Смерть Рудина не на кресте, но со знаменем, не на Голгофе, но на баррикаде придает и другим эпизодам романа иное смысловое излучение, без которого они действительно выглядят необязательными, «придуманными» (по словам Толстого, охарактеризовавшего свое впечатление от первого знакомства с романом, еще не имевшим постэпилога). В контексте новозаветного сюжета (и истории христианства) воспринимаются воспоминания Лежнева о Покорском, который Лежнева «увел к себе» [37, с. 254], рассказ о кружке, в котором «иго носили» [Там же, с. 256], обсуждали «истину» на «сходках», где Лежнев «совсем переродился: смирился, расспрашивал, учился, радовался, благоговел – одним словом, точно в храм какой вступил» [Там же, с. 257]. Это повествование Лежнева, своеобразный «текст в тексте», подсвечено аллюзиями на новозаветный сюжет, на деятельность апостолов и их «Деяния», «Послания», а также на свидетельства о быте первых христианских общин. Эпизод вечернего застолья в «первые дни мая» [Там же, с. 298] с участием Басистова («ученика» Рудина) и с объединяющим всех тостом Лежнева в честь Рудина ориентирован на метаситуацию пасхального топоса и евхаристии.
Тезис И. А. Беляевой о прямой соотнесенности героя Тургенева с «Сыном Человеческим» [4] раскрывает смысл «Эпилога» (заканчивающегося молитвенным обращением «И да поможет господь всем бесприютным скитальцам!» [37, с. 322]), но не касается постэпилога, добавленного в издании 1860 года. Между тем, именно постэпилог, этот ритуальный финал, добавленный позже, является еще более действенным импульсом, ключом к реставрации новозаветного сюжета, причем главным образом благодаря осевой символике, сконцентрированной в нескольких строчках постэпилога.
Позднее ритуальный финал становится отличительной чертой тургеневского мифологического романа («Дворянское гнездо», «Отцы и дети»). «Рудин», «Отцы и дети» написаны не только Тургеневым-художником, но и Тургеневым – религиозным мыслителем. «Доброе слово – тоже дело» [Там же, с. 319], но почему после проповеди и жертвы Христа мир все так же лежит во зле. Мифологический роман задается этим вопросом. «Особенно важным в структуре романа-мифа оказываются два приема – “введение в мифологическую ситуацию” и “открытый ритуальный финал”. Прием “введения в мифологическую ситуацию” необходим писателю, чтобы отвлечь читателя от обыденного смысла, нарушить безусловность мира и погрузить человека (героя и читателя) в мир тайный – мир пророчеств и откровений, где царит священная реальность и где жизнь строится по законам мифа» [31, с. 25]. Возможно, что скандинавская легенда, рассказанная Рудиным, и есть такое экономное «введение в мифологическую ситуацию», а уж смерть на баррикаде стала тем знаковым ритуальным финалом, который превратил тургеневский роман о «лишнем человеке» в роман о голгофском восхождении и осевых символах. В сущности, в сюжетной линии Андрея Болконского у Толстого скрыт тот же смысл, причем введением в мифологическую ситуацию служит ситуация, напоминающая ритуальный финал «Рудина», – первая (мифологический герой умирает и возрождается) смерть Болконского в Аустерлицком сражении со знаменем в руках.
The Moscow City Teachers Training University the Department of Russian Literature
Список литературы Осевые символы в романах Л.Н. Толстого и И.С. Тургенева
- Архангельская Т.Н. Пометы Л.Н. Толстого в текстах художественных произведений И.С. Тургенева (По материалам яснополянской библиотеки Л.Н. Толстого) // Спасский вестник. № 11. Тула: Гриф и К, 2004. С. 205-218.
- Барт Р. S/Z. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 232 с.
- Батюто А.И. Избранные труды. СПб.: Нестор-История, 2004. 960 с.
- Беляева И.А. "Помни мои последние три слова": К вопросу о структуре финалов в романах Тургенева // Филологический класс. 2018. №3. С. 25-32.
- Беляева И.А. Система жанров в творчестве И.С.Тургенева. М.: Московский городской пед. ун-т, 2005. 248 с.
- Бибихин В.В. Дневники Льва Толстого. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012. 478 с.
- Бялый Г.А. Тургенев и русский реализм. М.; Л.: Сов. писатель, 1962. 247 с.
- Васильев В.К. И.С.Тургенев и его герои в свете утопии и антиутопии // Русский проект исправления мира и художественное творчество XIХ-ХХ веков: сб. науч. ст. М.: Флинта: Наука, 2011. С. 65-84.
- Вопросы Милинды (Милиндапаньха). М.: Наука, 1989. 485 с.
- Громова-Опульская Л.Д. Избранные труды. М.: Наука, 2005. 530 с.
- Данилевский Р.Ю. Шиллеровский элемент в романе "Рудин" (по поводу исследования П.Тиргена) // И.С.Тургенев. Вопросы биографии и творчества: сб. науч. ст. Л.: Наука, 1982. С. 217-223.
- Керлот Х.Э. Словарь символов. М.: REFL-book, 1994. 608 с.
- Клуге Р.Д. Лев Толстой и "Разбойники" Ф.Шиллера (Некоторые замечания об отношении Льва Толстого к Фридриху Шиллеру) // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 1996. № 2. С. 87-94.
- Кроо К. Интертекстуальная поэтика романа И.С. Тургенева "Рудин": чтения по русской и европейской литературе. СПб.: Изд-во ДНК, 2008. 247 с.
- Лазурский В.Ф. Дневник В. Ф.Лазурского // Литературное наследство. Т. 37-38. Л.Н. Толстой. Кн. 2. М.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 443-509.
- Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. Т. 9: Литературно-критические статьи и рецензии 1860-1890 годов. СПб.: Изд-во "Владимир Даль", 2014. 974 с.
- Лосев А.Ф. Символ и художественное творчество // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. Т. XXX. Вып. 1. М., 1971. С. 3-13.
- Лосев А.Ф. Диалектика символа и его познавательное значение // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. XXXI. Вып. 3. М., 1972. С. 228-238.
- Лотман Ю.М. Символ в системе культуры // Лотман Ю. М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн: Александра, 1992. С. 191-199.
- Ман П. де. Аллегории чтения: фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1999. 368 с.
- Маркович В.М. И.С.Тургенев и русский реалистический роман XIХ века (30-50-е годы). Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. 208 с.
- Михайловский-Данилевский А. И. Описанiе первой войны Императора Александра съ Наполеономъ въ 1805 году. СПб.: Тип. Штаба Отдѣльного Корпуса Внутренней стражи, 1844. 291 с.
- Мурьянов М.Ф. Из символов и аллегорий Пушкина. М.: Наследие, 1996. 282 с.
- Мурьянов М.Ф. История книжной культуры России. Очерки: в 2 ч. Ч 2. СПб.: Мiръ, 2008. 648 с.
- Никитина Н.А. Ясная Поляна и Спасское-Лутовиново: единство образа жизни // Спасский вестник. № 8. Тула: Лев Толстой, 2001. С. 152-158.
- Полтавец Е.Ю. Образы природы в "Войне и мире" Л. Н. Толстого сквозь призму мифа // Яснополянский сборник: 2008. Тула: Изд. дом "Ясная Поляна", 2008. С. 85-104.
- Полтавец Е.Ю. Национальная вексиллосемантика как парадокс в "Войне и мире" Л.Н. Толстого // Л. Н. Толстой и русская отечественная мысль о национальном воспитании: материалы Междунар. научно-практ. конференции / Гос. гуманитарно-технологич. ун-т. Орехово-Зуево, 2016. С. 226-232.
- Прозоров Ю. М. Тургеневский лекторий // Спасский вестник. № 23. Тула: Аквариус, 2015. С. 224-249.
- Ребель Г.М. Тургенев в русской культуре. М.; СПб.: Нестор-История, 2018. 376 с.
- Словарь библейских образов. СПб.: Библия для всех, 2005. 1423 с.
- Телегин С.М. Русский мифологический роман. М.: Спутник+, 2008. 351 с.
- Тиме Г.А. И.С. Тургенев в литературоведении ГДР и ФРГ последних лет // Русская литература. 1981. № 3. С. 193-197.
- Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. Т. 13. М.: Худож. лит., 1949. 882 с.
- Толстой Л.Н. Собрание сочинений: в 22 т. М.: Худож. лит., 1978-1985.
- Тресиддер Дж. Словарь символов. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. 448 с.
- Трофимова Т.Б. И.Тургенев и Л.Толстой: литературные параллели // Спасский вестник. № 15. Тула: Гриф и К, 2008. С. 69-74.
- Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 12 т. Т. 5. М.: Наука, 1980. 544 с.
- Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. Т. 4. М.: Наука, 1987. 768 с.
- Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. Т. 5. М.: Наука, 1988. 640 с.
- Шафранская Э.Ф. Современная русская проза (мифопоэтический ракурс): учеб. пособие. М.: Ленанд, 2015. 216 c.
- Tiergen P. Turgenevs Rudin und Schillers Philosophische Briefe. Giessen: W. Schmitz Verlag, 1978. 66 p.