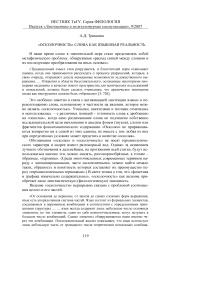«Осколочность» слова как языковая реальность
Автор: Травкина Альбина Дмитриевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 9, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120465
IDR: 146120465
Текст статьи «Осколочность» слова как языковая реальность
«ОСКОЛОЧНОСТЬ» СЛОВА КАК ЯЗЫКОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В наше время слово в значительной мере стало представлять собой метафизическую проблему, обнаруживая «распад связей между словами и их последующее преобразование на иных основах».
«Традиционный смысл слов разрушается, и блюстителей норм охватывает паника, когда они принимаются рассуждать о процессе разрушений, которые, в свою очередь, открывают доселе невиданные возможности художественного выражения. … Открытия в области бессознательного, осознанные некоторыми пионерами медицины в качестве нового пространства для магическоих исследований и осмыслений, должны были сделать очевидным, что архаическое понимание языка как инструмента должно быть отброшено» [3: 726].
Это особенно заметно в связи с активизацией «интенции языка» к перевоплощению слова, основанному в частности на явлении, которое можно назвать «осколочностью». Учеными, писателями и поэтами отмечалась и использовалась – с различных позиций – готовность слова к дроблению на «осколки», когда само разламывание слова не подчинено собственно исследовательской цели вычленения и анализа фонем (звуков), слогов или фрагментов фоносемантического содержания. «Осколки» не приравниваются конкретно ни к одной из этих единиц, но вместе с тем любая из них при определенных условиях может предстать в качестве «осколка».
Обозначения «осколки» и «осколочность» не носят терминологического характера и скорее имеют разговорный вид. Однако за неимением лучшего обозначения в дальнейшем, на протяжении всей статьи, будут использоваться именно эти, можно сказать, разговорнообрáзные, а точнее – óбразные, «термины». (Среди многочисленных современных терминов наряду с латинизированными, часто малопонятными, можно найти немало таких, образность и понятность которых составляет их преимущество перед «терминологичными терминами».) В свете тезиса о том, что «фонетика и графика изначально содержательны», «осколочность» как явление приобретает свою лингвистическую (филологическую) значимость.
Явление «осколочности» неразрывно связано с проблемой соотношения целого и его частей.
«От основания до вершины, от звуков до самых сложных форм выражения, язык есть упорядоченная система частей. Язык состоит из формальных элементов, соединяемых в переменные комбинации в соответствии с определенными принципами структуры … … язык всегда содержит лишь небольшое число основных элементов, но эти элементы, сами по себе немногочисленные, могут вступать в большое число комбинаций. Самые элементы обнаруживаются нами именно через эти комбинации. Последовательный анализ показывает, что язык использует лишь небольшую часть от громадного числа теоретически возможных комбина- ций, которое могло бы дать свободное соединение минимальных основных элементов» [1: 23].
Концепция целого, детерминирующего все свои части, предполагает, что отдельная часть знака не может исследоваться без обращения к знаку в целом. Один тип этих отношений связан с требованием адекватного учета фаз артикуляции, а при другом типе отношений между целым и частью слово «целое» означает «некоторый временной период, в пределах которого частями являются временные интервалы, и ни целое, ни части не должны быть непрерывными во времени» (Цит. по: [13: 303]). Если, например, слово принимается за временной период, т.е. целое, то его части – за временные интервалы в пределах этого целого. «С реалистической точки зрения язык не может быть интерпретирован как изолированное и герметически закрытое целое, а должен рассматриваться одновременно и как целое, и как часть» [Ibid]. Слово «целое» может относиться к модели отношений, которая получает воплощение при различных обстоятельствах и с различными модификациями. Если целое является «моделью отношений», то часть может относиться к любому из элементов, которые «соотнесены по этой модели в конкретном ее воплощении, реализации». При этом части целого могут находиться «в различных взаимоотношениях динамической зависимости».
Неотъемлемыми свойствами языкового целого являются принцип равновесия и «одновременная тенденция к его нарушению». Стремление к сохранению динамического равновесия требует от языка проявления свойств саморегулирования и самоуправления. Вместе с тем имеются сферы языка, для которых характерны нарушения равновесия.
«Если фонологическая система интеллектуального языка (то есть языка в его познавательной функции), как правило, и в самом деле стремится к равновесию, то в противоположность этому конститутивным элементом эмоционального и поэтического языка является как раз нарушение равновесия» [12: 131].
Эмоциональная речь не останавливается даже перед деформацией фонологической структуры (смешение и «проглатывание» фонем и т.д.) в силу того, что в эмоциональной речи «репрезентация уступает первенство экспрессивности».
«Поэтическая функция побуждает язык преодолевать автоматизм и неощутимость слова, что также ведет к смещениям в фонологической структуре» [Op. cit: 132].
Структура любого предмета, по мнению А.Ф. Лосева, есть «его единораздельная цельность, или та или иная система отношений между его частями, включая также и отношение его частей к нему как к целому» [5: 158]. Более того, «можно брать какие угодно сочетания фонем и всякое такое сочетание, даже в целом бессмысленное, обязательно имеет свой смысл в пределах непосредственной значимости самих же этих фонем»
[Ibid]. Следующие сочетания фонем, по его наблюдению, обладают определенной смысловой нагрузкой. т.е. «уже в самой структуре несут нечто осмысленное»: (1) согласный + гласный + согласный звуки ( пал , пел , пил , пол , пыл ); (2) два согласных + гласный + согласный ( брал , брат , бред , брёл ); (3) согласный + гласный + два согласных( бокс , лоск , мозг , мост , пост , пуск , тост ); (4) два согласных + гласный + два согласных ( блеск , грамм , грипп , плеск , треск ); (5) три гласных, разделенных между собою согласными ( наводил , наколол , напевал , приходил , собирал , умирал ). Соответственно и слог рассматривается им как «такой звук или такое сочетание звуков, которое, будучи динамически выраженным, сохраняет свою семантику во всех словах, где оно встречается» [Op. cit.: 163]. Сходная мысль о сохранении свойств целого в отдельной части высказывалась и другими исследователями. А.П. Флоренский, развивая идею «само-организации» в связи с обсуждением формы художественного произведения, пишет:
«Целое, рассматриваемое нами, есть как бы развитие или раскрытие той большей его части, из которой вырастает другая часть, меньшая. Но понятно, что это целое не дает полного удовлетворения восприятию законченности, ибо не до конца исчерпывает потенции, содержащиеся в идее его. Если часть целого, чтобы вырасти в целое, наращивает на себя некоторый прирост, то почему самый этот прирост не может или, точнее, не должен раскрыться – путем наращивания на себе своего прироста? Если идею целого мы понимаем как рост, как раскрытие потенции через само-расчленение, через само-организацию, то как же можно думать, что этот рост, это раскрытие, это саморасчленение прекращается не по достижении внутренних границ, не по изнеможению ростящих сил, а обрывается на первом же выросшем члене?» (Цит. по: [9: 98]).
Еще одна классическая проблема, имеющая прямое отношение к «ос-колочности», – это, в потебнианской формулировке, проблема «мысли и языка», или, точнее, «деятельности мысли в языке». Как подчеркивает А.А. Потебня, «область языка далеко не совпадает с областью мысли» [8: 41]. Однако, несмотря на нетождественность мысли и слова, в природе членораздельный звук «встречается только в человеческой речи, служит только для изображения мысли, а потому только от свойств мысли заимствует все свои признаки» [Op. cit.: 80]. Одним из свойств мысли является «обрывочность», «неопределенная туманность», подобная той, которую Г. Шпет отмечает у смыслового содержания:
«… смысловое содержание можно уподобить той материи, которая заполняет собою пространства, из вращательного движения которой вокруг собственного центра тяжести и от конденсации которой складываются в систему хаотические туманности. Живой словарь языка – хаос, а значение изолированных слов – всегда только обрывки мысли, неопределенные туманности. Только распределяясь по … многочисленным формам, … смысл приобретает целесообразное органическое бытие» [11: 227].
«Осколочность» слова как бы повторяет эту особенность мысли, и это – еще один аргумент в пользу словесной «обрывочности», «осколочно-сти».
«Осколочность» обсуждается здесь в непосредственной связи с превращениями внешней формы слова. С.Е. Бирюков [2] различает, с одной стороны, превращения, которые «совершаются в самом языке почти без вмешательства его носителя», т.е. являются природными превращениями, а с другой – превращения, которые «не обходятся без участия человека». В первом случае речь идет о палиндромических и анаграмматических словах, существующих в естественном языке. Действительно, в разных языках обязательно найдутся как палиндромические (русск. как , поп , тот , кабак , шалаш ; англ. dad , deed , eye , gag , level , madam , peep , noon ), так и анаграмматические (русск. сон – нос , ком – мок , бук – куб , горб – гроб , ропот – топор , скала – ласка ; англ. bag – gab , bud – dub , draw – ward , lap – pal , live – evil , loot – tool , mar – ram , mid – dim , nab – ban , pan – nap , pin – nip , pot – top , rat – tar , rood – door , tip – pit и др.) слова. Ясно, что никто не создавал их сознательно по принципу палиндромичности или анаграммичности, поскольку этот последний не замечен среди стандартных способов словообразования. Их появление обязано случайности, но случайности, обусловленной, по крайней мере, двумя факторами, или, скорее, ограничениями. Во-первых, новое слово строится из имеющегося, «старого» материала в духе рациональности, оптимальности. Во-вторых, наличие огромного количества односложных (и двухсложных) слов, особенно в английском языке, резко увеличивает возможности для действия палиндромичности и ана-граммичности. Кроме того, следует признать, что палиндром и анаграмма прежде всего подразумевают искусственное происхождение и типично соотносятся с фразой, а не словом, отчего осколочность сказывается еще сильнее. Трудно не заметить, что палиндром и анаграмма содержат элемент игры, известной свободы, столь привлекательной для литераторов, являясь тем самым игровыми формами, позволяющими вывести на поверхность глубинные слои языка. Именно языковая игра «позволяет насладиться буйством парадоксов, отмечающих наше существование в языке», остается только «освободить слова от их непосредственных современных контекстов, дабы раскрыть их громадную толщу»; игра слов – лишь один из способов высвободить глубинные смыслы слов [6: 725].
К превращениям «не без участия человека» С.Е. Бирюков относит «“скорнение” слов, перетекновение одного слова в другое, разъединение одного слова на несколько, соединение слов», вводя для этих операций со словом специальное обозначение – переразложение [2: 70]. Однако в естественном языке тоже наблюдаются случаи переразложения, в частности, «разъединение одного слова на несколько» (здесь – в его графическом варианте): русск. сутки – с утки , вампир – вам пир , замаслить – зама слить , ирис – и рис , ирод – и род ; англ. doit – do it , herring – her ring , hither – hit her . А следующие примеры иллюстрируют соединения слов, которые «со-
ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ
___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация », 9/2007___ вершаются в самом языке почти без вмешательства его носителя»: были на – былина , за тем – затем , в купе – вкупе , вор она – ворона , вы есть – выесть , за пасть – запасть , из вод – извод и др.; англ. dragon – drag on , her man – Herman , his panic – hispanic , on us – onus . Иными словами, граница между природными и экспериментальными превращениями оказывается весьма условной, а целесообразность их дифференциации – небесспорной. Иной подход связан с акцентуацией понятия превращения в качестве обобщающего, охватывающего как природные, так и искусственные преобразования. При этом различные виды и техники превращения призваны обеспечить доступ к механизму действия «осколочности» при перевоплощении слова.
Фрактальное, или творческое, блуждание в языке характерно для ситуации художественного, творческого акта. В произведениях авангардного искусства, где поэт является творцом языка, изобретателем знаков, где словам придаются несвойственные стандартному языку звучания и ассоциации, особенно заметен принцип «кратности», «дробности». Однако не стоит думать, что такие превращенные внешние формы слов типичны исключительно для авангардных произведений; они встречаются у классиков художественной литературы, а также в естественной речи. Было бы заблуждением также считать их современным приобретением – достоянием, скажем, последних веков. По свидетельству чешской исследовательницы С.Матхаузеровой, еще древнерусские авторы использовали приемы работы со словом, сходные с теми, что наблюдаются у «авангардистов». «Самови-тое слово» В. Хлебникова в этом смысле предстает в качестве преемника, наследника «словоизвития». При этом, как подчеркивает С. Матхаузерова, «словоизвитие» и «самовитое слово» – это «не статические звуковые пятна, украшающие текст извне, а динамические экстракты, постигающие смысл структуры знака и его содержания» (Цит. по: [2: 75]).
Монтаж новых слов на основе принципа осколочности предпринимался на только на материале родного языка. Идея интернациональности «осколков» слов была близка Платону Лукашевичу и Александру Туфанову. В 50 – 80-е гг. XIX в. Платон Лукашевич, прослеживая историю корней разных языков (греческого, еврейского, латинского, немецкого, английского, французского и др.), пришел к открытию «чаромантия», т.е. магической, первичной сути языка. В книге «Мнимый индо-германский мир, или Истинное начало и образование языков немецкого, английского, французского и других западноевропейских» (Киев, 1873) П.А. Лукашевич сообщает:
«Мною было открыто чаромантие, или обратное чтение корней слов какого бы то ни было языка. <…> Нередко немецкое коренное слово в обратном чтении отыскивается в языке французском, в английском или другом западноевропейском, а затем уже легко находится у Охотского моря или в степях Монголии» (Цит. по: [2: 101]).
Аналогичным образом Александр Туфанов в своем стремлении проникнуть внутрь, к праосновам языка, и «воскресить» функции фонем в других славянских языках, открывает 20 законов о «звуковых лучах» и создает новый язык из простых морфем, простых звуковых комплексов, представляющих собой «осколки» английских, китайских, русских и других слов. «Воскрешая» функции фонем этих языков, он приходит к удивительному выводу:
«Если бы человечество на дальнейших ступенях своего развития не перешло от уподобительных жестов к сравнению предметов (абстракция) с сопутствующим ему словом (после изобретения первого топора), а передавало бы при общении – только самые двигательные процессы и само движение, тогда, надо полагать, на земном шаре была бы только одна Заумь – страна с особой культурой, богатым миром ощущений при многообразном проявлении формы (ритма) на материи (ритмичном сознании), но без признаков ума, без представлений о смерти, без развернутых при пространственном восприятии времени идей и эмоций. Было бы царство без-умия с искусством за-умия» (Цит. по: [2: 233–234]).
В художественной практике идея интернациональной «осколочности» реализована величайшим мастером формы Джеймсом Джойсом, который, используя свое знание множества языков мира, а также мертвых и современных языков Британской империи, «творит на страницах своих текстов альтернативную языковую вселенную» [3: 729].
«“Каждая буква ниспослана Богом”, – говорит Джойс. Каждое слово тогда – аватара, откровение, эпифания. Ибо каждое слово – произведение единого человеческого духа, соединяющее в себе всю полноту познавательного процесса. С этой точки зрения слова могут рассматриваться как не просто знаки, а как сущности, имеющие свою физическую и духовную жизнь, одновременно и индивидуальную, и коллективную» [6: 719].
В приведенном ниже отрывке из «Поминок» Джойса многие знаменательные слова требуют декодирования, которое не всегда оказывается столь же прозрачным, как в случаях passencore , Armorica , penisolate , them-selse или avoice :
«Sir Tristram, violer d’amores, fr’over the short sea, had passencore rearrived from North Armorica on this side the scraggy isthmus of Europe Minor to wielderfight his penisolate war: nor had topsawyer’s rocks by the stream Oconee exaggerated themselse to Laurens County’s gogios while they went doublin their mumper all the time: nor avoice from afire bellowsed mishe mishe to tauftauf thuartpeatric not yet, though venis-soon after, had a kidscad buttended a bland old isaac: not yet, though all’s fair in vanes-sy, were sosie sesthers wroth with twone nathandjoe».
Именно для таких случаев следует признать справедливость следующего высказывания:
«Не вызывает сомнений то, что в определенных ситуациях человек разумный способен перейти на “заязыковой” или “сверхъязыковой” уровень общения, когда мы прекрасно понимаем смыслы, принципиально игнорируя те или иные словесные оболочки» [4: 125].
«Осколки» слова, как и полагается осколкам вообще, могут быть различного размера и структуры; они могут представлять собой «выемки» из разных мест (начального, срединного, конечного) слова или, напротив, вставочные сегменты (элементы), вкрапления которых оказываются в конце концов не чужеродными, а органичными для того или иного конкретного слова, отвечая условиям оптимальности. «Осколочность» способна реализоваться одновременно в разных видах, в результате чего внешняя форма слова подвергается сложным превращениям. Особенно ярко «осколоч-ность» проявляется в аббревиации, совсем «молодом» способе словообразования, получившем широкое распространение лишь в XX веке. В ставших привычными графических сокращениях т.д. и т.п ., как и в т.е ., используются «осколки» величиной с букву. В русском языке слово пиар передает побуквенное произношение английской аббревиатуры PR ( public relations ). (Ср. со словом элемент , в составе которого содержатся наименования букв l , m , n .) А слово радар является заимствованием из английского, где radar состоит из начальных букв слов, входящих в сочетание radio detection and ranging (обнаружение и определение расстояния при помощи радио), и читается как одно слово. Приведу пример «осколочной» аббревиатуры из произведения М. Веллера «Мое дело»:
«Я обжился в Доме Союза писателей, то бишь Ленинградской писательской организации, им. Маяковского на ул. Воинова. Члены жюри, то бишь руководители семинара фантастов и научпоповцев, были те же всем нам близкие члены бюро секции науч. фан. и поп. лит-ры Лен-й пис. орг-и СП СССР ».
«Осколки» различного размера соединены в следующих английских неологизмах: brunch из br (eakfast) и (l) unch ; spam из sp (iced) и (h) am ; chun-nel из ch (annel) и (t) unnel ; informercial из infor (mation) и (com) mercial ; bit (на компьютерном жаргоне) из b (inary) и (dig) it ; modem из mo (dulator) и dem (odulator).
Многие поколения поэтов пробовали слово «на изгиб, на излом, на разрыв». Техника р а з р ы в а слова применялась Г.Р. Державиным, разъединявшим имена Наполеон и Багратион :
О, как велик На-поле-он!
Он хитр, и быстр, и тверд во брани;
Но дрогнул, как к нему простер в бой длани
С штыком Бог-рати-он» (Г. Державин, «На Багратиона»).
Как видно, здесь разрыв слова является с м ы с л о в ы м, мотивированным: Наполеон превращается в На-поле-он, а Багратион – в Бог-рати-он. Неол Рубин в книге «Дум-дум. Стихомонстрэллы. Разрывные слова дум-дум. Романэски» (1915) рассекает слово графиня и вставляет в него стройно, так что получается гра-стройно-финя. Алексей Крученых разры- вает слово, оставляя его без начала и конца: «черный дом // черный сор // мерку кит сним // ает». А современный поэт Генрих Худяков дробит слова, вплоть до двух букв: «Сан- // Кт- // Ле- // Ни- // Нгр- // Ад-//. Ст- // Олп- // Ов» и т.д. Такое рассечение слов приводит, по образному выражению С.Е. Бирюкова, к эффекту «раскатывающихся смысловых горошин»:
«Слова как бы раскатываются горошинами. В каждой горошине свой смысл, чаще всего скрытый при обычной (легатной) записи слова. Обрывки слова складываются и в знакомую матрицу, но это происходит после того, как эти осколки вдоволь наокликают друг друга, вдоволь потешатся своей внезапно обретенной свободой (по воле поэта!)» [2: 77].
У Э. Ионеско в произведении «Стулья» игра слов основана на рассечении, переложении, слиянии слов, так что паришь преобразуется в Париж , обрывок незаконченного глагола надрыва . переплавляется в сочетание на дрова и т.д.:
С т а р у ш к а (смеясь). Смея. Надрыва.. на дрова.
С т а р и к и (заливаясь, вместе). Сме. я. змея. на дворе дрова. в руке топор. над дровами пар. с топором пар'ишь.
С т а р у ш к а. Вот он, твой Париж!
Разъединение слова в современном языке используется в юмористических целях, в частности в анекдотах, как, например, в еженедельнике «Те-лесемь»:
- Смотрел сериал «Рабыня Изаура»? - Рабыня из чего?
Об эффекте разрывов и соединений слов Б. Шифрин пишет:
«Безобидность склеивания (разламывания) кажущаяся. Растет странность, деформированность, возникают обрывки, фантомы, пришельцы. потому что становится заметна - крупным планом - сама субстанция речепотока» (Цит. по: [2: 76]).
На разрыве слова основаны и палиндром и анаграмма, которые можно отнести к н е я в н о м у, скрытому типу «осколочности» в том смысле, что она спрятана от читателя, и надо, по крайней мере, знать, что она присутствует. В свое время исключительно популярным был перевертень, составленный безымянным «школьным автором»: «Аки лот и та мати толика. // Аки лев и та мати велика». В наши дни наиболее известен палиндром А. Фета «А роза упала на лапу Азора». Из палиндромов в экспериментальной поэзии многим знаком перевертень В. Хлебникова «чин зван мечем навзничь». «Наоборотный мир» интересовал Г. Державина («Я разуму уму заря, Я иду с мечем судия»), В. Хлебникова («Горд дох, ход дрог»; «И лежу. Ужели?»), В. Брюсова («Я - идиллия?.. Я - иль Лидия?»), И. Сельвин-ского (стихотворение «Город энергий в игре не дорог»), С. Кирсанова («Летя, дятел, // ищи п'ищи. // Ищи, пищ'и! // Веред дерев // ища, тащи // и чуть стучи // носом о сон»), А. Вознесенского («А луна канула»), А. Туфа- нова («Узорно лил он розУ»). (Известным палиндромом в английском языке является nurses run.) Неявность палиндрома, его намеренную скрытость можно продемонстрировать на примере следующих строчек из стихотворения С. Кирсанова «Дельфинада», где каждые первые две строки обретают смысл при чтении справа налево: «Тьюпв, тьюпв // еромв, яатс! // Йом-рок аз // тхя и нухш!» (В путь, в путь, // в море стая! // шхун и яхт // за кормой).
Анаграммы нередко встречаются в шарадах, загадках и псевдонимах, например, Харитон Макентин из Антиох Кантемир . В. Хлебников, которому принадлежит особая роль в области превращения слов, чаще всего прибегал к анаграммам как частному случаю палиндрома. Для него особенно важным было то, что слово как в обратном прочтении, так и в его рассечении, дает другой смысл; что в словах уже содержатся другие слова, «всплывающие» при обратном чтении, например, в слове переполох содержится холоп , напал – лап , кумачем – мечам , баринам – два слова – мани и раб . «Звездный язык» Хлебникова основан на идее, что «согласные в определенном положении связаны с содержательной направленностью слова», так что по существу «скорнение согласных» – «это превращение согласных фонем в значимые морфемы» [7: 22]. Его заумный язык исходит из двух основных предпосылок: 1) первая согласная простого слова «управляет всем словом – приказывает остальным» и 2) слова, начинающиеся с одной и той же согласной, «объединяются одним и тем же понятием и как бы летят с разных сторон в одну и ту же точку рассудка» [10: 628].
У Давида Бурлюка в стихотворении «Борода» борода превращается в а добр ?, нет зол – в тень лоз , розги – во взор . К анаграмме проявляет интерес и А. Вознесенский (анаграмма имени Зоя в поэме «Зоя»). С.Е. Бирюков характеризует анаграмматизм и переразложение слов как «странную, во многом неизведанную область стиха, где самые простые вещи вдруг предстают как сложные, где игра языка выводит, казалось бы, “низкие”, “простенькие” формы в область высокой поэзии, и напротив – неожиданно снижает пафос стиха, изначально устремленного ввысь» [2: 70]. Если палиндром – за счет одинаковости хода в оба направления – создает равновесие, то анаграмма, напротив, разрушает это равновесие.
Прямо противоположное технике разрыва с о е д и н е н и е, «склеивание» основано на объединении слов, при котором сами слова оказываются «осколками». Так, в «Улиссе» у Дж. Джойса находим «склейку» Junejuly-augseptember :
«He bared slightly his left forearm. Scrape: nearly gone. Not today anyhow. Must go back to that lotion. For her birthday perhaps. Junejulyaugseptember eighth. Nearly three months off. Then she mightn’t like it. Women won’t pick up pins. Say it cuts lo ».
(Одновременно обратим внимание на его индивидуально-авторский “осколок” lo вместо love.) Известно, что сращению двух слов нередко сопутствует опрощение полученного образования, что можно проиллюстри- ровать, например, просторечной формой хоб вместо хоть бы с утратой конца слова хоть:
«Обывателю-то хоб што - он не читает стихов, он по-прежнему ходит на футбол, лижет мороженое, выпивает из-под полы, орёт по-бараньи, свистит» (В.П. Астафьев «Игра»).
Соединение слов с их п е р е т е к а н и е м, когда при стяжении двух слов происходит перекрытие их краевых участков, характерно используется С. Кирсановым:
«Дичок подвит, и вот гибрид! // Моягода , мояблоня ! // Сто га словами поросло, и после года первого - // уже несет плодыни слов // счастливовое дерево» (С.Кирсанов «Работа в саду»).
В стихотворении «Тебетанье» он склеивает слова моя ( твоя ) и боярышня с перекрытием части боя , наложением на нее моя ( твоя ): «Ты боярышня моярышня // мне щебечешь – я твоярышня // но сказала – ни за что // не рассказывать товарищам». Отметим, что такое перетекание слов активно используется в языке современной рекламы, например: ОкнАрман′И .
Отдельно можно говорить о технике в ы д е л е н и я слов внутри слова и на стыке слов: в 30-е годы прошлого века Михаил Собакин прибегал в своих стихах к соединению фрагментов стоящих рядом слов в новое слово (вопРОС СИЯюща; поКРЫ Мраком; изосТРИТЦА Тоя), соединению двух односложных слов (СЕ МОЙ), вычленению из одного слова другого (увен-чАННА). У Э. Ионеско в произведении «Стулья» можно найти тот же прием вычленения одного слова в составе другого слова: «программки… рамки…»; «…извольте посторониться… Ницца… Ницца… Ницца…». А у Юза Алешковского в романе «Смерть в Москве» Лев Захарович Мехлис, произнося свое любимое «бэ-зус-лов-но», неожиданно «споткнулся» на этом словечке:
«Словечко подковыристо размывалось в черепе спереди и сзади. От него оставалось самостоятельное слово «УС». Оно и раздражало до бешенства тем, что вовсе не притыривалось, а откровенно выщеривало прокуренные желтые зубы Сталина и конские белоснежные протезы буденной мрази… <…> Л.З. вмиг облепила, кусаючи, жаля, подкалывая, стая мухообразных словечек… УСтал … УСтав … УСтряловщина … УСыпальница … УСкакать … УСнуть … УСпеть … УСтраниться … УСыпленный … УСоп … УСушка … ».
В языке современной рекламы обыгрываются стыки смыслов при склеивании слов, что дает возможность выделить нужное слово. Так, фирма «ПИК», специализирующаяся на продаже квартир, в своей рекламе «КуПИКвартиру» прибегает не только к слиянию слов купи и квартиру , но и к выделению – на стыке этих слов – названия самой фирмы.
М е т а т е т и ч е с к и е превращения связаны с дроблением слова и последующей меной полученных «осколков» местами. Так, разламывание, с метатетическим переразложением, слова монисто преобразуется в на-мысто:
«. только немного погодя я начинал смотреть на все, что меня окружало, так, как смотрел до войны, видел бурую, разбухшую пористой грязью дорогу, детали: прямоугольники грязи, отлетевшие от гусениц, < .. > и неожиданно яркий, радостный колер трофейного кабеля - красные и желтые нитки, протянутые метрах в десяти от дороги. Из такого кабеля деревенские девчата делали “ намысто ” - бусы» («Цена метафоры или преступление и наказание Синявского и Даниэля»).
Эпизод разговора следователя с Гуровым в произведении Ю. Алешковского «Рука» построен на метатетическом основе:
«- А ты, гусь, - говорю второму, - помнишь деревню Одинку и своего командира Понятьева? - Ды-ы-ы, - стучит зубами. - больше не дубу, дольше не ду-ду-ду-ду-ду. больше не дубу. Да! Вы больше не будете, - говорю».
Как и другие операции, в которые вовлечена «осколочность», метате-тические превращения пронизывают живую речь, особенно ненормированную - просторечие, диалекты, детскую речь. Жители Казани остроумно переименовали очень скользкий мост Миллениум , известный автомобильными происшествиями, в мост Линолиум . (Ср.: в Твери площадь Кошмара вместо Капошвара.) Метатетические превращения сплошь и рядом встречаются в детской речи: «Я хочу стать барелиной » (из радиорекламы). У моей знакомой Сонечки (1 год 10 месяцев) такса превращается в таску , а Максим - в Маским . Девочка в фильме «Всегда говори “всегда”» никак не может выговорить слово аллергия : «ар. ар. арлегия.». А в другом фильме - «Денискины рассказы» на вопрос учительницы, какая река является самой длинной в Америке, школьник неуверенно полуспрашивает-полуотвечает: « Мисиписи ?».
В с т а в о ч н ы е «осколки» могут изменить облик слова почти до неузнаваемости, но тем не менее слово обычно опознается, в силу того что «элементы сугубо контекстного понимания смысла пронизывают все наше общение» [4: 125]. Так мы опознаем меланому в меляноме можаевского персонажа:
«Он моментально снял рубаху, повернулся ко мне спиной и показал желтое пятно на лопатке: «- Вот. Мелянома была. Врачи отказались, а я вылечил.» (Б.А. Можаев «Тихон Колобухин»).
Чеховский Матвей из рассказа «Убийство» говорит гравилий вместо гравий и малафтит вместо малахит :
«Осип Варламыч без образования, но дальнего ума человек. <.> Городским головой был и старостой лет, может, двадцать и много добра сделал; НовоМосковскую улицу покрыл гравилием , выкрасил собор и колонны расписал под малафтит ».
А у другого чеховского героя пухнет «черлюсть»:
«– Отчего это у тебя подбородок распух? – Болит… Я, паничек, на спичечной фабрике работал… Доктор сказывал, что от этого и черлюсть пухнет. Там воздух нездоровый» (А.П. Чехов «Беглец»).
Вставочные «осколки» типично появляются в ненормированной речи; отсюда – просторечные радиво , ндравиться , страм и т.д. М. Державин в своих театральных рассказах вспоминает, что Спартак Васильевич Мишулин никак не мог выговорить слово бомбордировка и вместо него говорил бромбордировка , образуя форму с вставочным р .
В ы е м к а «осколка» («осколков») – известная примета просторечия, широко используемая писателем Б.А. Можаевым. Для речи можаевских героев характерны формы с выемкой «осколков», отдельных звуков или слогов, в различных позициях в слове. Утрата начального звука:
«Смейся - думал ехидно Сережкин. - Опосля плакать будешь. Крендешин у вас, но тикеточка у меня» (Б.А. Можаев «Власть тайги»).
«– Она же вакуированная … – Хозяйства своего нет … ни коровы, ни молока. (Б.А. Можаев «День без конца и без края»).
Утрата отдельного звука в середине иностранного и потому непонятного слова ихтиозавр связана с упрощением формы слова и ликвидацией зияния ио :
«– А эту ведомость пора на растопку в печь. – Не, паря! Её в сундук запереть надо или в сейфу. – Детишки смотреть будут, как на ихтизавру » (Б.А. Можаев «Полюшко-поле»).
В различных позициях в слове может утрачиваться не только отдельный звук, но и целый слог:
«– Дядя Федя не озоровал. А этот прямо зафреник , – послышался утомленный Настин голос. - Никакой он не зафреник. Зафреник ! Просто дурью мучается, – лениво возражала Муся» (Б.А. Можаев «Домой на побывку»);
«– Я грю , стажа у него нет… – Смотри-ка, председатель, кабы тут обману не было! – загалдели со всех сторон» (Б.А. Можаев «Пенсионеры»).
Выемка слога в словоконечной позиции:
«– А как быть с минимом ? – спросили его. – А миним , – говорит он, – отменяется (Б.А. Можаев «История села Брёхова, писанная Петром Афанасиевичем Булкиным»).
В детской речи типично наблюдается опущение р в словоначальных сочетаниях согласных гр - ( гибочки ), кр - ( касный , касиво ), пр - ( пишёл ), л в словоначальном сочетании пл - ( похая ); т в сочетаниях согласных в медиальной позиции - тн - ( памяник ) и н в сочетании нф в середине слова ( ко-фетка ); опущение слога в середине слова ( тефон, бенькая ). «Я хочу стать акиысой », – говорит девочка в радиорекламе.
Техника с у б с т и т у ц и и связана с заменой одного «осколка», обычно отдельного элемента, на другой:
«– Ты самулянт ! – взрывается Минеевич. – Ты всю жизнь просамулировал … – А ты прорыбачил, – отбивается Федул» (Б.А. Можаев «Пенсионеры»).
«И решила вся деревня, что в Матрёне – порча. – Порция во мне! – убежденно кивала и сейчас Матрёна (А.И. Солженицын «Матрёнин двор»). Или: «По пач-порту он, конечно, мужик, лапотник, кацап, но вид наружности у него совсем не мужицкий» (А.П. Чехов «Староста»).
«Осколочность» – кладезь для тех авторов, которые склонны к эксперименту с формой, особенно с учетом того, что она исключительно приспособлена к семантическим эффектам:
«– Эй, стакановец ! Ты с отвесиком побыстрей управляйся! – Кильдигс подгоняет…» (А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»).
Здесь замена х > к в стахановец > ста к ановец имеет семантическую подоплеку, снижая пафос героизма стахановца до «стакановца»-выпивохи. У Б.А. Можаева в «Домой на побывку» тетя Марфута путает деликатес и декальте :
«– Что и говорить, – усмехнулась, подмигивая, тётя Марфута. – Каждое блюдо – декальтес ».
В заключение подчеркну наиболее важные моменты. Главное – это сама идея «осколочности» как языковой реальности. «Осколочный» угол зрения объединяет многие на первый взгляд разнородные единицы и явления: от отдельного звука (буквы), звукосочетания и слога до целого слова в качестве осколка; от словообразования до самых сложных «изгибов, изломов, разрывов» слова. Именно «осколочность» создает основу для всевозможных превращений внешней формы слова, наблюдаемых и в языке (языке общего пользования, специальном языке рекламы, индивидуальноавторском языке), и в речевой деятельности, особенно в ненормированной речи. Другим следствием обращения к «осколочности» служит то, что она по-своему укрепляет понятие превращенной внешней формы слова.