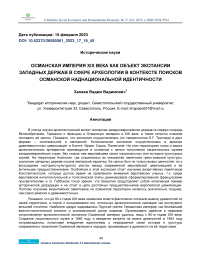Османская империя XIX века как объект экспансии западных держав в сфере археологии в контексте поисков османской наднациональной идентичности
Автор: Хапаев Вадим Вадимович
Журнал: Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research @bulletensocial
Статья в выпуске: 17 (19), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье изучен археологический аспект экспансии западноевропейских держав (в первую очередь Великобритании, Германии и Франции) в Османскую империю в XIX веке, а также попытки османов поставить ей заслон. Показано, что экспансия осуществлялась (по терминологии Б.Г. Триггера) в двух формах колониальной и имперской. Колониальная экспансия осуществлялась в ареалах древневосточных цивилизаций: в Египте, Ираке, Сирии, Палестине. На этих территориях поиск и вывоз археологических артефактов производился в основном с целью пополнения национальных музеев западноевропейских стран, без поиска там европейцами своих национальных или историко-культурных корней. На территории Анатолии, где сохранились во множестве памятники греко-римской культуры, экспансия западных держав носила имперский характер. Ее целью был не только вывоз ценностей, но и воссоздание историко-культурного моста между современной европейской цивилизацией и ее античными предшественниками. Особняком в этой экспансии стоит изучение византийских памятников Константинополя, которые долгое время не привлекали внимания европейских ученых, т.к. среди европейской интеллектуальной и политической элиты доминировала сформулированная французскими просветителями и Э. Гиббоном точка зрения, что Византия представляет собой негативный пример исторической деградации и не стоит в цепи достойных предшественников европейской цивилизации. Поэтому изучение византийских памятников на османской территории началось значительно позднее, чем греко-римских и древневосточных. Показано, что до 80-х годов XIX века османские власти фактически потакали вывозу древностей со своей территории, а порой и инициировали его, используя археологическое наследие как инструмент внешней политики. Наиболее щедро одаривалась Пруссия (затем Германская империя) как ближайший военно-политический союзник и экономический донор османов. Организовать идейное и правовое сопротивление археологической экспансии Османской империи удалось лишь к 80-м годам XIX века. Создание национального музея в 1846 году и введение запрета на вывоз древностей в 1884 году сопровождались попытками внедрения идеологемы о неразрывной связи истории и культуры современного населения Османской империи и народов, проживавших в древности на её территории. Однако этот нарратив в основном транслировался во внешний мир, а не внедрялся в умы народных масс, и не мог способствовать созданию наднациональной османской политической общности.
Османская империя, колониальная экспансия, наднациональная идентичность, археология, византия, древний восток
Короткий адрес: https://sciup.org/14127613
IDR: 14127613 | DOI: 10.52270/26585561_2023_17_19_45
Текст научной статьи Османская империя XIX века как объект экспансии западных держав в сфере археологии в контексте поисков османской наднациональной идентичности
-
I. ВВЕДЕНИЕ
Археологическая наука с момента возникновения оказалась очень тесно инкорпорирована в государственную политику и стала одним из ее инструментов. Это не случайно, так как археологическая атрибуция и интерпретация того или иного археологического памятника зачастую (особенно в XIX и первой половине ХХ века) была не только, а порой не столько научной задачей, сколько политическим выбором – самого археолога, лица, финансирующего раскопки, или государства, чьим подданным был исследователь. Как справедливо заметила турецкая исследовательница Пинар Уре (Pinar Üre), «Древний памятник это не только напоминание об ушедшем прошлом, но и средство для конструирования и воссоздания идентичности через особую интерпретацию истории. Ведь изучая и интерпретируя историю древнего памятника конкретным образом, игнорируя другие возможные прочтения, вы делаете политический выбор» [Üre 2014: 7]. Трактовки тех или иных археологических артефактов нередко подгонялись (и сейчас еще подгоняются) под определенную историографическую концепцию. По определению канадского археолога и этнолога, историка археологической науки Брюса Триггера (Bruce G. Trigger) (1937–2006), использование археологии во внутренней и внешней политике государств шло по трем направлениям [Trigger 1984: 363].
-
1. Национальная археология, занимавшаяся исследованиями на территории своего государства и отвечавшая за формирование национальной идентичности.
-
2. Колониальная археология, использовавшаяся для обоснования «прав» колониальной державы на владение той или иной колонией через монополизацию изучения ее прошлого.
-
3. Имперская археология, в рамках которой осуществлялся поиск наднациональной имперской идентичности властями «универсалистских» империй, таких как Российская и Османская.
В рамках имперской археологии вплоть до 60-х гг. ХХ века осуществлялся поиск этнических предков и/или историко-культурных предшественников той или иной цивилизации [Silberman 1995: 249]. Для западноевропейской цивилизации это – поиск ее корней, которые она видит в Римской империи, древнегреческой демократии, а в более отдаленные эпохи – в культурных и технологических достижениях древнеегипетской и месопотамской цивилизаций, которые были восприняты сначала греками, а затем римлянами, хотя сами эти цивилизации в формировании европейской историкокультурной идентичности участия не принимали. Римские и (в меньшей степени) греческие античные памятники находятся на территории Западной Европы, а потому, их изучение изначально проходило в рамках национальной археологии. Египетских, а тем более месопотамских памятников в Западной
Европе нет, и их изучение было возможно только в рамках колониальной археологии – на чужой территории. Но в XIX – начале ХХ века это была территория суверенной Османской империи, что создавало для западных археологов определенные, хотя, как показала практика, вполне преодолимые трудности.
-
II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Специфическое место в политической составляющей археологии Нового времени для западноевропейских стран занимала Восточная Римская (Византийская) империя.
В западной научной мысли и политическом самосознании в остром конфликте находились исторические реалии, в соответствии с которыми большую часть античного знания, опыта и артефактов европейцы получили именно от ромеев (византийцев), особенно в эпоху Крестовых походов и политические стереотипы, в соответствии с которыми Византия была загнивающим, полным пороков, не способным защитить себя государством, у которого и поучиться-то нечему. Особенно популярной эта точка зрения была в Германии [Corpus… 1557], Англии [Гиббон 2008], и среди французских просветителей, а затем революционеров [Диль 1947: 5].
Поэтому изучение византийских памятников на Османской территории явно не находилось в приоритете у западноевропейских археологов и стоящих за ними политиков. Эта тема приобрела актуальность лишь в конце XIX века, когда археологическим изучением Византии на османской территории занялась целая плеяда выдающихся ученых: Шарль Тексье (1802–1871) и Шарль Диль (1859–1944) из Франции, Гертруда Л. Белл (1868–1926), и Уильям Рамзи (1851–1939) из Британии, Карл Крумбахер (1856–1909) из Германии и Иосиф Стшиговский из Австрии (1862–1941) [Yıldız 2011: 64]. По мнению современного американского археолога и искусствоведа Р. Оустерхаута, заинтересовавшись византийской археологией, западные страны высказали стремление к восприятию Константинополя как исторического продолжения христианской цивилизации, что призвано было «узаконить» притязания европейцев на обладание этим городом [Ousterhout 2011: 181-182].
Археология западноевропейских держав на территории Османской империи носила ярко выраженный колониальный характер, несмотря на то, что суверенитетом над ее территорией ни Великобритания, ни Франция, ни Пруссия, а затем Германия не обладали.
Однако самые громкие археологические находки XIX – начала ХХ века (так называемой эпохи Великих археологических открытий) были сделаны европейскими археологами именно на территории Османской империи: в Египте и Ираке, Сирии и Анатолии. Оттуда же вывозились целые комплексы археологических находок для формирования и пополнения коллекций национальных музеев [Амальрик, Монгайт 1966: 23-27, 63-76], как с попустительства османских властей, так и по их инициативе. Примером такой инициативы может служить подарок, сделанный султаном Махмудом II (1808–1839) в 1838 году французскому королю Луи-Филиппу I (1830–1848) через археолога Д. Рауль-Рошетта. Французский исследователь посетил во время путешествия по Греции турецкий полуостров Бига на западном побережье Анатолии, где находились руины античного города Ассос (совр. г. Бехрамкале). В знак османо-французской дружбы султан отослал королю древние барельефы храма Афины с акрополя этого города, знаменитого тем, что в нем преподавал Аристотель и проповедовал апостол Павел. Присланные артефакты были тотчас же помещены в Лувр [Winterer 2002: 165].
Западноевропейские консульские работники в различных местностях Османской империи не только помогали археологам организовывать поиск и вывоз древностей, но и сами проводили такие раскопки. Чтобы они были более успешными, археологов нередко специально назначали на дипломатическую службу. Например, хранитель древностей Британского музея Чарльз Томас Ньютон (1816–1894) в 1852 году был назначен британским вице-консулом в Митилену, и вел раскопки в Галикарнассе, Дидимах и на о. Книд. Именно ему принадлежит честь открытия знаменитого Галикарнасского мавзолея карийского царя Мавсола IV в. до н.э., считавшегося в античности одним из Семи чудес света. Сделанные «дипломатом от археологии» находки, разумеется, пополнили Британский музей [Stephen 2006: 137-138], а мраморные блоки из кладки мавзолея были отосланы им на Мальту и использованы при строительстве базы британских ВМС. Там они, скрытые от людских глаз, покоятся до сих пор. За оказание дипломатического давления на османские власти в получении разрешений на вывоз древностей отвечал печально знаменитый британский посол в Константинополе Чарльз Стрэтфорд Каннинг, виконт де Рэдклифф [Üre 2014: 93], сыгравший зловещую роль в развязывании Крымской войны [Тарле 1939: 63].
Масштаб санкционированного властями археологического разграбления османских территорий иллюстрирует Пергамский музей Берлина, куда, с согласия султана Абдул-Хамида II (1876–1909), был целиком перевезен Пергамский алтарь, а затем и множество других добытых немецкими археологами на османской территории древних артефактов [Matthes 2006].
Согласие на вывоз Пергамского алтаря, уникального памятника эпохи эллинизма, инициированного германским инженером Карлом Хуманом, руководившим строительством дорог в Анатолии, было ответной «любезностью» османских властей.
Они были вынуждены таким образом отблагодарить германских союзников («пруссофилия» началась у османов еще в 1833 г.) за подряды на модернизацию отсталой турецкой инфраструктуры [Аюпова 2020: 9-12; История Османского государства… 2006: 85-86]. Молодая Германская империя, добыв себе Пергамский алтарь и перевезя его для экспонирования в Берлин стремилась набрать имиджевые очки перед Британской империей, музей которой уже более полувека кичился фризами Парфенона.
Вывезенные в Лондон лордом Т.Б. Элгином (Элджином) в 1802 г. (во времена османского владычества над Грецией) фризы и другие артефакты из афинского Парфенона до сих пор являются предметом спора между Грецией и Великобританией. И в Лондоне они оказались лишь потому, что в 1787 году их не удалось похитить и вывезти в Париж послу Франции в Османской империи графу Огюсту де Шуазёлю-Гуфье [Baelen 1956: 120-125].
Все эти примеры свидетельствуют, что научно-археологические притязания европейских держав к Османской империи носили не только колониалистский, но и имперский характер. В качестве колониальной западноевропейская археология выступала при изучении культур Древнего Востока: египетской, месопотамской, древнеэламской, древнеперсидской, хеттской [Амальрик, Монгайт 1966: 6376].
Османов до 40-х годов XIX века культурное разграбление их страны западноевропейцами практически не волновало [Üre 2014: 93]. Лишь с началом эпохи Танзимата (1839–1876) – модернистских преобразований в империи, интерес к археологии вырос на всех уровнях османской власти [Berkes 2003: 171-178]. Тому было несколько причин.
Первая (но не главная) заключается в том, что именно в это время турки озаботились воссозданием утраченной еще в XVI веке наднациональной имперской идентичности. Это предполагало заботу и внимание к прошлому народов, населяющих империю [Üre 2014: 95]. В этом османы вольно или невольно копировали позднеримский и ранневизантийский опыт, когда императоры от Константина I (306–337) до Юстиниана I (527–565), стремясь превратить Константинополь в новый центр римской идентичности, свозили туда тысячи памятников античности со всей империи – и ее западной (латинской), и восточной (эллинской), и южной (египетской) частей. Эти памятники выставлялись напоказ на площадях (форумах), на Большом ипподроме, в интерьерах дворцов, которые даже названия получали в честь установленных там античных скульптурных групп (например, резиденции Дафна и Вуколеон Большого императорского дворца) [Harris 2009: 18-39, 59-83].
После захвата Константинополя Мехмедом II, султан рассматривал себя как законного преемника ромейских императоров. Он принял титул «Kayser-i Rum» («Римский цезарь»), и в конце жизни, захватив итальянский порт Отранто, готовил взятие Рима. Этот поход не состоялся в 1481 г. из-за смерти султана [Alderson 1956: 110, tab. XV] также, как смерть императора Василия II помешала ромеям совершить аналогичный поход в 1025 году [Михаил Пселл 1978: 17, 267 прим. 35].
Соответственно, при Мехмеде II и его ближайших преемниках пережившие крестоносный разгром 1204 года остатки ромейского и античного культурного наследия не только не уничтожались, но стали на какое-то время предметом гордости для турок [Angold 2014: 67]. Даже ряд греческих авторов второй половины XV века рассматривал Османскую империю как законного и естественного преемника Ромейской. Например, Михаил Критобул (ок. 1410–1470) и Георгий Амируци (ок. 1400 – ок. 1470) [Üre 2014: 84]. Но с XVI и почти до конца XIX века тема преемственности Османской империи от Ромейской была совершенно чужда. Этот политический тезис оставался полностью невостребованным [Üre 2014: 84]. Возможно, потому, что тему римской преемственности стали активно эксплуатировать Австрия (как центр Священной Римской империи германской нации) и Российское государство через идеологию «Москва – Третий Рим».
Причем оба эти государства, эксплуатировавшие, как и некогда Мехмед II тему римского (в случае с Россией ромейского) политического наследства, были врагами Османской империи, и с конца XVII века действовали в союзе друг с другом [Lewitter 1964: 5-29].
В конце XIX в. и российские, и османские западники, следуя в фарватере европейского пренебрежения Византией, клеймили пороки своих государств (деспотизм и коррупцию) как пагубное византийское наследие, ведущее их страны к гибели [Üre 2014: 84]. Среди турецких интеллектуалов того времени лишь журналист, писатель и переводчик (в т.ч. русской классической литературы [Olcay 2017: 40-71]) Ахмед Митхат Эфенди (1844–1912) говорил о ромейской истории как об этапе истории османской. Но постулировал он этот тезис лишь в том смысле, что к Византии не имеет отношения современное ему Греческое королевство [Ursinus 1988: 215-218].
Учитывая всё вышесказанное, стремление ассоциировать прошлое Османского государства с наследием некогда населявших его народов было очень слабым, особенно в условиях запрета либерального движения «новых османов» и установления «зюлюма» – диктаторского правления султана Абдул-Хамида II, продлившегося с 1878 по 1908 год [История османского государства… 2006: 86].
Значит, усиление внимания османской власти к археологическому наследию их страны во второй половине XIX века было связано главным образом с иными причинами. Одной из них был запрет других государств Средиземноморья на вывоз с их территорий археологических находок. Государства Италии ввели его еще в начале XIX века, а молодое Греческое королевство – в 1834 г. Именно это вызвало массовый приток европейских археологов на османские территории – в Месопотамию и Анатолию. По мнению П. Уре, западные державы демонстрировали таким образом по отношению к Османской империи свой «неформальный империализм», когда огромное, но отсталое государство еще нельзя завоевать, но уже можно использовать в своих целях [Üre 2014: 95].
Введение аналогичного запрета в Османской империи всячески затягивалось. Принятый в 1869 году закон о запрете вывоза древностей за границу объявлял их собственностью султана (не государства) [Çal 1997: 391-400]. Поэтому султан, если пожелает, мог такое разрешение дать.
В 1873 году немецкий предприниматель, авантюрист и археолог-любитель Генрих Шлиман, который вел раскопки Трои, обнаружил клад XXIV в. до н.э. (так называемый «Клад А»), который он произвольно назвал «Кладом Приама», связав с событиями Троянской войны рубежа XIII–XII вв. до н.э. [Криш 1996: 101]. В соответствии с имевшейся у него договоренностью с османским правительством, противоречившей вышеупомянутому закону, он должен был половину находок отдавать османским властям, а другую оставлять себе. Но он вывез все находки из этого клада контрабандой в Грецию, и даже постановление греческого суда, предписывавшее вернуть сокровище туркам, успеха не имело [Üre 2014: 95]. В итоге и этот, и многие другие комплексы находок из Трои оказались в Берлине.
Немецкие раскопки в Пергаме и Трое породили спор между османскими и европейскими интеллектуалами о том, кому принадлежит право на археологическое наследие Порты. Турки говорили, что их стране, а европейцы – что всему человечеству [Üre 2014: 107].
В результате, одному из самых влиятельных европейских лоббистов от археологии – директору османского Имперского музея (Müze-i Humayun) Филиппу Антону Детье (в этой должности с 1872 по 1881 г.) в 1874 г. удалось навязать османам новый, чудовищный с научной точки зрения регламент раздела археологических находок: треть доставалась владельцу земли, треть – османскому правительству, и еще треть – археологу [Gerçek 1999: 91-93]. В результате узаконивалось разделение целостных археологических комплексов, в которых видели не предмет изучения, а скорее «охотничью добычу». Чтобы «добыча» была больше, перед началом раскопок европейские археологи обычно покупали участок земли, на котором предполагали вести исследования. Так им по закону доставалось 2/3 обнаруженных древностей. Как показала практика, истребовать оставшуюся треть, которая причиталась османскому правительству, было для европейцев вполне разрешимой задачей. Пример Пергамского алтаря – яркое тому доказательство.
Разрешение на вывоз всех его частей дал в 1880 г. Абдул-Хамид II, рассчитывавший на укрепление германо-османского экономического и политического союза [Богуславский 1979: 47]. Этот случай показал, что защиты от разграбления культурного наследия Османской империи европейцами по-прежнему нет. В 1879 г., в соответствии с вышеупомянутым регламентом, находки предполагалось поделить, оставив в Турции лишь треть из них, т.к. владельцем земли на месте раскопок на тот момент уже был гражданин Германии [Богуславский 1979: 47]. Но при продлении разрешения на раскопки, султан позволил немцам забрать все находки. Вывоз продолжался до 1886 года. Когда министр культуры Турецкой Республики Истемихан Талай в 1998 и 2001 годах требовал от Германии возвращения алтаря, отказ германской стороны был обоснован тем, что его вывоз осуществлен в соответствии с законами и правилами Османской империи, действовавшими в тот момент.
Доставка и экспонирование пергамских находок в Берлине возымели желаемый эффект. И.С. Тургенев по этому поводу восторженно писал (вряд ли можно полностью разделить его восторг): «Честь открытия этих великолепных останков принадлежит германскому консулу в Смирне Гуманну (К. Хуману – В.Х.), а заслуга – скорее в их приобретении выпала на долю прусского правительства, при энергичном содействии кронпринца. Всё дело было ведено очень ловко и тайно; вовремя были высланы инженеры и ученые профессора, вовремя куплен участок земли, близ деревушки Бергама, под которой скрывались все эти сокровища; самый фирман султана на владение открытыми мраморами, а не одними снимками с них (как то сделало греческое правительство), был очень удачно и тоже вовремя получен, и в конце концов Пруссия – за какие-нибудь ничтожнейшие 130000 марок – закрепила за собою такое завоевание, которое, конечно, принесет ей больше славы, чем завоевание Эльзаса и Лотарингии, и, пожалуй, окажется прочнее» [Тургенев 1883: 206]. Немецкие газеты писали, что Берлин теперь «ни в чем не отстает от Лондона и Парижа».
Грабительский регламент 1874 г. был изменен лишь спустя 10 лет по инициативе первого турецкого директора Имперского музея – Османа Хамди-бея (в этой должности с 1881 по 1910 год). Новый нормативный документ пережил Османскую империю и действовал до 1974 года. Он предусматривал, что все находки, сделанные на территории империи, являются собственностью османского государства, а не султана, а каждый свой шаг иностранные археологи (турецких тогда еще просто не было) должны согласовывать с имперским министерством образования [Üre 2014: 111]. Европейская научная общественность выразила бурное негодование. Например, французский гебраист Эрнест Ренан (1823–1892), в 1860 г. руководивший на территории Османской империи археологической экспедицией в древнюю Финикию, с ужасом писал своему правительству, что османы «непригодны к европейской научной деятельности» (цит. по: [Üre 2014: 107]).
Это, возможно, осознавал и Хамди-бей, художник по профессии, ставший первым (хотя и непрофессиональным) османским археологом. Но, как патриот, он стремился эту ситуацию исправить. Его заслугой стало не только создание национальной археологии в Турции, но и привлечение к ее развитию крупных иностранных археологов, в первую очередь французского исследователя Теодора Рейнаха (1860–1928), [Cezar 1987: 17-18]. Османская археологическая школа была создана в исторически короткий срок: уже в 1892 году турецкие археологи впервые приняли участие в международных археологических конгрессах – в Лиссабоне и Москве [Üre 2014: 107]. Но, по мнению классика современной турецкой археологии Мехмета Оздогана, внутриполитический контекст создания и развития археологической науки в Османской империи был незначительным по сравнению со стремлением к европеизации дряхлеющего государства: «Археология, будучи практикой, исходящей из Европы, подразумевала инкорпорацию Османской империи в европейскую культурную среду» [Özdoğan 2002: 113]. Таким образом, еще одной причиной повышения интереса османской власти к археологии была политика вестернизации империи, которая довольно последовательно проводилась, начиная с эпохи Танзимата. Среди символов западной государственности в XIX веке важную роль стал играть национальный музей, а главными жемчужинами его коллекции непременно должны были быть древности (полотнами великих мастеров эпохи Ренессанса и Просвещения) удивить друг друга было уже трудно.
Нужны были египетские, месопотамские, греческие, эллинистические, «на худой конец» римские коллекции. И большая часть этого богатства, как было сказано выше, вывозилась с территории Османской империи. Поэтому неудивительно, что просвещенные турки, особенно получившие образование на Западе, стали выступать не только против вывоза национального достояния из их страны, но и за создание национального музея.
Идея открытия этого нового символа османской государственности принадлежит, что не удивительно, дипломату - видному деятелю эпохи Танзимата Фетхи Ахмеду Паше (1801-1858), бывшему послу в Вене. Венская коллекция античных древностей тоже началась с подарка султана Абдул-Хамида II императору Францу-Иосифу I (1848-1916) [Kunsthistorisches Museum... 1988: 59-119]. Учитывая, что Австрийская и Османская империи долгое время были геополитическими противниками, подарки оказались куда менее щедрыми, а потому, гораздо менее знамениты в наши дни, чем те, что вывозились в Пруссию.
В 1846 году, по предложению Фетхи Ахмеда паши, занимавшего тогда пост фельдмаршала имперского арсенала, хранилище военных артефактов раннего османского периода, находившееся в византийском храме св. Ирины на территории дворца Топ-Капы, было преобразовано в первый полноценный османский музей, получивший название «Mecma-i Asar-i Atika» (Собрание древних памятников). Согласие юного 23-х летнего султана Абдул-Меджида I (1839-1861) на открытие музея было получено после того, как посещая древний город Пифия (совр. Ялова) близ побережья Мраморного моря, он увидел позолоченные камни с начертанным на них именем основателя имперской столицы римского императора Константина I. Падишах распорядился перевести свою находку в Константинополь и экспонировать. Это, видимо, поспособствовало принятию решения об открытии музея [Cezar 1987: 13].
С этого момента началось собирание примечательных артефактов для пополнения музейной коллекции. Тем самым власти стремились с одной стороны продемонстрировать единство страны, с другой - доминирование Константинополя над многочисленными и прославленными в истории региональными центрами империи (Иерусалимом, Каиром, Дамаском, Багдадом и др.) [Üre 2014: 111]. В этом они, вероятно, неосознанно, следовали примеру первых константинопольских императоров IV-VI вв., преследовавших те же цели. Публично превращая греко-римские древности в национальное достояние, османы стремились продемонстрировать свое историческое право на территории, ставшие объектом притязаний европейцев [Üre 2014: 124]. Но демонстрировали они это право, в первую очередь, иностранцам: для посещения османскими гражданами музей был закрыт до 1880 года, а официальные лица империи лично сопровождали туда французских, британских, австрийских, немецких, американских и российских визитеров, специально подчеркивая «неразрывную связь» современной империи и населявших ее древних народов [Ure 2014: 102-103]. С собственным населением работа в этом направлении практически не велась.
Пришедшие к власти в 1908 году младотурки окончательно объявили древности народным достоянием [Üre 2014: 124]. С тех пор никто, включая султана, не мог больше подарить их иностранцам. По крайней мере, до тех пор, пока Османская империя не была расчленена и юридически ликвидирована по итогам I Мировой войны.
-
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, Османская империя лишь с 80-х годов XIX века начала относительно организованно сопротивляться западноевропейской колониальной и имперской экспансии в области археологии, организовав противодействие разграблению ее историко-культурного наследия. Введением запрета на вывоз археологических находок, созданием национального музея, развитием собственной археологической школы, османы, в том числе, пытались предотвратить или хотя бы замедлить процесс дезинтеграции и распада империи.
Но все эти усилия были направлены, в основном, на внешний геополитический контур. На создание и консолидацию османской наднациональной имперской общности эти усилия практически не были нацелены, а потому, не могли сыграть цементирующей роли в спасении империи от развала.
THE OTTOMAN EMPIRE OF THE XIX CENTURY AS AN OBJECT OF
EXPANSION OF THE WESTERN POWERS IN THE FIELD OF
ARCHEOLOGY IN THE CONTEXT OF THE SEARCH FOR THE OTTOMAN
SUPRANATIONAL IDENTITY
Khapaev, Vadim Vadimovich1
Список литературы Османская империя XIX века как объект экспансии западных держав в сфере археологии в контексте поисков османской наднациональной идентичности
- Amalrik A.S., Mongajt A.L. V poiskah ischeznuvshih civilizacij. M.: Nauka, 1966. 280 s.
- Ayupova N.I. Osnovnye vekhi razvitiya turecko-germanskih otnoshenij: vzglyad iz Turcii. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Nomer 2. S. 9-19.
- Boguslavskij M.M. Mezhdunarodnaya ohrana kulturnyh cennostej. M.: Mezhdunar. otnosheniya, 192 s.
- Gibbon E. Istoriya upadka i razrusheniya Velikoj Rimskoj imperii: Zakat i padenie Rimskoj imperii: v 7 t. M.: TERRA. Knizhnyj klub. 544 s.
- Dil SH. Osnovnye problemy vizantijskoj istorii. M.: Gosudarstvennoe izdatelstvo inostrannoj literatury, 1947. 185 s.
- Istoriya Osmanskogo gosudarstva, obshchestva i civilizacii. Pod red. E. Iskhonoglu. 2006. T. 1. M.: Vostochnaya literatura. 602 s.
- Kak Berlin trizhdy otvoeval Pergamskij altar. Russkaya Germaniya. 2011. Nomer 15. Dostup: http://www.rg-rb.de/index.php?optioncom_rgtaskitemid711 (provereno: 04.11.2021).
- Krish E.G. Sokrovishcha Troi i ih istoriya. M.: Raduga. 240 s.
- Lidov A. Vizantijskij mif i evropejskaya identichnost. Stenogramma lekcii v klube Polit.ru 11.02.2010.
- Mihail Psell. Hronografiya. Per. i prim. YA. N. Lyubarskogo. M.: Nauka. 319 s.
- Tarle E.V. Krymskaya vojna. CH. 1. Sochineniya v 12 tomah. T. VIII. M.: Izd-vo AN SSSR. 1939. 562 s.
- Turgenev I.S. Pergamskie raskopki. Pismo v redakciyu Vestnika Evropy. Polnoe sobranie sochinenij. T. 1. S. 206-212.
- Alderson A.D. The structure of the Ottoman Dynasty. Oxford: Clarendon Press. 186 s.
- Angold M. The Fall of Constantinople to the Ottomans: Context and Consequences London: Routledge. 240 s.
- Baelen J. La Chronique du Parthnon. Paris: Les Belles Lettres. 160 s.
- Berkes N. Trkiyede adalama Modernisation in Turkey. stanbul: Yap Kredi Yaynlar. 599 s.
- al H. Osmanl Devletinde Asar- Atika Nizamnameleri Antiquities Regulations in the Ottoman Empire. Vakflar Dergisi. No: XXVI S. 391-400.
- Cezar M. Mzeci ve Ressam Osman Hamdi Bey Osman Hamdi Bey, Museologist and Painter. stanbul: Trk Kltrne Hizmet Vakf Sanat Yaynlar. 24 s.
- Corpus Historiae Byzantinae. Francofurti ad Moenum: Excusum per Petrum Fabricium, impensis Hieronymi Feierabendi. 155 s.
- The Times of Malta. 26.07.2009. Dostup: https://timesofmalta.com/articles/view/dock-1-made-from-ancient-ruins.266812 (provereno 06.11.2021).
- Gerek F. Trk Mzecilii Turkish Museology. Ankara: Kltr Bakanl. 533 s.
- Harris J. Constantinople: capital of Byzantium. London: Hambledon Continuum. 289 s.
- Kunsthistorisches Museum: Fhrer durch die Sammlungen. 1988. Vienna: Brandsttter. 432 s.
- Lewitter L.R. The Russo-Polish treaty of 1686 and its antecedents. The Polish Review. Vol. 9. S. 5-29.
- Matthes O. Das Pergamonmuseum. Berlin: Berlin-Edition. 78 s.
- Olcay T. Olga Lebedeva (Madame Glnar): A Russian Orientalist and Translator Enchants the Ottomans. Slovo. Vol. 29. S. 40-71. DOI:10.14324/111.0954-6839.065
- Ousterhout R. The Rediscovery of Constantinople and the Beginning of Byzantine Archaeology: A Historiographical Survey. Scramble for the Past: A Story of Archaeology in the Ottoman Empire, 1753-1914. Ed. Z. Bahrani, Z. elik, E. Eldem. stanbul: SALT. S. 181-211.
- zdoan M. Ideology and Archaeology in Turkey. Archaeology Under Fire: Nationalism, Politics and Heritage in the Eastern Mediterranean and Middle East. Ed. Lynn Meskell. London: Routledge. S. 111-123.
- Pergamon-Altar soll in neuem Glanz erstrahlen. 2003. Die Welt. 21.03.2003. Dostup: https://www.welt.de/print-welt/article508815/Pergamon-Altar-soll-in-neuem-Glanz-erstrahlen.html (provereno: 06.11.2021)
- Silberman N.A. Promised Lands and Chosen Peoples: The Politics and Poetics of Archaeological Narrative. Nationalism, Politics, and the Practice of Archaeology. Ed. Ph.L. Kohl, C. Fawcett. Cambridge: Cambridge University Press. S. 249-262.
- Stephen L.D. Pursuit of Ancient Past: A History of Classical Archaeology in the Nineteenth and Twentieth Centuries. New Haven: Yale University Press. 334 s.
- Trigger B.G. Alternative Archaeologies: Nationalist, Colonialist, Imperialist. Man. Vol. 19. S. 355-370.
- re P. Byzantine heritage, archaeology, and politics between Russia and the Ottoman Empire: Russian archaeological institute in Constantinople (18941914): A dissertation submitted to the Department of International History of the London School of Economics and Political Science for the degree of Doctor of Philosophy, London. 285 s.
- Ursinus M. From Sleyman Pasha to Mehmet Fuat Kprl: Roman and Byzantine History in Late Ottoman Historiography. Byzantine and Modern Greek Studies. Vol. 12. S. 305-314. DOI: https://doi.org/10.1179/byz.1988.12.1.305
- Uyguntzel M.K. Osmanli mirasi olarak Trk olmak blm 2. Kayser-i Rum Fatih sultan Mehmed han 03.09.2016. Dostup: https://mkuyguntuzel.wordpress.com/2016/09/03/osmanli-mirasi-olarak-turk-olmak-bolum-2-kayser-i-rum-fatih-sultan-mehmed-han/ (provereno 03.11.2021).
- Winterer C. The Culture of Classicism: Ancient Greece and Rome in American Intellectual Life, 17801910. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 272 s.
- Yldz .K. A Review of Byzantine Studies and Architectural Historiography in Turkey Today. METU Journal of the Faculty of Architecture. Vol. 28. Issue 2. S. 6380. DOI:10.4305/METU.JFA.2011.2.3/