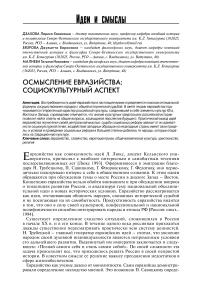Осмысление евразийства: социокультурный аспект
Автор: Дзахова Лариса Хасановна, Бязрова Джульетта Бароновна, Малиева Татьяна Ивановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 8, 2016 года.
Бесплатный доступ
Востребованность идей евразийства в настоящее время определяется поиском оптимальной формулы сосуществования народов с общей исторической судьбой. В свете теории евразийства подчеркивается гетерогенный характер российской культуры, соединившей в себе элементы культур юга, востока и запада, справедливо отмечается, что знание культурных предпосылок российской истории позволит найти ответы на общие вопросы, касающихся перспектив будущего. Практический вывод идей евразийства поучителен своей центральной мыслью: судьба социальных реформ зависит от их адекватности социокультурной почве, воздействие западных образцов на незападные страны имеет свои пределы, и успехов в проведении социальных реформ в большей степени добились те народы, которые опирались на традиционную культуру.
Евразийство, славянство, европоцентризм, общечеловеческая культура, христианство, религия
Короткий адрес: https://sciup.org/170168531
IDR: 170168531
Текст научной статьи Осмысление евразийства: социокультурный аспект
Е вразийство как совокупность идей Л. Люкс, доцент Кельнского университета, причислял к наиболее интересным и самобытным течениям послереволюционных лет [Люкс 1993]. Оформившееся в эмиграции благодаря Н. Трубецкому, П. Савицкому, Г. Флоровскому, Г. Федотову, оно периодически подогревало интерес к себе в общественном сознании. К этим идеям обращаются при обсуждении темы о месте России в диалоге Запад – Восток. Концепцию евразийства нельзя обойти вниманием и при обсуждении вопроса о тенденциях развития России, и анализируя тему национальной объединительной идеи в новых исторических условиях. Евразийство рассматривается как идея, отстаивающая общность народов, связанных исторической судьбой и не посягающая на их самобытность. Продуктивность евразийства видится в том, что оно в силу своей культурной, конфессиональной и национальной полифоничности способно интегрировать народы и этносы РФ [Россия: опыт… 1994].
Существует определенное сходство ситуаций, сложившихся в России в начале ХХ в. и в его конце. В течение одного века россиянам приходится дважды существенно пересматривать практически всю систему ценностей. Н. Трубецкой – главный генератор евразийских идей – считал, что уяснение народом своей духовной индивидуальности является непременным условием его дальнейшего развития. Выдвинутый им императив заключается в следующем: «Познай самого себя и стань самим собой». По своей сложности эта задача превосходит все, что приходилось решать России в своей непростой истории. В известном смысле ее решение важнее преодоления недостатков в сфере жизнеобеспечения.
Евразийство как учение далеко от монолитности. Сами евразийцы демонстрировали определенное несходство мнений. Это позволило П. Савицкому опреде- лить евразийство не только как систему взглядов, но как методологию действий, сочетающих нравственное отношение к жизни с «величайшей, эмпирически обоснованной практичностью» [Савицкий 2002: 368].
Термин «евразийство» отражает реальный факт, имеющий, как пишет П.Н. Савицкий, «географическое» происхождение, но «культурно-историческое» значение. Общим для всех евразийцев является тот особый акцент, который они ставили на азиатском компоненте России. Обращением только к славянству не объяснить культурное своеобразие России, ее гетерогенный характер, сочетание европейского и азиатского начал.
Особое ударение евразийцы делали на роли азиатского (степного) компонента в формировании российской культуры. Степная цивилизация оказала существенное влияние на строительство русского государства, отразилась на бытовом укладе народа и на его языке. В этой связи название первого сборника евразийцев «Исход к Востоку» имел программное значение.
Исследователь евразийства Л. Люкс считал очевидным, что поворот русской эмиграции был спровоцирован самим Западом – скептическим отношением Европы к усилиям России стать европейской державой. После революции историческая Россия повернула на Восток. Было положено начало процессу «реазиатизации» России. Главная причина переориентации русской эмиграции, по мнению Л. Люкса, – психологическая, а именно трудности адаптации к чужой, не слишком благорасположенной среде. Оценка, согласно которой евразийство рассматривается как компенсация чувства неполноценности ее авторов, страдает легковесностью. Она не отражает главного – духовной связи подавляющего большинства русской эмиграции с Родиной. Позже Трубецкой скажет о невозможности усвоить дух иной культуры – можно заимствовать только ее материальное тело. Поэтому обоснование культурно-исторического своеобразия России, занимавшее в евразийской программе центральное место, является не только констатацией факта, но и частью программы возрождения исторической России.
Л. Люкс, сравнивая антиевропейские настроения Шпенглера и Н. Трубецкого, обратил внимание на различия в их взглядах. Для Шпенглера закат Европы очевиден. Н. Трубецкой, наоборот, предвидел усиление гегемонизма Запада, высказывал тревогу за будущее России и обосновывал необходимость культурногосударственного суверенитета. В данном контексте по касательной им ставится проблема соблазна, искушения духа более мощной культурной европейской материей.
Общие положения концепции культуры наиболее полно изложены П. Савицким и Н. Трубецким. Подчеркнем, что ее контуры являются как бы вторичным продуктом обоснования ими государственного бытия исторической России.
Евразийцы отрицают так называемый вертикальный подход к пониманию культуры, получивший обоснование у просветителей и эволюционистов. И те и другие рассматривали развитие культуры как линейный процесс, который получил свое завершение в западноевропейской культуре. Такой подход неизбежно приводил к делению культур на низшие и высшие типы. К высшим типам была отнесена вся западноевропейская культура. К низшим – культура стран Востока и ислама. Таким образом, европейский стандарт был взят в качестве критерия культурного прогресса. Отход от западноевропейского стандарта или простое несходство с ним воспринималось негативно – как проявление бескультурья. «Европеец сплошь и рядом, – пишет П. Савицкий, – называет диким и отсталым не то, что по каким-либо объективным признакам может быть признано стоящим ниже его собственных достижений, но то, что просто не похоже на собственную его манеру видеть и действовать… Евразийская концепция знаменует собой решительный отказ от культурно-исторического “европоцентризма”» [Савицкий 2002: 359].
Н. Трубецкой усиливает критический аспект отношения П. Савицкого к европоцентризму. «Стремление к общечеловеческой культуре, – пишет он в статье «Об истинном и ложном национализме», – должно быть отвергнуто. Наоборот, стремление каждого народа создать особую национальную культуру находит себе полное моральное оправдание. Всякий культурный космополитизм… заслуживает решительного осуждения» [Трубецкой 1921: 78]. Все рассуждения об общечеловеческой культуре Трубецкой считает маской, закрывающей истинное лицо эгоцентрика, а космополитизм отождествлял с шовинизмом романо-германских наций. Он обращался к интеллигенции европеизированных не романо-германских народов с тем, чтобы они произвели коренной переворот в своем сознании, в своих методах оценки культуры, ясно осознав, что европейская цивилизация не есть общечеловеческая культура, а лишь культура определенного этноса. Для Н. Трубецкого фраза «общечеловеческая цивилизация» есть лишь обман, от которого необходимо себя оградить.
Рассуждения Н. Трубецкого лишены той сдержанности, которую мы находим у П. Савицкого – более академичного и как бы отстраненно рассуждающего по данному вопросу. Все рассуждения Трубецкого пронизаны императивом: «будь самим собой», утверждающим достоинство человека и ценность культуры, как бы далеко она ни находилась от европейского стандарта.
Пространство культуры евразийцы переосмысливают в соответствии с целью опровергнуть деление народов на культурные и некультурные, найти метод наиболее полного познания эволюции культуры и ее характера. П. Савицкий предложил рассматривать культуру как дифференцированную совокупность 3 элементов: «культурной среды», «эпохи» и «отрасли» культуры, отрицая существование единого хода истории культуры, какой-либо общей схемы. По мнению П. Савицкого, «культурная среда, низко стоящая в одних отраслях культуры, может оказаться и сплошь и рядом оказывается высоко стоящей в других отраслях» [Савицкий 2002: 360].
Но, как и все в этой жизни, культура эволюционирует, меняется под воздействием разных причин – внешних и внутренних. Н. Трубецкой эти детерминанты делает предметом своего исследования, выделяя 2 уровня культуры: «низ» и «верх» или, в терминах современной социологии культуры, традиционный и информационный. Критерием разграничения берется способ складывания культурных феноменов, а также различия в статусе их носителей.
Традиционный уровень представляет собой фундамент культурного здания, его низ, почву. Он создается стихийно в среде народа как реализованная в ходе исторического развития потребность в регулировании отношений человека с обществом и природой. Его характеризует простота и элементарность, что не снижает его необходимости, важности и значимости. Простота означает отсутствие следов индивидуального творчества, стихийность процесса образования традиционной народной культуры.
«Верх» культуры, ее информационный уровень создается, как правило, национальной элитой, не удовлетворенной традиционными культурными ценностями и старающейся их изменить или усовершенствовать так, чтобы они соответствовали ее потребностям и вкусам, более утонченным и требовательным. Этот уровень несет на себе отпечаток сознательности и конкретного авторства. В нормальном состоянии оба уровня находятся в режиме постоянного обмена и взаимодействия.
Термин «нормальное состояние» культуры отражает наличие в обществе единого культурного пространства, взаимопроницаемость «низа» и «верха», их общую направленность.
Культура в своем развитии содержит две тенденции: консервативную и обновленческую. Первая тенденция должна, по мнению евразийцев, преобладать. Консервативную сторону выполняет «низ» культуры, ее почва, сохраняя духовную индивидуальность народа. Но консервативную тенденцию нельзя абсолютизировать. Она дополняется второй – обновленческой, эволюционной стороной.
Вторая тенденция бывает, как правило, инспирирована культурной элитой и может проявлять себя двояко. Первый путь – ценности элитного уровня создаются на основе изменения сложившихся традиций. Этот процесс – двусторонний. Низы, со своей стороны, при наличии соответствующих условий (образование, достаточно высокий материальный уровень и т.д.) также постоянно вводят в свой быт элитные ценности.
Трубецкой считает этот путь наиболее оптимистичным. Он не влечет за собой коренную ломку традиционных ценностей и ломку психологии его социального субстрата.
Второй путь связан с заимствованиями извне. Результат может быть двояким: положительным, если иноземный источник и традиционные ценности относительно тождественны, близки по направленности, имеют точки соприкосновения и т.д., и отрицательным, если они чужды друг другу.
Конечно же, во взглядах евразийцев были элементы явного эмпиризма. Так, их критика российской интеллигенции в беспочвенности объясняется ее известным вкладом в разрушение устоев государства. И наоборот, их терпимое отношение к большевикам объясняется тем, что те сумели воссоединить разбросанные обломки царской империи.
Евразийцы единодушны относительно необходимых условий устойчивого развития общества – это укорененность культуры в особенностях этнографического и психологического облика народа. Революцию они рассматривали и как логическое завершение более чем 200-летнего периода «европеизации» России (П. Савицкий), и как суд над послепетровской Россией (Г. Флоровский, Н. Трубецкой), и как закономерный результат того раскола, который внес в общество своими реформами Петр I (Г. Федотов). Все сходились во мнении, что причина революции – в не адекватности реформ (начиная с реформ Петра I) российской социокультурной почве. В 30-х гг. Г. Федотов писал, повторяя мысль своих единомышленников: «Не будет преувеличением сказать, что весь духовный опыт денационализации России, предпринятый Лениным, бледнеет перед делом Петра. Далеко щенкам до льва». В последней фразе – и гордость за титана, поднявшего Россию на своих плечах, и сомнение в возможности иной исторической альтернативы для России: «Не знаю, было ли все это неизбежно» [Федотов 1990а: 419].
Евразийцы не мыслили содержание «почвы» вне религии. Одни придавали ей большее значение, другие – меньшее, но в главном сходились все, связывая будущее России с религиозным обновлением. Применительно к советской атеистически ориентированной идеологии это означало возрождение религии. Вместе с тем они понимали, что этот путь содержит в себе определенные трудности и проблемы. Возрождение христианства для, допустим, Н. Трубецкого не было самоцелью, скорее, средством. Опыты христианизации он не считал удачными. Строительство будущего культурного фундамента он считал возможным только на пути объединения с представителями иной веры, исторически связанными общей судьбой.
Г. Федотов несколько дистанцируется от Н. Трубецкого в этом вопросе. Из 3 элементов, участвующих в деле национального возрождения, – религия, культура, государство, – он останавливается на втором. Объединение народов России не может твориться, по его мнению, только силой религиозной идеи.
«Здесь верования не соединяют, а только разъединяют нас» [Федотов 1990б: 460]. Объективная причина – религиозное многоголосье в России, а субъективная причина заключается в том, что нельзя относиться к вере с утилитарнопрагматических позиций. Он подчеркивал аполитичность православия, и, так понимая сущность религии, он был ближе к ее духу, чем кто-либо из евразийцев.
В заключение отметим, что осмысление учения евразийцев для нас, их потомков, поучительно, прежде всего, своей центральной мыслью: будущее России вырастает из прошлого. Укорененность культуры в особенностях этнографического и психологического облика народа является необходимым условием устойчивого развития общества. Судьба демократических реформ зависит от их адекватности социокультурной почве, а воздействие западных образцов на страны незападные имеет свои пределы. В этом особенность развития любого социокультурного образования. Общее проявляется через особенное в форме единичного.
Список литературы Осмысление евразийства: социокультурный аспект
- Люкс Л. 1993. Евразийство. -Вопросы философии. № 6. С. 105-114
- Россия: опыт национально-государственной идеологии (под ред. В.В. Ильина, А.С. Панарина, А.В. Рябова). 1994. М.: Изд-во МГУ. 232 с
- Савицкий П.Н. 2002. Евразийство. -Русская идея. М.: Айрис-пресс. С. 352-371
- Трубецкой Н.C. 1921. Об истинном и ложном национализме. -Исход к Востоку. София. С. 71-85. Доступ: http://wwwkulichki.com›~gumilev/TNS/tns05.htm (проверено 19.04.2016)
- Федотов Г.П. 1990а. Трагедия интеллигенции. -О России и русской философской культуре. М.: Наука. С. 403-449
- Федотов Г. П. 1990б. Будет ли существовать Россия? -О России и русской философской культуре. М.: Наука. С. 450-462