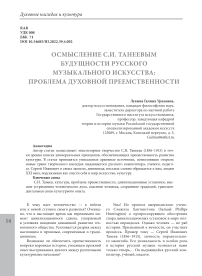Осмысление С.И. Танеевым будущности русского музыкального искусства: проблема духовной преемственности
Автор: Лукина Галима Ураловна
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Духовное наследие и культура
Статья в выпуске: 4, 2022 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи осмысливает эпистолярное творчество С.И. Танеева (1856-1915) в точки зрения поиска универсальных принципов, обеспечивающих преемственность развития культуры. В статье приводятся уникальные архивные источники, позволяющие открыть новые грани творческого наследия выдающегося русского композитора, ученого, педагога. Сергей Иванович в своих записях, дневниках, письмах словно обращается к нам, людям XXI века, подсказывая как спасти себя и мир, искусство, культуру.
С.и. танеев, культура, проблема преемственности, цивилизационные установки, высшие устремления человеческого духа, спасение человека, сохранение традиций, трансцендентальная связь культурного опыта
Короткий адрес: https://sciup.org/170198065
IDR: 170198065 | УДК: 008 | DOI: 10.34685/HI.2022.39.4.002
Текст научной статьи Осмысление С.И. Танеевым будущности русского музыкального искусства: проблема духовной преемственности
К чему идет человечество — к гибели или к новой ступени своего развития? Очевидно, что в настоящее время мы переживаем момент цивилизационного сдвига, ускоряемый в условиях пандемии динамикой развития техногенного общества. Усиливается разрыв между настоящим и прошлым, современным и традиционным.
Возможно ли обеспечить преемственность вопреки воронкам истории, уносящим прежний опыт выстраивания диалога между различными культурными началами?
Увы! Но прогноз американского ученого Сэмюэла Хантингтона (Samuel Phillips Huntington) о прогрессирующем обострении спора цивилизационных установок в мире полностью оправдался. Однако человек — не раб истории. Призванный к вечности, он участник процесса. Пример тому — Сергей Иванович Танеев (1856–1915), личность поразительного масштаба. Его уникальность и особая роль в истории русской музыки осознается нами только теперь… Он выдающийся русский композитор, учёный, педагог.
Вместе со своим учителем П.И. Чайковским Танеев стал главой московской композиторской школы. В ряду его учеников С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, Р.М. Глиэр, Н.К. Метнер, А.Д. Кастальский, А.В. Никольский, С.Н. Василенко, А.Н. Александров, А.В. Станчинский, А.С. Аренский, С.С. Прокофьев. При участии Танеева создавалась Народная консерватория в Москве (1906–1916). Изучая записи, письма, дневники Танеева, его теоретические труды, вслушиваясь в интонационный строй его кантат «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма», хорового цикла на слова Я.П. Полонского, инструментальных и вокальных сочинений, трилогии «Орестеи», всё более убеждаешься в редкой цельности и целостности всех сторон его творчества, педагогической, научной и общественной деятельности.
Почему исследования о Танееве так важны для нас сегодня, для людей разных ментальностей?1 В его наследии главной является тема мирового единства в высших устремлениях человеческого духа.
Знал ли об этой великой цели сам Танеев? Не просто знал — ради того жил. Это несомненный посыл всей его жизни и творчества.
Как Танеев боготворил Чайковского, как ценил все его замечания! Но при этом поразительно то, что Танеев спорил с ним, отстаивая главное — открывшийся ему путь развития русской и мировой культуры, в котором он хотел участвовать всеми силами души2. Танеев, подобно М.И. Глинке, осмысливая современную ему русскую культуру как не достигшую «полного и законченного развития»3, сосредоточивается на поиске корней высокого искусства. Танеев устремлялся к духовным горизонтам русской музыки в единстве
См. переписку П.И. Чайковского и С.И. Танеева за 1880- 5
1881 годы.
Из письма Чайковскому. См.: Танеев С.И. Чайковский П.И. Письма / сост. и ред. В.А. Жданова. Гос. литературный музей. М.: Госкультпросветиздат, 1951. С. 58.
с опытом западной, в единении высокого прошлого с будущим. Он верил, что мера света будущего искусства зависит от усилий художника. Сильнейший духовный посыл! Жажда единения светской музыки с церковной определила его идею создания православной кантаты. После того как Танеев представил Чайковскому кантату «Иоанн Дамаскин» — свой первый опус (несомненно, шедевр!), — Петр Ильич признал значимость избранного им пути. Его суть изложена в эпистолярном наследии Сергея Ивановича, в том числе — в самых ранних записях под названием «Что делать русским композиторам?» («Из памятной записной книжки» 1875, 1877, 1879 годов)4, в письмах Чайковскому и в эстетических записях, относящихся к 1895–1896 годам5. Глобальность во взгляде Танеева на путь русской музыки сравнима, пожалуй, лишь с осмыслением истории русской культуры в целом многими отечественными философами и литераторами второй половины XIX — начала XX века, — представителями эпохи, называемой «Культурное возрождение России».
Обращаясь к текстам Танеева, мы остановим свое внимание на ключевых моментах, сопряженных с проблематикой, обозначенной в названии статьи.
Танеев, как и многие русские мыслители современной ему поры, видел происходившую в культуре трансформацию духовных ценностей человека. По мнению Танеева, ориентир на «высокие стремления человека» в творчестве и жизни сменяется культом земного комфорта. Он об-неаружил связь подобной философии жизни и изменений, произошедших в современной музыке, критически отмечая отказ композиторов от тональной системы, крупной формы и в целом от завоеваний классического наследия. На его взгляд, симптомы болезни духа заявили о себе раньше всего в западноевропейской культуре, соответственно и в музыке: «Классический век её прошёл, она впадает в манерность, в мелочность»
(из письма Танеева Чайковскому от 6 августа 1880 года)6.
В письме М.И. Чайковскому от 17 декабря 1910 года, обсуждая направленность творчества некоторых «новейших» западноевропейских композиторов, Танеев задается вопросами: «Отчего стремление к новизне ограничивается только двумя областями — гармонией и инструментовкой? Почему наряду с этим не заметно не только ничего нового в области контрапункта, но, наоборот, эта сторона находится сравнительно с прежним временем в большом упадке? Почему в области форм не только не развиваются заложенные в них возможности, но и самые формы мельчают и приходят в упадок?»7.
Танеев осмысливает путь русской музыки в сопоставлении с европейской: «Музыка в Европе мельчает. Ничего соответствующего высоким стремлениям человека. В теперешней европейской музыке в совершенстве выражается характер людей, её пишущих, людей утончённых, изящных, несколько слабых, привыкших или стремящихся к удобной, комфортабельной жизни, любящих всё пикантное. Какие люди, такая и музыка… Но надо быть точным в выражениях. Нельзя говорить: наше время такое, наша музыка такова, — это неверно, говорите: музыка западных народов переживает такое время — это будет верно. Но не распространяйте это на нас…» (из письма Танеева к Чайковскому от 6 августа 1880 года)8.
Рассуждения Танеева отсылают нас и к спору славянофилов и западников об отношении России к Западу, о возможностях и способах реализации национального характера в художественной культуре, и к теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского, и к русской идее Вл.С. Соловьёва.
Впервые в русской литературе в систематической форме тема критики западной культуры была затронута Вл.Ф. Одоевским (1830-е годы).
Словами главного героя «Русских ночей» (Фауста) Одоевский высказывает мысль о «гибели» Запада, о внутреннем распаде его былой силы: «Осмелимся же выговорить слово, которое, может быть, теперь многим покажется странным, а через несколько времени слишком простым: Запад гибнет». Спасение Европы возможно лишь в том случае, если на сцену истории выступит новый народ со свежими силами. Таковым, по мысли Одоевского, является русский народ: «Но не одно тело спасти должны мы, русские, — но и душу Европы, — утверждает Фауст: ибо дело идет о внутреннем преображении самых основ культуры Запада».
Тема кризиса западной цивилизации, культуры, философии, поиски новых путей — сквозная для русской мысли рубежа веков. Особенно актуализируется она в 70-е гг., во многом благодаря творчеству Вл.С. Соловьева.
Взгляд Танеева совпадает с культурологическими теориями многих философов второй половины XIX века, которые отмечают деградацию самой идеи личности. В 80-е годы. К.Н. Леонтьев пишет, о том, что в гибнущей Европе люди отуманены «прогрессом», внешне манящими техническими усовершенствованиями и материальными благами, по сути стремящимися быстрее уровнять, смешать, слить всех в образе безбожного и безличного «среднего буржуа», «идеала и орудия всеобщего разрушения».
В западноевропейской культуре в целом произошло постепенное подавление национального характера человеческого существования характером социальным, то есть идея нации подменяется так называемым обществом. На фоне этой ситуации, сложившейся к середине XIX века, русская культура ясно определила собственную позицию: предпочтение идей, образов, музыкально-интонационного материала с ярко выраженным национальным характером. Именно на укрепление идеи нации были направлены усилия многих представителей искусства XIX века, в том числе Танеева.
Воспитанный своеобразным строем русской жизни, Танеев полагал, что обращение «за советом» к национальным образцам способно вывести искусство из тупика «нелюбия» и «разности».
Первая высказанная собственная позиция относительно будущности русского искусства содержится в известных записях Танеева под назва- нием «Что делать русским композиторам?». В них Танеев критически оценивает направление, взятое композиторами-соотечественниками: «Русские музыканты учатся западной музыке, прямо встречаются с готовыми законченными формами. Они или сочиняют в европейском стиле, или стараются втиснуть в евр[опейские] формы русскую песню, не думая о том, что русская [песня] по отношению к ним является чем-то внешним, не имеет с ними органической связи. Форма всякого произведения тесно связана с материалом, из которого оно строится. … Европейские формы нам чужие, своих у нас нет…» (запись за февраль 1879 года)9.
В 1880 году Танеев вновь, теперь уже в переписке с Чайковским, «проговаривает» проблему будущего русской музыки:
«VII. Мы ходим в потёмках. Это совершенно верно относительно того, что мы называем русским стилем, русскою гармонией. Лучшее тому доказательство есть то, что в учебнике гармонии, написанном нашим первым композитором, нет ни одного слова о тех гармонических последованиях, которые часто придают особенную прелесть его творениям и которые носят на себе отпечаток русского характера. Разве не доказательство тому, что этот стиль не достаточно выяснился и ещё не выработался в стройную систему, подобную западной. Да, мы ходим в потёмках»10.
Танеев анализирует историю становления европейских форм и формулирует своё видение пути, по которому следует идти русским композиторам: «Ни одна форма не образовалась случайно, все формы вытекали необходимо из предыдущих. В основании всей европейской музыки, таким образом, лежат народные песни и церковные мелодии. Несколько столетий люди их обрабатывали, результат — западноевропейские формы. Таким образом, эти народные мелодии заключали в возможности (in potentia)
всю теперешнюю европейскую музыку. Стоило к ним приложить мысль человеческую, чтобы они обратились в богатые формы <…> Задача каждого русского музыканта заключается в том, чтобы способствовать созданию национальной музыки. История западной музыки отвечает нам на вопрос, что для этого нужно делать: приложить к русской песне ту работу мысли, которая была приложена к песне западных народов, — и у нас будет национальная музыка» («Из памятной записной книжки» за февраль 1879 года)11.
Танеев ориентирует соотечественников не на подражание европейской культуре, а на «создание национальной музыки», «уяснение русского характера» («Из записной книжки»). Танеев пишет П.И. Чайковскому: «Этот русский характер мы чувствуем, он вносит струю совершенно новую и оригинальную в Ваши сочинения и в сочинения Глинки, и моя мысль заключается в том, что русский оттенок в музыке с течением времени будет получать всё более и более определённый характер, и из него выработается стиль существенно отличный от европейского»12.
Размышления Танеева о будущем отечественной музыки привели к идее жанра, который наследует отечественную традицию хорового пения. В письме Я.П. Полонскому от 8 января 1881 года он пишет: «Мне хочется взять в основание <…> кантаты древние мелодии нашей церкви и таким образом написать православную кантату. Замысел был осуществлен им в партитурах «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма».
Для Танеева было важным сохранить духовно-генетический код русской культуры, которая родилась из церковной. Танеев словно напоминает нам об этих истоках музыки. Он серьезнейшим образом изучал крюковую нотацию, устройство знаменного осмогласия и в целом — теорию и историю русского церковного пения. Вспомним и его работу по созданию переложений роспевов, участие в событиях в сфере
9 Танеев С.И. Из памятной книжки. 1875, 1877, 1879 гг. // История русской музыки в исследованиях и материалах: Сергей Иванович Танеев. Личность, творчество и документы его жизни. К 10-летию со дня смерти. 1915–1925 / под ред. проф. К.А. Кузнецова. Труды Гос. Ин-та муз. науки. Т. 2. М.; Л.: Музсектор Гсиздата, 1925. С. 74.
10 Танеев С.И. Чайковский П.И. Письма / сост. и ред. 12 В.А. Жданова. Гос. литературный музей. М.: Госкуль-тпросветиздат, 1951. С. 58.
православного хорового творчества13. Всё это указывает на безусловную включённость Танеева в процесс формирования так называемого Нового направления в духовной музыке рубежа XIX-XX веков. Своим творческим и жизненным подвижничеством Сергей Иванович сохранял и укреплял родовой этос русской культуры, дабы не потерялась нить, связующая искусство с его сокровенным духовным источником — с творчеством русского народа. Для него было ясно, что выстоять в напряженные времена способна только единая органичная интонационная система, в которой ведущая роль принадлежит собственным, аутентичным началам — опыту русской музыки, менталитету.
Тема своеобразия русского искусства, сохранения в ней национального начала живо интересовала не только Танеева. Особо выделяется в это время фигура В.В. Стасова — художественного критика, известного идеолога балакирев-цев. В своей работе «Двадцать пять лет русского искусства» (1882–1883) Стасов пишет: «Крупная черта характеризует новую нашу школу — это стремление к национальности. Оно началось еще с Глинки и продолжается непрерывно до сих пор. Такого стремления нельзя найти ни у одной другой европейской школы»14.
Разобраться в особенностях национального с позиции Танеева поможет сравнение со стасов-ской теорией.
При всей известной идеологической разнице между московской композиторской школой и балакиревцами налицо сходство в понимании С.И. Танеевым и В.В. Стасовым творческих целей, стоящих перед русскими композиторами, которые им видились в укреплении национального самосознания как фундамента в создании русского стиля в музыке. Между тем существуют две различные методологические позиции на пути к созданию национального.
Стасов считал, что для Новой русской школы «общепризнанные авторитеты <…> не существуют»15, более того — «художник не имеет ни права, ни возможности представлять такие столетия, которых он не видал сам и не изучал с натуры. <…> Не посторонние, не чужие, не давнишние и не дальние сцены, лица и характеры теснятся в воображении и чувстве, а то, что его всякий день окружает <…>»16. Соответственно, помимо национальности, второй главной чертой русского стиля, согласно стасовской теории, является реализм, основа которого — «отрицание идеальности»17. Подобного рода понимание реализма отчасти стало следствием продолжающегося влияния на русскую философско-эстетическую мысль атеистического материализма «шестидесятников», идей «критического направления» Н.Г. Чернышевского. В эстетической концепции Танеева это влияние не прослеживается. Им утверждается реализм в высшем смысле — духовный реализм. Для Танеева искусство — «духовная деятельность <…>, что соединяет людей не насилием, а любовью, что служит указанием на радость единения между собой или на страдание, происходящее от разъединения», «действительность не то, что бывает, а то, что происходило в душе художника»18.
Итак, выделим основные аспекты тане-евской концепции национального в русской музыке.
Во-первых, Танеев не имеет в виду передачу непосредственно видимого в русской жизни или прямое цитирование музыкальных народных тем.
Танеев считал, что русское, национальное вырастает в художнике постепенно: художник приобретает национальный «склад характера» под естественным воздействием впечатлений от целого, включающего землю, народ, мир, окружающий человека на протяжении всей жизни. Из письма Танеева Чайковскому от 19 августа 1880 года: «…то обстоятельство, что Вы родились в России, слышали песни, жили среди той природы, которая имела влияние на склад харак- тера русского народа, эти и многие другие причины делают то, что Ваша музыка часто носит особый характер, непохожий на европейский»19. Эти рассуждения о выражении национального в художественном творчестве близки пониманию А.С. Хомякова: «Художник не творит собственно своею силою: духовная сила народа творит в художнике»20. Нечто подобное утверждал и русский философ С.Н. Булгаков — современник Танеева: «Национальность опознается в интуитивном переживании действительности. <…> Национальный дух не исчерпывается никакими своими обнаружениями, не сливается с ними, не окостеневает в них»21. Иначе говоря, национальный дух есть начало живое и творческое, имеющее отношение к душе, стремящейся к источнику вечной жизни и спасения.
Танеев, в отличие от материалистического понимания реализма Стасовым, утверждает, что «без добросовестного и искреннего отношения к духовной стороне своей природы человек не может сделаться ни нравственным, ни счастливым» (Письмо Ю.И. Сабанеевой от 1897 года)22. «Высокие стремления человека»23 — важнейший для Танеева индикатор русского национального характера. Поэтому в качестве основного ценностного критерия русского искусства им выдвигается прежде всего этос — направленность к «внутреннему человеку».
Во-вторых, для Танеева национальное — главное измерение в композиторском самосознании. Он ищет русский почерк, признаки того, что подразумевается под фразой «мыслить по-русски».
Основная цель творчески-экспериментатор-ской работы с народными песнями для Танеева — не столько точно сохранить в своей интер- претации мелодический первоисточник, сколько приобрести творческую чуткость к народным стилевым чертам, народно-музыкальному языку в таких его проявлениях, как текучие построения, неквадратная метрика, отсутствие нарочитых тематических контрастов, широта дыхания и свобода мелодического развития, распевание слова. Речь идёт о протяжной лирической песне. Танеев ощутил, что мелодическое протяжное, или распевное, начало есть важнейшее отличительное свойство русского мышления. В письме П.И. Чайковскому он пишет: «<…> русские мелодии должны быть положены в основу музыкального образования» (от 18 сентября 1880 года)24. Постепенное внедрение в музыкальное сознание композиторов национального мелодического материала, по мнению Танеева, может способствовать рождению русского стил.
В-третьих, в эстетической концепции Танеева, в отличие от стасовской, преемственность в творчестве отечественных композиторов всего действительно ценного в европейской музыке есть необходимость. Внимание со стороны композиторов к сокровищнице европейского прошлого декларируется как «прямой путь вперёд».
«Опыт вековой мудрости европейских музыкантов» нужен, как считал Танеев, ради поиска лучшего для русского искусства. Он изучал европейскую музыку, но не ради копирования. И не мечтал стать европейским композитором. Он почитал западную классическую музыку, потому что любил русскую…
Танеев, понимая под педагогической деятельностью, или «деятельностью учительства», передачу опыта, полученного от предшествующих поколений, опирался на знания, приобретённые от великих Учителей — средневековых песнопевцев, нидерландских полифонистов — вплоть до П.И. Чайковского. Об этом пишет Н.К. Метнер в своей книге «Музы и мода»: «Прежние преподаватели музыкальной теории, преподавая нам законы нашего искусства (с помощью правил), как бы передавали нам попросту некое завещание великих музыкантов прошлого»25. Многие из ярчайших представителей русской школы композиторов, исполнителей, учёных, будучи учениками Танеева, стали носителями заветов «Мирового учителя» (определение А.К. Глазунова).
Танеев, исполняя одно из величайших заданий русского музыкального искусства — поиск пути, спасающего его от «разложении[я] музыкальной формы», «измельчании[я] строения отдельных частей и упад[ка] общей композиции»26 («Подвижной контрапункт строгого письма»)27, разработал концепцию, согласно которой русские композиторы могут, «с одной стороны, способствовать росту европейского дерева, а с другой — воспитывать собственные ростки.< …> По этим двум дорогам шел Глинка <…> моя мысль заключается в том, что русский оттенок в музыке с течением времени будет получать всё более и более определённый характер, и из него выработается стиль существенно отличный от европейского» (из письма Чайковскому от 18 августа 1880 года)28.
На первый взгляд, Танеев допускает некое противоречие: с одной стороны, он критикует русских композиторов, которые «сочиняют в европейском стиле», с другой — полагает, что они «должны у европейцев учиться». На самом деле в понимании Танеева специфическим качеством русского стиля должно быть гармоничное сочетание национально-русского и европейского начал, возможное, например, в форме «русской фуги» или «православной кантаты».
В свое время Глинка был «почти убеждён, что можно связать фугу западную с условиями нашей музыки узами законного брака»29. Двадцатитрёхлетний Танеев уверенно разделяет эту мысль и призывает соотечественников: «Усвоим себе опыт древних контрапунктистов и возьмём на себя трудную, но славную задачу. Кто знает, может быть, следующему поколению мы завещаем новые формы, новую музыку. … Начать с элементарных контрапунктических форм, пере- ходить к более сложным, выработать форму русской фуги, и тогда до сложных инструментальных форм один шаг. Европейцам на это понадобилось несколько столетий, нам время значительно сократится. Мы знаем дорогу, мы знаем цель, мы можем беспрепятственно пользоваться опытом европейцев»30. Таким образом, Танеев воспринимал себя практически преемником дела, начатого Глинкой, который оставил «программу» создания национальной музыки.
Современный философ С.С. Хоружий, характеризуя русскую классическую культуру, отмечает, что в XIX веке пришло осознание необходимости «свести воедино все компоненты "лоскутной культуры", взятые из множества культурных миров, умственных и духовных течений»31. Задачей русского синтеза было «успешное претворение "чужого" в "свое", заемного и лоскутного в органичное и творческое»32. Несомненно, эта задача полностью соответствует той, что ставил перед русскими композиторами Танеев. Последним объясняется его стремление постигнуть основы средневековой монодии, контрапункта, полифонии Баха, музыки Моцарта, Бетховена, историю церковного пения. Он стремился отыскать для русской музыки прочный фундамент всечеловеческого опыта интонационного строительства. В европейской культуре, как и вообще во всем, он искал вечную константу, подлинное, духовно насущное, онтологически значимое и необходимое.
Лишь на первый взгляд кажется парадоксальным огружение Танеева в контексте динамичной культуры рубежа XIX—XX веков вглубь истории. «Несовременность» как свойство танеевской музы выражает исключительную отзывчивость композитора к сфере Вечного, которая всегда, во все времена выглядит с позиции сиюминутных запросов несвоевременной, абстрактной, далекой от жизненной эмпирики. Прислушаемся же к словам композитора, для которого важнейшим индикатором искусства стали «высокие стремления человека». В письме А.С. Аренскому Танеев писал: «Цель [творчества] — возвыситься над тем, что люди считают важным и существенным и что на самом деле ничтожно и пошло, познать и создавать истинно великое, истинно прекрасное. Достигнуть этой цели есть высшее счастье, какое только доступно человеку»33.
В отличие от многих художников Серебряного века, он, не боясь казаться «старомодным», обращался к известным формам, казавшимся на пороге XX в. «устаревшими», открывая в них некие универсальные принципы, обеспечивающие преемственное развитие культуры.
Вот как Л.Л. Сабанеев описывал историческое значение фигуры Танеева в эпоху грандиозных потрясений в музыке: «Мы вошли в стадию, когда все ценности стремятся к переоценке <…>. На наших глазах устаревают со страшной, томительной быстротой те “достижения”, которым мы поклонялись. Вчера небывало новое сегодня становилось старым, тусклым, будничным, “вчерашним днем”. Музыка, подобно какому-то спорту, обратилась в ристалище скорости и развивается в неведомом направлении равноускоренным темпом <…>. Мудрец Танеев оказывается еще раз правым, его спокойное отношение к вечной красоте еще раз оправдывается<…> музыкальное человечество вновь испытывает тоску о прекрасной музыкальной звуковой форме»34. Этим суждениям Сабанеева почти сто лет. Тяга к красоте музыки, как и искусства в целом, к красоте идеи и смыслов ощутима теперь еще острее.
Многие проблемы, которые поднимались Танеевым, при их осмыслении оказываются насущными и в наше время, когда коронавирусная пандемия ввергла нас в беспрецедентную ситуацию неопределенности будущего, от-далённости мира, дефицита большой реальности35.
Так прислушаемся же к мудрости Танеева, который видел спасение человека в сохранении тра- диции, передаче высоты искусства из поколения в поколение, благодаря которой осуществляется трансляция глубинной трансцендентной связи культурного опыта во времени.
Список литературы Осмысление С.И. Танеевым будущности русского музыкального искусства: проблема духовной преемственности
- Булгаков С.Н. Два града. Исследования о природе общественных идеалов. М., 1911. Т. II.
- Метнер Н.К. Муза и мода (защита основ музыкального искусства). Париж: Утса-рге88, 1978.
- Письма М.И. Глинки къ К.А. Булгакову // Русскш Архивъ. 1869. № 12.
- Письма П.И. Чайковского и С.И. Танеева / под ред. М.И. Чайковского. М.: Изд-во П. Юрген-сон,1916.
- Сабанеев Л.Л. Воспоминания о Танееве. М.: Классика^^, 2003.
- Стасов В.В. Двадцать пять лет русского искусства // История эстетики. Памятники эстетической мысли. М., 1969. Т. 4. Первый полутом: Русская эстетика XIX века. С. 653-658.
- Танеев С.И. Из памятной книжки. 1875, 1877, 1879 гг. // История русской музыки в исследованиях и материалах: Сергей Иванович Танеев. Личность, творчество и документы его жизни. К 10-летию со дня смерти. 1915- 1925 / под ред. проф. К.А. Кузнецова. Труды Гос. Ин-та муз. науки. Т. 2. М.; Л.: Музсектор Гсиздата, 1925. С. 73-77.
- Танеев С.И. Материалы и документы. Т.1. Переписка и воспоминания / С.И. Танеев/ подгот. акад. Б.В. Асафьевым; ред.: В.А. Киселев, Т.Н. Ливанова, В.В. Протопопов. М., 1952.
- Танеев С.И. Подвижной контрапункт строго письма; ред. С.С. Богатырёв. М., 1959.
- Танеев С.И. Чайковский П.И. Письма / сост. и ред. В.А. Жданова. Гос. литературный музей. М.: Госкультпросветиздат, 1951.
- Хомяков А.С. О возможности русской художественной школы (1847) // Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1861.
- Хоружий С.С. Рождение русского философского гуманизма: спор славянофилов и западников. иЬИ: http://www.antropo1og.ru/doc/persons/ Ноги'у/СЬогаЦ 432