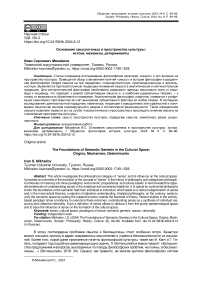Основания смыслогенеза в пространстве культуры: истоки, механизм, детерминанты
Автор: Михайлов И.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию философской категории «смысл» и его влияния на пространство культуры. Приводится обзор становления понятия «смысл» в истории философии и разделение философских теорий смысла на три парадигмы: словоцентристскую, пропозициональную и деятельностную. Выявляются противоположные тенденции понимания смысла в аналитической и континентальной традициях. Для континентальной философии свойственно размывать границы смыслового поля от индивида к индивиду, что приводит к резкой субъективации смысла и, в наиболее радикальных теориях, - к отказу от возможности объективного понимания. Аналитическая философия, напротив, стремится к унификации смыслового пространства за счёт вынесения субъективного фактора за скобки теории. В последних исследованиях деятельностной парадигмы наметилась тенденция к преодолению этих крайностей и пониманию смысла как синтеза индивидуального разума и коллективной рациональности. Такое определение смысла позволяет вывести его из сугубо гносеологического пространства и проследить влияние смысла на становление пространства культуры.
Смысл, пространство культуры, парадигмы смысла, семиогенез, разум, рациональность
Короткий адрес: https://sciup.org/149146452
IDR: 149146452 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2024.8.12
Текст научной статьи Основания смыслогенеза в пространстве культуры: истоки, механизм, детерминанты
,
,
утруждают себя прояснением самой категории «смысл», ограничиваясь её интуитивным пониманием. В такой ситуации представляется весьма важным проследить историю становления понятия «смысл» и выявить общие принципы механизма смыслообразования.
Недостаточная философская рефлексия взаимозависимости смыслового пространства языка и социальной реальности показывает несомненную актуальность исследований в этой области, а понимание механизмов появления новых смыслов в пространстве культуры становится ещё более значимым на фоне продолжающихся трансформаций культурного пространства. В настоящий момент интерес исследователей вызывает сам процесс смыслообразования в культуре и его отдельные механизмы (коммуникативные, ценностные, локально-культурные).
В нашем исследовании, исходя из анализа философских концепций понятия «смысл», мы постараемся показать, что, на первый взгляд, чисто гносеологические категории могут иметь весьма важные и вполне практические проекции на область аксиологии и философии культуры.
Толкованием понятия «смысл» занимались такие известные философы, как Э. Гуссерль, М. Босс, Г. Фреге, Дж. Ричлак, М. Флациус, Г. Шпет, Ж. Делёз и др. Из отечественных исследователей стоит выделить Н.Г. Багдасарьяна, А.П. Воеводина, Г.В. Драча, А.Н. Леонтьева, Г.П. Щедровицкого, А.С. Кравца и пр. В настоящий момент интерес учёных вызывает сам процесс смыс-лообразования в культуре и его отдельные механизмы (коммуникативные, ценностные, локально-культурные).
Цель статьи – эксплицировать историко-философскую эволюцию категории «смысл» и наметить перспективу рассмотрения смыслогенеза в пространстве культуры.
А.С. Кравец в своей недавней монографии «Философская теория смысла» из всего многообразия философских концепций смысла выделяет три парадигмы (Кравец, 2022: 134). Автор последовательно описывает словоцентристскую парадигму в классической философии, начиная с лингвистического поворота, и говорит о пропозициональной парадигме . Современные тенденции он рассматривает как деятельностную парадигму , представленную, по его мнению, в работах Дж. Остина и Дж. Сёрла. Отправной точкой словоцентристской парадигмы служит двухчастная концепция смысла «вещь – имя», которую иногда называют «крещенской» (Кравец, 2022: 12), полагающая смыслом соответствие ментального представления о предмете определённому знаку или имени.
В такой «корреспондентской» модели смысл считается довольно строгим явлением, а общая разумная природа человека предполагает возможность единого «прочтения» такого смысла. Однако уже в классическую эпоху, в диалоге Платона «Парменид» и позже у Аристотеля, появляется понимание, что эта схема недостаточна, подобно тому, как вещь не может идеально соответствовать своей исходной идее, а человеческое понимание идеи не может быть полностью унифицировано.
Так возникла уже трёхчастная концепция «вещь – имя – идея», пространство смыслов стало размываться. И чем дальше развивалась словоцентристская парадигма, тем больше понимание смысла смещалось в сторону субъективности. В рамках континентальной философии смысловые пространства отдельных субъектов расходились всё сильнее, пока в постструктурализме не оказалось, что смыслы отдельных субъектов фактически не могут пересечься. Здесь всякая интерпретация – это всегда новые смыслы, так что даже автор не может контролировать понимание своего текста.
Однако в начале XX века, уже на первом этапе лингвистического поворота в философии, в противовес классическим словоцентристским концепциям рождается пропозициональная парадигма смысла. Здесь смысл начинает пониматься как содержание целостной мысли, а не отдельных слов. Притом без относительно дополнительных модусов мысли, таких, например, как истинность или ложность. Аналитическая философия, используя потенциал логического аппарата, стремилась создать теорию смыслового единства, покончить с размытостью смыслового пространства и, наконец, обрести идеальный инструмент, позволяющий нивелировать любую субъективность.
Столкновение между двумя столь противоположными тенденциями приводит к попыткам преодолеть противоречия между ними. Новая деятельностная парадигма, по мнению А.С. Кравца, революционна тем, что сблизила «в смысловом плане речь и практику. Речевые коммуникации, оказывается, мотивируются, планируются и осуществляются по тем же смысловым нормам, что и любое социальное действие» (Кравец, 2022: 6).
Иными словами, в новейших подходах к теории смысла наметился синтез двух направлений (аналитического и континентального), где есть попытка объяснить особую природу смысла и его роль в отношении «человек – природа». Понимание смысла как важнейшей компоненты не только языкового пространства, но и остального спектра человеческой деятельности – коммуникации, образования, науки, искусства, ценностного наполнения культуры – позволяет избежать крайностей, связанных как с чрезмерной объективацией смысла, так и с его исключительной субъективацией. Деятельностная парадигма позволяет различить в смысле два модуса – индивидуальный (субъективный) и культурный (объективный), представляя, таким образом, смысл как синтез разума (индивидуальное) и рациональности (коллективное).
Для наглядности кратко рассмотрим основные историко-философские концепции смысла в соответствии с указанными парадигмами.
Словоцентристская парадигма сформировалась в древности в рамках мифологического мировоззрения. В ту эпоху соотношение вещей и их названий традиционно объяснялось через миф, который понимал имя вещи как выразитель и неизменный атрибут её сущности (Курды-байло, 2014: 175).
Первое рациональное видение этой проблемы представлено у Платона в диалоге «Кра-тил». Там Сократ настаивает на тесной связи сущности предмета с его именем, репрезентируя мифологическую интуицию древности, в то время как его оппонент Гермоген настаивает на определённой договорённости между людьми, как называть те или иные вещи (Платон, 1990: 65).
Такое представление о конвенциональном происхождении знаков получит раскрытие в работе Аристотеля «Об истолковании». Здесь Аристотель чётко различает имя (греч. ὄνομα) и « знание о вещи » (ментальное содержание имени, впоследствии смысл или значение) (греч. σημαντικὴ), где имя вещи, которое указывает на знание о вещи, есть знак (греч. σύμβολον). Смыслы присваиваются именам в результате договорённости, сами же знаки не связаны с сущностью обозначаемых вещей (Аристотель, 1976: 74).
Концепция связи мысленного образа вещи с его объективной идеей обрела существенное дополнение в эллинистический период. Стоики учили, что за конкретными вещами стоят особые огненные сущности или «семенные логосы» (греч. Λόγοι σπερματικοί) (Аверинцев, 2006: 345). Они признавали возможность вскрыть эти семенные логосы через довольно длинную череду логических рассуждений, однако, оставаясь на базовом уровне приверженцами эмпиризма, отказывались от субъективистской трактовки.
Совершенно иначе дела обстоят у неоплатоников. Как у Плотина, так и у Прокла внутренние сущности вещей (семенные логосы) представляют собой эманацию умопостигаемого мира, особой интеллигибельной материи. Они не подвержены логико-дискурсивному анализу и схватываются высшим аспектом души, который Плотин определяет как «разум», используя для этого греческий термин «логос». В отличие от стоиков, здесь индивидуальный разум не замкнут в логико-дискурсивной темнице и способен на высших уровнях познания перейти от грамматического описания идеи к её мистическому созерцанию. Более того, Прокл указывает на очень важный момент откровения (Жаринов, 2019: 80). Ускользание от возможностей логико-дискурсивного описания и феномен откровения – очень характерные черты пространства смыслов, что ещё нагляднее проявилось в христианском дискурсе.
Блаженный Августин окончательно формулирует концепцию универсалий (идей по Платону), понимаемых как «мысли Бога». Ядром концепции лингвистического символизма у Августина выступает уже триада «имя – слово – знак». Здесь для него встаёт проблема интерпретации. По его мнению, только церковное толкование Священного Писания может служить критерием истины и осмысленности (Шпека, 2003: 280).
Такая тенденция продолжается в работах крупнейшего средневекового философа и систематизатора Фомы Аквинского. В своей концепции он различает три вида имён или понятий: однозначные, одноименные и аналогичные. И если однозначные понимаются Фомой как исключительно стабильные и не поддающиеся смысловым сдвигам, то одноименные и аналогичные явственно имеют пространство субъективности и зависят во многом от контекста использования конкретным человеком (Винюкова, 2014: 21).
Поворотным моментом в субъективации смыслового пространства можно назвать утверждение Р. Декартом субъективной реальности в качестве единственно несомненной. Таким образом, любая степень иллюзорности и зависимости от метафизического основания оказывается устранённой. Мысль – это теперь самостоятельная субстанция, явленная в субъекте (Рябушкина, 2014: 28). В субъективном идеализме Дж. Беркли также указывается на то, что копии идей в субъективном сознании производятся душевной волей и сильно завязаны как с индивидуальными идеями-перцепциями, так и с эмоциональным состоянием субъекта.
Важную роль в понимании концепции смысла сыграла школа английского эмпиризма. Ф. Бэкон соглашался с Аристотелем в том, что имена вещей, то есть слова, – это предмет человеческой договоренности, а не выразители некой глубинной сущности вещей. Но в этом же он видел и главную опасность субъективизма – идол рынка. Ведь за одним и тем же словом разные люди могут понимать разное ментальное содержание (смысл). А значит, влияние таких субъективных интерпретаций нужно максимально нивелировать. В этом направлении продолжили двигаться английские эмпирики (Т. Гоббс, Дж. Локк) и впоследствии аналитическая философия.
А вот немецкая классическая философия пошла в противоположном направлении. Так, определение И. Кантом разума как высшей познавательной способности человека, свободной и творческой, стремящейся за пределы всякого возможного опыта и в итоге сталкивающейся с антиномиями, явственно указывает на нерешённую проблему смысла и интерпретации. Она весьма основательно рассматривалась в зарождающейся герменевтической школе, в первую очередь Ф. Шлейермахе-ром. В его концепции понимания органично сочетаются грамматический подход, старающийся раскрыть как бы изначальный, заложенный автором, устойчивый смысл текста (позже для этого концепта будут использовать термин «значение») и психологический смысл, зависящий от бесчисленных инвариантов состояний психики как создававшего текст автора, так и интерпретирующего текст читателя. И, несмотря на то, что Ф. Шлейермахер считал возможным подобраться к авторскому смыслу через максимальные отождествления читателя с автором, всё же «понимание» читателя неизбежно сохраняет некоторые психологические черты (Шаев, 2010: 128).
Итак, каждый индивидуальный разум способен систематизировать чувственный опыт с помощью категорий, творчески обрабатывать полученную информацию и порождать огромный спектр субъективных идей. А далее человек начинает эти субъективные идеи транслировать другим с помощью знаковой системы, текста в самом широком понимании. Но как сам знак в качестве вещественного проявления связан с пространством субъективного переживания идей, т. е. смыслов? Эта проблема приводит к тому, что появляются первые теории знаков. Наиболее важны для нашей темы концепции Ч.С. Пирса, Э. Гуссерля и Г. Фреге.
Основоположник семиотики Ч.С. Пирс создаёт грандиозную по своей детализации теорию знака. Однако в понимании смысла он возвращается к платонической триаде «вещь - имя - идея» (хотя и представлена она в виде соотношения «знак - объект - интерпретант») (Басин, 1974: 166), где на место вещи становится объект любого онтологического статуса (неважно, материального или воображаемого), а на место вечной Идеи - интерпретант. Интерпретант - это само понимание знака в сознании субъекта.
Ч.С. Пирс замечает, что без интерпретанта знак существовать не может. При определённом обобщении можно сопоставить концепцию интерпретанта со значением или смыслом знака. Однако на этом он не останавливается и указывает на то, что интерпретант как таковой неизбежно становится знаком второго уровня, порождая необходимость новой интерпретации. В результате Ч.С. Пирс приходит к концепции фактически бесконечного семиозиса - процесса порождения новых интерпретаций.
Несмотря на сложную и хорошо проработанную теорию знака, Э. Гуссерль так до конца и не различил понятия «значение» и «смысл». Для него даже на позднем этапе творчества эти термины во многом оставались синонимами и могли заменять друг друга. Это вполне вписывается в феноменологическую установку, ведь она как бы выносит за скобки существование внешней по отношению к сознанию реальности.
Смысл по Гуссерлю - это ядро ноэмы, особого региона в человеческом сознании, вмещающем содержательную целостность актов переживания (ноэзиса). Иногда допускается даже отождествление ноэмы и смысла. Самое главное здесь - холистичность восприятия и переживания какого-либо феномена, взятая в совокупности со всем спектром потенциальных взаимосвязей с другими возможными феноменами. При этом концепция знака во многом повторяет уже известные Ф. Брентано и герменевтике представления о знаке как об указателе на некий устоявшийся, общепонятный факт. Такие знаки он называет «знаки-признаки» и сводит их функцию именно к «оповещению» (Гуссерль, 2011: 57).
Совершенно другой функцией обладают «знаки-выражения». Они придают значения, фиксируя в процессе так называемой идеации (генерации идеи/сущности) ключевые характеристики феномена в их взаимосвязи с совокупностью потенциальных взаимосвязей с другими феноменами, то есть смысл или значение.
Г. Фреге известен прежде всего тем, что сформулировал фундаментальное различие между значением и смыслом. В соответствии с его знаменитым «треугольником», любой знак в равной степени передает смысл и указывает на сам объект, денотат или значение. Сегодня многие исследователи сходятся во мнении, что Г. Фреге фактически отождествлял денотат как объект внешней объективной реальности и значение как категорию (Кравец, 2022: 50). Разные знаки могут ссылаться на один и тот же объект, при этом знак не только связан с представлением об объекте, к которому он относится, но и со смыслом, который раскрывает, т. е. с тем, как объект понимается в сознании субъекта.
В концепции Г. Фреге знак разбивается на две составляющие: денотативную , относящуюся к единичным фактам (объектам), которые описывает знак, и сигнификативную , описывающую категории (общие понятия), к которым относятся означаемые единичные объекты. Это может приводить к такой ситуации, когда знаки, совпадающие в денотативном аспекте, могут различаться в сигнификативном. Такие различия в подходах к анализу одного и того же объекта позволяют исследовать его с разных сторон.
Концепция Г. Фреге послужила отправной точкой для разделения европейской философской мысли в понимании смысла на два хорошо известных лагеря: аналитическую и континентальную философию.
Континентальная философия идёт в направлении субъективации и вовсе отказывается признавать в мысли субъекта хоть какое-то объективное содержание. Уже рассмотренное нами направление герменевтики получает своё развитие в трудах Г.-Г. Гадамера, который признаёт наличие у смысла объективного уровня. Однако для открытия исходных смыслов любого текста недостаточно простой номинации (понимания) слов. У Г.-Г. Гадамера смысл всегда интенционален, иными словами, имеет источник в виде интерпретирующего субъекта, а значит, сопряжён с его внутренними установками и переживаниями. Каждое слово, как часть текста, несёт смысловые коннотации, разнящиеся у автора и интерпретатора. Это возвращает нас к принципу «герменевтического круга», известному ещё по Ф. Шлейермахеру. Только сам Г.-Г. Гадамер не видел проблемы в этом круге, полагая его во многом онтологическим ядром традиционных смыслов (Гадамер, 1991: 15), в которое требуется скорее войти для адекватного понимания текста, нежели выйти из него.
Сам же смысл у Г.-Г. Гадамера имеет двоякую природу. Философ признаёт, что всякое понимание есть генерация новых смысловых оттенков, того самого поля субъективности. При этом он категорически не приемлет тотальной субъективации смыслов, утверждая, что в культуре существуют некие базовые самотождественные смыслы. Появление структурализма знаменует собой новый виток в понимании смысла.
Ф. де Соссюр, один из основателей лингвистического структурализма, пишет работу «Курс общей лингвистики». Книга описывает язык как жёсткую структуру знаков. Эта система или структура предполагает наличие двух категорий: обозначения, т. е. номинации слов – здесь речь идёт о вычленении базовых знаковых структур (звуков, буквенных символов и собственно лексем) из потока эмпирических данных, а также означения – мысли, интерпретирующей слово и соотносящей его с денотатом. Эта вторая категория и получила наименование «смысл». Ф. де Соссюр, в отличие от Г. Фреге, включает значение и смысл в структуру знака. Значение или денотат, сам объект реальности, понимается как означающее, а вот смысл, или, как у Ф. де Соссюра, концепт, понимается как означаемое. Их единство, плюс конвенциональная языковая оболочка, и составляют действующий знак. При этом Ф. де Соссюр также допускает, что категория «смысл» довольно плавающая и может разниться от субъекта к субъекту в силу наличия «ассоциативных отношений», т. е. отсутствия жесткой фиксации между знаком и смыслом в языке (Соссюр, 1999).
Известный французский философ и семиотик Р. Барт тоже шёл по пути структурализма в период своего раннего творчества. Обратившись к анализу массовой культуры, Р. Барт вдруг испытывает ту же интуицию, что посещала Ч.С. Пирса. Да, знак есть совокупность означающего и означаемого, но этим он не исчерпывает себя в культуре. Знак никогда не тождественен себе, он всегда предстаёт как новое означающее на качественно новом уровне, а любое означающее подразумевает наличие означаемого. Система знака повторяется уже на уровне культуры. Определённому знаку в культуре начинает соответствовать новое означаемое, новый смысл. Эту структуру (знак второго уровня) Р. Барт называет мифом.
Если первичная система знака выступает у Р. Барта «денотацией», хотя и подразумеваются субъективные аспекты на уровне означаемого, то знаки второго уровня (например, приложение TikTok) в культуре уже имеют устойчивую коннотацию (социальная сеть для публикации молодым поколением глупого развлекательного контента). И это уже миф, устойчиво проявляющийся в культуре. Всю совокупность таких культурных коннотаций Р. Барт понимает в качестве «текста» (Ивлева, 2007: 104).
В итоге философ приходит к своему парадоксальному и в то же время весьма логичному выводу о смерти автора . Так манифестируется очень важная веха континентальной философии – смыслы становятся настолько субъективны и инвариантны, что не только два разных интерпретатора не смогут прийти к общему смыслу, но даже автор текста не властен над его смыслами. Ткань текста становится свободной «для внесения или извлечения смысла», что порождает, к примеру, проблему плагиата (Шляков, 2024: 45).
Теперь сравним такое стремление к предельной субъективации с тенденциями в аналитической философии . Именно в этой интеллектуальной традиции, по мнению А.С. Кравца, формируется пропозициональная парадигма смысла .
Б. Рассел в работе «Философия логического атомизма» осуществил прорыв в анализе языка с точки зрения логики, предложив разделять структуру высказываний на атомарные составляющие, в первую очередь имена и предикаты. В своей теории он привлекает смысл не для имён и слов, а для высказываний. Смысл может быть порождён только сочетанием имени и предиката. Дескрипции у Б. Рассела – это не просто названия, а скорее нарицательные именные конструкции, выражающие определённое положение атомарных фактов мира. Имена (слова, понятия) могут обрести смысл, находясь только в составе пропозиции (Рассел, 1999).
Л. Витгенштейн подхватил у Б. Рассела идею о том, что структура мира отражается через языковые структуры. Он акцентировал внимание на связи между языком и структурой вселенной, подчеркивая: «Границы моего языка означают границы моего мира. Логика ограничивает мир; именно её ограничения задают ограничения мира» (Витгенштейн, 2018: 56).
Рассмотренный нами обширный историко-философский материал касается прежде всего первых двух парадигм. Третья, деятельностная парадигма, возникает в середине XX века также в контексте лингвистического поворота. Если словоцентристская парадигма в первую очередь нацелена на соотношение «знак – понятие», пропозиционная – на выявление ментального содержания, стоящего за высказываниями, то деятельностная парадигма оценивает взаимодействие высказывания и объективного мира.
Дж. Остин и Дж. Сёрл указывают, что одно и то же высказывание в разных контекстах имеет различные онтологические последствия. Так, когда свидетель на суде утверждает, что «обвиняемый виновен», это высказывание не имеет юридической силы, оно является лишь аргументом, который будет оцениваться судом. Но если это же высказывание прозвучит из уст судьи при оглашении приговора, то это значимо повлияет на объективную действительность. Деятельностная парадигма «акцентирует субъективные аспекты смысла, связанные с намерением говорящего и пониманием этого смысла слушающим» (Кравец, 2022: 75). Это позволяет нам говорить о влиянии языка как коммуникативной среды на всё пространство культуры в целом. Субъективные элементы не только переживаются их носителями, но ещё и высказываются, манифестируются в культуру, а при соблюдении определённого контекста опредмечиваются в ней в виде норм и ценностей.
Стоящий особняком Ж. Делёз во многих аспектах также подходит под деятельностную парадигму, несмотря на то, что он типичный представитель континентальной философии. Отдельные слова, по его мнению, недостаточны для выражения смысла как категории. Для того чтобы появился смысл, необходимо пусть минимальное, но событие . В высказывании Ж. Делёз выделяет три основных уровня: десигнацию , то есть процесс сопоставления пропозиции с её денотатом или значением ( словоцентристская парадигма), манифестацию личности (эго) говорящего ( пропозициональная парадигма) и сигнификацию – помещение пропозиции в целостный дискурс, её влияние на событие ( деятельностная парадигма). Это указывает на осторожный поиск общего решения проблемы смысла и в континентальной философии.
Следовательно, в современном философском дискурсе смысл перестаёт рассматриваться как чисто гносеологическая категория. Смысл, как один из важнейших экзистенциалов человеческой природы, понимается как структурный элемент культуры. А понимание механизмов семио-генеза становится одной из актуальнейших проблем философии культуры. Как можно заметить, приводимые А.С. Кравцом три парадигмы не исключают друг друга, а скорее дополняют и расширяют. Поэтому ни словоцентристскую, ни пропозиционную парадигму не стоит рассматривать как устаревшие.
Подводя итог нашему исследованию, нужно сказать, что, рассмотрев историю категории «смысл», мы показали, что в классической философии от Античности до XX века преобладала словоцентристская парадигма, и главной проблемой являлся процесс интерпретации, то есть перехода от слова к его изначальной идее.
В XX веке философы окончательно разделились в интерпретации смысла. Тяготеющая к сциентизму аналитическая философия, пытаясь устранить субъективность смысла, сформулировала новую пропозициональную парадигму его понимания. В рамках данной парадигмы смысл усложнился от идеи или отдельного понятия до содержания целого высказывания. Континентальная философия гиперболизировала смысловой субъективизм до максимума, по преимуществу оставаясь в рамках словоцентристской парадигмы. Современный деятельностный подход предполагает, что эти крайности можно рассматривать как диалектические противоположности и попытаться выйти на уровень синтеза.
Ещё отечественные психологи Л.С. Выготский и А.Н. Леонтьев говорили о двух измерениях смысла – «личностном» и «культурном» (Кособукова, 2009: 92). Но порождение личностных смыслов теснейшим образом связано с социализацией индивида (Кравец, 2022: 196), с его умением прочитывать смыслы в окружающей культуре. При этом семиогенез, процесс наполнения культуры ценностями, возможен исключительно в творческой активности индивидов, порождающих личностные смыслы.
Таким образом, диалектика индивидуального разума, порождающего личностные смыслы, и коллективной рациональности, фиксирующей смыслы культурные, приводит к процессу смыс-лообразования, то есть наполнения пространства культуры ценностно-смысловым содержанием.
Список литературы Основания смыслогенеза в пространстве культуры: истоки, механизм, детерминанты
- Аверинцев С.С. Собрание сочинений. София-Логос. Словарь. Киев, 2006. 912 с.
- Аристотель. Сочинения: в 4 т. / под. ред. В.Ф. Асмус. М., 1976. Т. 1. 550 с.
- Басин Е. Знак, изображение, искусство (О семиотической концепции Чарлза Пирса) // Вопросы литературы. 1974. № 4. C. 166–187.
- Винюкова А.К. Концептуализация смысла в средневековой мысли // Вестник ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2014. Т. 2, № 4. С. 21–28.
- Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / пер. с нем. Л. Добросельского. М., 2018. 159 с.
- Гадамер Г.-Г. Философские основания XX века // Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 15–26.
- Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 1: Пролегомены к чистой логике / пер. с нем. Э.А. Бернштейн. М., 2011. 253 с.
- Жаринов С.А. Эрос и Агапэ: античная и средневековая философия любви: монография. Тюмень, 2019. 231 с.
- Ивлева А.Ю. Концепция символических смыслов Р. Барта // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион Гуманитарные науки. Филология. 2007. № 3. С. 104–111.
- Кособукова О.В. Развитие представлений о смысле и личностном смысле в отечественной психологии // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева (Вестник КГПУ). 2009. № 1. С. 92–98.
- Кравец А.С. Философская теория смысла: монография. Воронеж. 2022. 298 с.
- Курдыбайло Д.С. Ономатология А.Ф. Лосева в контексте византийского богословия имени // Соловьёвские исследования. 2014. № 3 (43). С. 175–192.
- Платон. Собрание сочинений: в 4 т. / пер. с древнегреч. М., 1990. Т. 1. 860 с.
- Рассел Б. Философия логического атомизма. Томск, 1999. 191 с.
- Рябушкина Т.М. Познание и рефлексия. М., 2014. 351 с.
- Соссюр Ф. Курс общей лингвистики / под общ. ред. М.Э. Рут. Екатеринбург, 1999. 425 с.
- Шаев Ю.М. Смысл в герменевтике: опыт семиотического анализа: монография. Пятигорск, 2010. 128 с.
- Шляков А.В. Плагиат: анализ культурных оснований оправдания // Общество: философия, история, культура. 2024. № 5. С. 42–47. https://doi.org/10.24158/fik.2024.5.5.
- Шпека К.А. Августин Блаженный о сотворении мира в трактате «О книге Бытия» // Проблемы истории, филологии, культуры. 2003. № 13. С. 280–285.