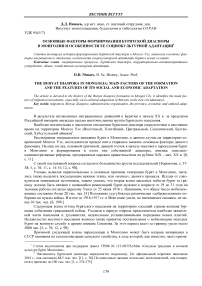Основные факторы формирования бурятской диаспоры в Монголии и особенности ее социокультурной адаптации
Автор: Нимаев Д.Д.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 1 (40), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена истории формирования бурятской диаспоры в Монгол Улс, выявлены основные факторы миграционного движения, особенности социокультурной адаптации бурят в новых условиях.
Миграционные процессы, бурятская диаспора, территориально-административное устройство, аймак, хозяйственно-культурная адаптация
Короткий адрес: https://sciup.org/142142618
IDR: 142142618 | УДК: 94(517)
Текст научной статьи Основные факторы формирования бурятской диаспоры в Монголии и особенности ее социокультурной адаптации
В результате интенсивных миграционных движений в Бурятии в начале XX в. за пределами Российской империи оказалась весьма многочисленная группа бурятского населения.
Наиболее з начительная в численном отношении бурятская диаспора сосредоточена в настоящее время на территории Монгол Улс (Восточный, Хэнтэйский, Центральный, Селенгинский, Булган-ский, Хубсугульский аймаки)1.
Рассматривая миграционное движение бурят в Монголию, в данном случае на территорию современной Монгол Улс, исследователи прежде всего старались выявить основные факторы данного феномена. На наш взгляд, основной причиной, давшей толчок к началу массового переселения бурят в Монголию и формирования в итоге там собственной диаспоры, явились земельноадминистративные реформы, предпринятые царским правительством на рубеже XIX – нач. ХХ в. [8, с. 11].
С такой постановкой вопроса согласно и большинство других исследователей [Бороноева, с. 3738; 5, с. 76; 11, с. 14-15; 12, с. 98].
Ученые, выявляя первоначальные и основные причины эмиграции бурят в Монголию, пытались также выделить последующие важные этапы, или «волны», данного процесса. Исходя от совокупности имеющихся источников, можно указать, что вторая волна массовых побегов бурят за границу должна быть связана с начавшейся реквизицией бурят-мужчин в возрасте от 19 до 31 года на тыловые работы согласно царскому Указу от 25 июня 1916 г. Напомним, что общее число мобилизованных составило более 20 тыс. чел. [4] Положение усугублялось различными «добровольными» поборами на нужды войны. В итоге за 1916-1917 гг. в Монголию ушли, по имеющимся оценкам, не менее 10 тыс. чел. [6, 1991]
Следующая волна оттока бурятского населения на территорию соседней страны вызвана бурными событиями гражданской войны. Уходили в первую очередь представители наиболее зажиточной части населения и духовенства, недовольные устанавливаемыми порядками новых властей. Недовольство местного населения вызвало также принятое постановление о мобилизации молодых бурят на военную службу в армию атамана Семенова. За этот период всего за границу ушли около 5000 чел. [5, с. 76; 12, с. 99]
Причиной следующей волны переселенцев в Монголию может быть названа начавшаяся в СССР кампания по коллективизации сельского хозяйства, в ходе которой, как известно, часто приме-
∗ Статья подготовлена при поддержке гранта ГРНФ № 112103555е/Mon «Оседлые традиции в кочевой культуре бурят Монголии».
нялись принудительные меры. Точные количественные параметры данного процесса еще не определены, поскольку данный этап бурятской эмиграции в источниках и литературе освещен менее подробно. Если обратимся к некоторым сравнительным статистическим данным, то ситуация выглядит следующим образом. В 1923 г. в Монголии проживало 2843 бурятских семьи общей численностью 12765 чел., а в конце 1929 г. число только принявших монгольское подданство равнялось 9243 семьям и 35517 чел. [9, с.198]
Очевидно, что за рассматриваемый период численность бурят не могла увеличиться настолько именно за счет естественного прироста. Очевиден приток новых значительных групп людей, даже с учетом вполне допустимых погрешностей в статистике населения в 1923 г. По всей видимости, к началу 1930-х гг. поток беженцев из России в Монголию стал иссякать. Есть основание предполагать, что часть эмигрантов в период коллективизации и последующие репрессивные 1930-е гг. была ориентирована в пределы современного Хулун-Буирского аймака АРВМ Китая.
Необходимо указать, что выделение основных этапов миграционного движения бурят в Монголию не исключает вероятность того, что данный процесс с начала XX в. носил перманентный характер. Исследователи выделяли и ряд других сопутствующих факторов рассматриваемого явления. Так, по мнению монгольского ученого А. Оюнтунгалаг, причиной тому послужили также последствия революции 1905 г., поражение России в войне с Японией, «грабительские действия русских войск на бурятской земле по пути к возвращению» [9, с. 36, 196].
Многие исследователи связывают усиление потока переселенцев с событиями 1911 г., когда Внешняя Монголия освободилась от маньчжурского ига и обрела собственную государственность. Предполагается также, что это было связано с распространением панмонгольских тенденций, стремлением бурят объединиться с другими братскими монгольскими народами и образовать свое собственное единое государство [9, с. 197].
Доктрина панмонголизма – это, конечно, прежде всего плод теоретических исканий лидеров монголо-бурятского национального движения (С. Данзан, Ц. Жамцарано, Э.-Д. Ринчино), возникшая прежде всего как протестная реакция на угнетенное состояние монгольских народов под протекторатами Маньчжурского Китая, России. Первоначально эта идеология, не имея реальных рычагов для ее практического осуществления, не выходила за рамки духовного возрождения монгольских народов. С другой стороны, как представляется, панмонголистские идеи вряд ли могли полностью завладеть умами и сердцами основной массы бурятского населения, гораздо более озабоченного прагматичными вопросами элементарного выживания.
В миграционных устремлениях бурят в Монголию некоторые исследователи склонны также усматривать влияние так называемых милленаристских мифов, т.е. легенд об обетованной земле, где когда-то жили их предки и куда они должны в свое время вернуться. Названия этих мест варьируют: Хотогойто, Наин-Наваа, Алтан Гадаса и т.д. Идеи милленаризма становятся актуальными во времена острых социально-экономических и политических кризисов [2, с. 43-44].
Буряты, оказавшиеся волею судеб в Монголии в начале ХХ в., находились на первых порах в положении людей без гражданства, без официально установленного места жительства. В результате национально-освободительного движения, завершившегося в 1911 г. свержением маньчжурского колониального гнета, особенно после победы Народной революции в 1921 г., начали складываться благоприятные условия для решения наболевших вопросов территориально-административного устройства бурят.
22 ноября 1921 г. при Министерстве иностранных дел Монголии состоялась встреча глав бурятских этнических групп при участии представителя посольства России в Монголии А. Октина, где обсуждались вопросы о перспективах дальнейшего пребывания здесь бурятской диаспоры. При этом подавляющее большинство представителей бурятских этнических групп изъявили желание остаться на земле Монголии вместе с братским монгольским народом.
Здесь важно подчеркнуть, что эти устремления бурят нашли соответствующее понимание и поддержку со стороны государственных структур молодой Монгольской республики.
При составлении в 1921 г. Протокола о сотрудничестве между Монголией и Россией была особо отмечена та важная роль, которую играют и в дальнейшем будут играть в области развития культуры, просвещения, науки, в освоении новых отраслей хозяйствования, таких как земледелие, промышленность, ремесло и т.д., представители бурятской диаспоры. Эффективность именно их помощи и содействия обусловлены исконным этническим родством между халха-монголами и бурятами, общностью их хозяйственно-бытового и культурного уклада.
По заявлению главы российской делегации С. Духовского, создавшаяся ситуация с бывшими подданными России – бурятами, оказавшимися теперь в Монголии, находит полное понимание и поддержку со стороны широкой российской общественности.
В начале 1922 г. по инициативе таких деятелей, как Ц. Жамцарано, Д. Юмтаров, Ц. Бадамжав, была создана специальная Комиссия по делам бурят-монголов.
Весной 1922 г. в Урге состоялся первый съезд представителей бурятской диаспоры, где обсуждались вопросы об устройстве бурят, определении их местожительства. На специально созданную Комиссию была возложена задача ознакомления с положением бурятских переселенцев, учета численности населения и количества скота. В мае того же года был сформирован Бурятский Народный Хурал. Одновременно активно решался вопрос о гражданстве бурят, и в сентябре 1923 г. вышло постановление правительства Монголии о предоставлении монгольского подданства всем бурятам-эмигрантам.
Таким образом, уже в первые годы после установления новой власти были заложены основы политико-правового статуса бурятской диаспоры в Монголии. В местах компактного проживания бурят были образованы следующие административные единицы (хошуны): Хэрлэн голын хошуу (в долине р. Керулен), Ерөө голын хошуу (в долине р. Иро), Онон голын хошуу (в долине р. Онон), Халх Нөмрөг хошуу, Υлз голын хошуу. Последние два хошуна располагались на территории современного Дорнод (Восточного) аймака. Образованный в том же 1923 г. Эг-Сэлэнгийн хошуу вскоре был расформирован ввиду относительной малочисленности проживающих там бурят [9, с. 40-68, 197-198].
Рассматривая характер и особенности социокультурной адаптации бурятских переселенцев в Монголии, считаем уместным привести некоторые выдержки из известной работы И.М. Майского: «Зато совсем другой характер носит (в отличие от политических эмигрантов. – Д.Н. ) еще одна группа среди российской эмиграции в Монголии – буряты. Численно – не очень велика, но значение ее чрезвычайно крупно. Буряты, живущие в стране Богдо Гегена, разделяются на две категории: общественно-политических деятелей, занимающих различные более или менее видные посты в правительственной машине Авт. Монголии, и всякого рода ремесленников и вообще квалифицированных работников – кузнецов, портных, автомобильных мастеров, плотников, архитекторов, хлебопашцев и др. … Буряты славятся в Монголии как «умственные» люди, искусные мастера и знатоки всякой «хитрой механики»… Вообще буряты – очень ценный и полезный элемент в стране Богдо Гегена» [7, с. 93-94].
Сказанное хорошо подтверждается на более конкретных фактах последующего времени. «До 30-х годов, – констатирует, например, С. Бадарша 2, – в аппарате ЦК МНРП и других центральных органах власти, в местных государственных структурах и в таких ответственных отраслях, как наука, культура, здравоохранение, транспорт, связь, электроэнергия, работали сотни бурят» [1, 1996]. В 1924 г. в состав первого Великого Народного Хурала входили 7 бурят, с тех пор в 12 созывах было избрано около 150 человек.
Несмотря на тяжелые последствия политических репрессий 1930-х гг., буряты сумели сохранить и возродить свой былой культурно-интеллектуальный потенциал. Уже в 1942 г., когда открылся Монгольский госуниверситет (МУИС), в рядах первых студентов числилось 78 бурят, которые по окончании вуза начали работать в различных отраслях народного хозяйства страны. С тех пор десятки людей удостоились почетных званий заслуженных учителей, врачей, деятелей культуры, искусства, сельского хозяйства, промышленности. 10 человек стали лауреатами Государственной премии Монголии. Около двух десятков работников удостоились высокого звания Героя Труда МНР. А уроженцу Хубсугульского аймака Лубсандоржийну Гэлэгбатору присвоено звание Героя Монголии за ратный подвиг во время боевых действий на Халхин-голе.
Количество бурят, ставших докторами наук, профессорами, достигло трех десятков, кандидатов наук – более двух сотен человек.
Многие буряты выдвигались на должности министров, дипломатов. Первым представителем МНР в ООН в 1961 г. был назначен бурят Д. Цэвэгмид. В 1990 г. премьер-министром страны был назначен выходец из Биндэр-сумона Хэнтэйского аймака Д. Бямбасурэн.
Таким образом, в качестве одной из важных факторов относительно успешной хозяйственнокультурной адаптации бурят в Монголии можно рассматривать их подготовленность к новым условиям в жизни страны, жизни в условиях кардинальных социально-экономических и культурных пре- образованиях. Иначе говоря, бурятские переселенцы оказались более подготовленными к «европеизированному образу жизни», что явилось следствием их более чем трехвекового пребывания в составе Российского государства, их тесного хозяйственного и культурного взаимодействия с русским населением.
С другой стороны, и монгольская сторона, особенно в лице высшего государственного руководства, с понимание отнеслась к проблемам бурятской диаспоры, сумела оценить, как уже отмечалось, важную роль ее представителей в предстоящих масштабных социально-экономических реформах.
С февраля 1991 г. официально функционирует Ассоциация культуры бурят Монголии, которая стала важным координирующим органом в деле сохранения и развития традиционной бурятской культуры и языка, укрепления этнических связей между разными территориально-этнографическими группами этноса.
Набирает популярность общественное объединение «Алтаргана», начавшее свою деятельность с организации в 1994 г. в Дадал-сумоне Хэнтэйского аймака конкурса бурятской песни. После нескольких подобных конкурсов с периодичностью раз в два года в разных сумонах Хэнтэйского и Дорнод аймаков с 2002 г. эти конкурсы-фестивали вышли на общебурятский уровень после их проведения в Аге, Улан-Удэ (2006), Иркутске (2008).