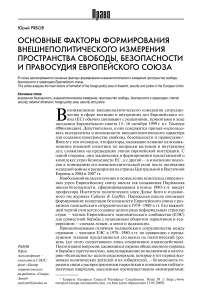Основные факторы формирования внешнеполитического измерения пространства свободы, безопасности и правосудия Европейского союза
Автор: Рябов Юрий Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 11, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные факторы формирования внешнеполитического измерения пространства свободы, безопасности и правосудия Европейского союза.
Внутренняя безопасность, внешнеполитическое измерение, пространство свободы, безопасности и правосудия
Короткий адрес: https://sciup.org/170165125
IDR: 170165125
Текст научной статьи Основные факторы формирования внешнеполитического измерения пространства свободы, безопасности и правосудия Европейского союза
В озникновение внешнеполитического измерения сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел Европейского союза (ЕС) обычно связывают с решениями, принятыми в ходе заседания Европейского совета 15–16 октября 1999 г. в г. Тампере (Финляндия). Действительно, в них содержится призыв «использовать инструменты и возможности внешнеполитического характера для создания пространства свободы, безопасности и правосудия»1. Вместе с тем очевидно, что факторы, оказавшие влияние на возникновение внешней политики по вопросам юстиции и внутренних дел, сложились на предыдущих этапах европейской интеграции. С одной стороны, они заключались в формировании представлений о комплексе угроз безопасности ЕС, а с другой – в изменении подходов к пониманию его внешнеполитической роли после окончания холодной войны и расширения на страны Центральной и Восточной Европы в 2004 и 2007 гг.
Наибольший вклад в изучение и осмысление комплекса современных угроз Европейскому союзу внесла так называемая Парижская школа безопасности, сформировавшаяся в конце 1980-х гг. вокруг профессора Института политических наук Дидье Биго и издаваемого им журнала Cultures & Conflits . Парижская школа связывает формирование концепции безопасности Европейского союза с развитием полицейского сотрудничества в 1970–1980-е гг. Его важнейшей чертой считается создание целого ряда неформальных структур стран – членов Европейского экономического сообщества (ЕЭС) для совместной борьбы с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом – сначала левым, а затем и исламским.
Принципиальным отличием полицейского сотрудничества между странами – членами ЕЭС в 1970–1980-х гг. по сравнению с предыдущими этапами представляется его выход на политический уровень (до этого существовало лишь оперативное взаимодействие). Политизация вопросов, касающихся охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, нашла выражение во включении в категорию «безопасность» целого ряда вопросов, которые в тот период волновали политических деятелей и их избирателей, – безопасность городов в связи с распространением наркотиков и появлением неблагополучных кварталов, населенных преимущественно иммигрантами;
предполагаемая связь между террористами и иммигрантами; терроризм и незаконная торговля наркотиками. В результате в политическом дискурсе возникла новая категория – «внутренняя безопасность», позволившая правоохранительным органам стран ЕЭС найти некий общий знаменатель в деле обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью и в восприятии основных угроз1.
Ключевую же роль в укреплении внутренней безопасности на европейском уровне сыграл проект по созданию единого рынка как «пространства без внутренних границ, в котором было бы обеспечено свободное передвижение товаров, людей, услуг и ка-питалов»2. Такая формулировка привлекла внимание неформальных полицейских структур, которые сумели интегрировать в дискурс о едином рынке тезис о необходимости принятия так называемых компенсационных мер, что было осуществлено в рамках Шенгенской конвенции 1990 г.3 Отмена контроля на границах между государствами – членами ЕЭС («внутренние границы») должна быть компенсирована за счет усиления контроля на границах ЕЭС с третьими странами («внешние гра-ницы»)4 под предлогом, что в противном случае положительные последствия создания единого рынка будут сведены на нет из-за активизации деятельности террористов, преступников и наркодилеров, а иммигранты (нелегальные) станут причиной еще большего ухудшения криминогенной обстановки в местах компактного проживания («неблагополучные пригороды») и этнически окрашенных беспорядков5.
Тем самым произошло окончательное согласование и формирование в общественно-политических дискуссиях представлений о комплексе угроз безопасности странам – членам ЕЭС. Для их описания Парижская школа предложила понятие «континуум безопасности», призванное отразить постулируемую взаимосвязь всех вышеописанных явлений.
Тема иммиграции в континууме безопасности занимает центральное место. По сути, она выступает как метапроблема, т.е. рассматривается многими как объединяющая в себе (или даже подменяющая собой) целый ряд прочих проблем: преступность – для полиции; шпионскую деятельность в интересах иностранных разведок – для военных и спецслужб; безработицу, экономический кризис, сокращение населения, преступность в своем собственном районе – для обывателей. Все более серьезное влияние иммиграция оказывает на национальную идентичность.
Рассмотрение иммиграции в рамках континуума безопасности ведет к расширенному толкованию термина. В него «по умолчанию» стали включать такие феномены, как политическое убежище, незаконный ввоз мигрантов и торговля людьми, труд нелегалов и проституция, эксплуатация детей и долговая кабала6.
Важно отметить, что, даже введя в широкий академический оборот категорию «внутренняя безопасность», Д. Биго не рассматривает ее как обратную сторону внешней безопасности. Напротив, он акцентирует внимание на размывании границ между внутренней и внешней безопасностью и характеризует последнюю как комплекс традиционных (присущих эпохе холодной войны) угроз государству. Такое объединение обусловлено самим характером континуума безопасности. Составные части его, по сути, представляют собой транснациональные (т.е. не внутренние и не внешние по отношению к государству или иному актору международных отношений) риски. Вместе с тем, как видно из ряда документов и работ, в Европейском союзе утвердился тезис о преимущественно внешнем происхождении таких феноменов, как нелегальная иммиграция, потоки беженцев, организованная преступность7. А это требует со стороны Брюсселя активных внешнепо- литических действий по нейтрализации транснациональных рисков.
Формирование внешнеполитического измерения пространства свободы, безопасности и правосудия Евросоюза во многом обусловлено его международнополитическим потенциалом. Вследствие размывания жесткой биполярной системы роль Европейского экономического сообщества в международных отношениях возросла. Это нашло отражение в целом ряде концепций, призванных объяснить роль и влияние западноевропейского интеграционного объединения в мире. В рамках первого подхода объектом анализа стал выступать ЕС как единое целое, что преломляется в такой категории, как актор. Здесь исследователей в гораздо большей степени интересовали влияние и роль Брюсселя в мировой политике, а не то, каким образом принимались внешнеполитические решения в процессе взаимодействия между инс-титутами1. Наибольшую известность в рамках такого подхода получила концепция Европейского союза как гражданской державы (civilian power), выдвинутая в начале 1970-х гг. Ф. Дюшеном. Говоря о перспективах развития ЕЭС, исследователь подчеркивал возможность его превращения в отдельный центр силы, опирающийся на невоенные средства во внешней политике: убеждение, постоянный диалог, международные договоры, экономические преференции и санкции, техническую помощь и.т.д.2 Второе измерение гражданской державы сводилось к особенностям внешнеполитических целей, заключавшимся в развитии международного сотрудничества, солидарности, укреплении роли права в отношениях между государствами, распространении равенства, справедливости и терпимости. Вслед за А. Уолферсом К. Смит называет такие цели, скорее, «формирующими среду, в которой действует субъект международных отношений» (milieu goals), нежели направленными на обеспече- ние национальных интересов (possession goals)3.
Второе измерение концепции гражданской державы – внешнеполитические цели, понимаемые как milieu goals, – до определенного момента оставалось относительно мало исследованным. По сути, возврат к нему произошел на рубеже 1990–2000-х гг. и был связан с появлением новой концепции акторности Европейского союза как нормативной державы, предложенной датским ученым И. Маннерсом. С его точки зрения, и концепция гражданской силы, и ее антипод – Europe puissance (ЕС как сверхдержава, обладающая независимыми от НАТО военными силами и средствами и даже ядер-ным оружием) слабо отражали реалии изменившегося после окончания холодной войны международного контекста.
Ключевой характеристикой ЕС после 1991 г. стала его способность распространять собственные внутренние нормы на страны, не являвшиеся членами, а в ряде случаев и не стремившиеся стать частью данного интеграционного объединения4.
Нормативный характер внешней политики ЕС нашел выражение в его стремлении руководствоваться в отношениях с третьими странами принципами демократии, правового государства, универсальности прав человека и основных свобод, защиты человеческого достоинства, равенства и солидарности и др.
Рассмотрение Европейского союза как влиятельного актора мировой политики (концепции гражданской или нормативной державы), однако, игнорирует тот факт, что в интеграционном объединении отсутствует единый центр власти, принимающий внешнеполитические решения. Это в значительной степени предопределило формирование второго подхода к внешней политике ЕС как к процессу. В его рамках Европейский союз представляется как политическое образование (polity), в котором власть распылена между различными уровнями управления (наднациональные органы, государства-члены, субнациональные образования) и акторами (государственными, неправи- тельственными, частными), а между сферами интеграции имеются существенные различия в способах управления1.
Изначально теория многоуровневого управления была призвана концептуализировать скорее внутренние особенности ЕС, нежели его отношения с внешним миром. Однако достаточно быстро постулаты этой теории стали применяться и к анализу взаимодействия Европейского союза с третьими странами, получив название «внешнее управление».
По своей сути внешнее управление достаточно близко к концепции нормативной державы, поскольку предполагает распространение норм Европейского союза на страны, не являющиеся его членами. Однако, в отличие от И. Маннерса, понимавшего нормы, в первую очередь, как ценности, лежавшие в основе создания, развития и расширения ЕС, сторонники применения теории многоуровневого управления к внешней политике рассматривают нормы как комплекс нормативно-правовых актов (acquis communautaire) , формирующих систему внутренних политик интеграционного объединения2. В этом смысле пространство свободы, безопасности и правосудия являет собой едва ли не идеальный пример внешнего управления, обусловленного транснациональным характером угроз Европейскому союзу и, соответственно, необходимостью сотрудничать с третьими странами как основными источниками иммиграции, потоков беженцев и организованной преступности.
Объектом анализа для внешнего управления служит институциональный процесс распространения норм и перенесения внутриевропейских политик (policy transfer), а для нормативной державы – модель ЕС как актора (единого). В настоящее время внешнее управление широко используется для концептуализации взаимодействия Европейского союза со странами, включенными в политику добрососедства. Отсутствие для них перспективы вхождения в состав Евросоюза означает, что acquis communautaire в сфере юстиции и внутренних дел предстают не в форме нормативно- правовых актов, которые должны быть инкорпорированы в правовую систему отдельных государств СНГ и Средиземноморья, а в форме их оперативного сотрудничества с институтами и органами ЕС посредством трансправительственных сетей.
С. Лавенекс и Ф. Шиммельфениг выделяют три идеальных типа внешнего управления: иерархия, сетевое управление и рынок (market) 3. В первом случае речь идет о такомвзаимодействиимеждуЕвропейским союзом и третьей страной, в рамках которого части acquis communautaire принимаются в Брюсселе, однако обязательны для исполнения и не членами интеграционного объединения. На практике иерархия лучше всего характеризует отношения ЕС со странами Европейского экономического пространства, а также с кандидатами на вступление в ходе расширения. Результатом сетевого управления обычно являются не обязательные к исполнению нормы, а некие консенсусные договоренности, в основном о процедурах взаимодействия. Главными акторами выступают не политические деятели, а эксперты по отдельным вопросам и чиновники, которые и согласовывают (координируют) свои позиции. Acquis communautaire является основной, но не единственной базой для принимаемых решений. Наконец, рынок предполагает распространение норм ЕС путем их прямой конкуренции с нормами третьих стран за счет принципа взаимного признания.
Таким образом, внешнеполитическое измерение пространства свободы, безопасности и правосудия представляет собой отдельное направление внешней политики Европейского союза, сложившееся как ответ на угрозы транснационального характера и имеющее своей целью их нейтрализацию посредством активного распространения acquis communautaire в сфере юстиции и внутренних дел на третьи страны. Другими словами, ЕС стремится сохранить сложившийся режим внутренней безопасности, стараясь «работать» с угрозами на расстоянии, не дожидаясь наступления негативных последствий от иммиграции, потоков беженцев и отдельных видов преступности непосредственно на территории интеграционного объединения.