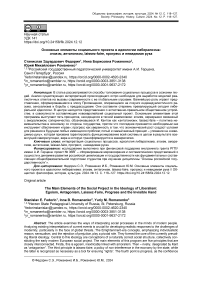Основные элементы социального проекта в идеологии либерализма: эгоизм, антагонизм, laissez-faire, прогресс и невидимая рука
Автор: Федорин Станислав Эдуардович, Романенко Инна Борисовна, Романенко Юрий Михайлович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются способы толкования социальных процессов в сознании людей. Анализ существующих интерпретаций происходящего остро необходим для выработки моделей реалистичных ответов на вызовы современности с ее глобальными угрозами. Важнейшую роль играют представления, сформировавшиеся в эпоху Просвещения, опирающиеся на лозунги индивидуалистичного разума, сенсуализма и борьбы с предрассудками. Они составили стержень превалирующей сегодня либеральной идеологии. В центре находятся представления о естественно-правильном общественном устройстве, в совокупности составляющие новоевропейский социальный проект. Основными элементами этой программы выступают пять принципов, находящихся в тесной взаимосвязи: эгоизм, неразрывно связанный с аморализмом; соперничество, обозначавшееся И. Кантом как «антагонизм»; laissez-faire - политика невмешательства в экономику со стороны государства, притом что последнее признается необходимым как инструмент обеспечения «прав»; прогресс как уверенность в том, что экономический рост создаст условия для решения в будущем любых имеющихся проблем; пятый и самый важный принцип - упование на «невидимую руку», которая призвана гарантировать функционирование всей системы в целом в результате всемогущей саморегуляции, вера в которую трансформируется в квазирелигию.
Интерпретация социальных процессов, идеология либерализма, эгоизм, аморализм, антагонизм, laissez-faire, прогресс, «невидимая рука»
Короткий адрес: https://sciup.org/149147072
IDR: 149147072 | УДК: 141 | DOI: 10.24158/fik.2024.12.12
Текст научной статьи Основные элементы социального проекта в идеологии либерализма: эгоизм, антагонизм, laissez-faire, прогресс и невидимая рука
, , ,
1,2,3Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg, Russia , , ,
Введение . Ход событий в современности характеризуется беспрецедентной скоростью изменений, которые никогда в истории не были столь значительными и сопряженными с такими рисками и угрозами – без преувеличения глобальными. Серьезное теоретическое понимание социальных реалий – в такой же мере глобальное – требуется больше, чем когда-либо в прошлом, ибо без такого понимания едва ли возможно ожидать совладать с нависшими беспримерными опасностями. Вместе с тем представляется, что современный мир также отличается от прошлых периодов истории дефицитом внятных моделей происходящего и возможных путей выхода из угрожающей ситуации, что порождает конфликт непонимания (Romanenko et al., 2022).
Социальная действительность неизбежно всегда и везде порождает соответствующие себе интерпретации происходящего. Это комплексы представлений – правовых, религиозных, этических, художественных, философских и т. п., которые могут быть явными или скрытыми, теоретическими или обыденными, господствующими или маргинальными и т. п. Под соответствием этих интерпретаций действительности имеется в виду не то, что они выражают объективную истину и позволяют разумно постичь происходящее. Интерпретации являются соответствующими социальной действительности в том смысле, что они практически приспособлены к ней и способствуют ее поддержанию. Наиболее превалирующие из них, инкорпорированные в структуру социальной реальности, можно обозначить как «господствующие взгляды». Без осмысления этих превалирующих интерпретаций невозможно разобраться и в тех социальных конструкциях, которые они поддерживают, а также выработать требуемый образ действительности, которая нарождается на смену изживающей себя. Конечно же, понять эти интерпретации не означает присоединиться к ним, стать на ту же точку зрения либо же, напротив, подвергнуть разгромной критике. Речь идет о непростом теоретическом анализе, имеющем целью объективное, насколько возможно, неангажированное описание смысловой структуры этих интерпретаций, выявление их связи с реальностью, а также с другими трактовками.
Представления о социальной действительности, превалирующие в нашей текущей современности, возникали и утверждались в ходе масштабных исторических трансформаций, известных как Новое время. Научные и технологические нововведения формировали граничные условия капиталистического производства, которые запустили механизм постоянно ускоряющихся исторических преобразований. Интерпретации этих преобразований у самих их участников в итоге приобретают специфическую форму мировоззрения Нового времени, в котором центральное место занимают представления о решающей роли «индивидуальных усилий разума» (Токвиль, 1992: 319) и «рационального» поведения. Это мировоззрение вырастает из необозримого множества «когерентных» взаимодействий индивидов в «неравновесных» условиях интенсивно меняющихся исторических обстоятельств, но вместе с тем большую роль сыграло и теоретизирование философского плана. Среди отличительных черт этого мировоззрения главнейшими представляются: инди-видуалистичность, сенсуализм, максимизаторское поведение и антитрадиционализм.
В связи с этим новым рационалистическим мировоззрением и на его основе обретают определенные очертания представления о собственно общественном устройстве, которое должно отвечать жизненным условиям современности. Они складываются постепенно с начала Нового времени, преимущественно оформляются в эпоху Просвещения и до нашего времени имеют устойчивое влияние. В совокупность своих основных черт эти представления составляют то, что получило название «либерализм», или «либеральная идеология» (Валлерстайн, 2003: 5). Речь идет о собственно фундаментальной общественно-политической программе, о проекте общества, понимаемого как «правильное», соответствующее «природе» и выстроенное в соответствии с принципами, сконструированными посредством того самого разума.
Этот фундаментальный проект представляет комплекс принципов, которые получили выражение в различных формах, причем необязательно в теоретической форме. Он высказывается по частям разными теоретиками и одновременно «витает в воздухе». Алексис де Токвиль метко заметил, что американцам в его время – то есть в 1840 г. – нет нужды изучать Р. Декарта, чтобы руководствоваться теми же идеями, поскольку их «тип общественного устройства естественным образом подготавливает головы людей к их восприятию» (Токвиль, 1992: 319). Ниже мы перечислим и охарактеризуем – по необходимости кратко – пять принципов, которые составляют основные элементы системы рационалистичного общественного проекта, то есть либеральной идеологии. Эти принципы суть: эгоизм (и аморализм), антагонизм, политика laissez-faire, прогресс и «невидимая рука».
Принцип первый: эгоизм . В современном мире с готовностью прибегают к лексемам «индивидуализм», «индивидуалистичный» и т.п., чтобы обозначить существенные черты человеческих устремлений (Мильдон, 2008: 43). При этом подразумеваются такие привлекательные идеи, как значимость отдельной личности, неповторимость каждой индивидуальности, некий идеал свободы вообще, протест против обезличенности, давления социальных клише и т. д. Что касается слова «эгоизм», то его использование – не столько в теоретических концепциях, сколько в обиходном и риторическом употреблении – регулярно претендует на то, чтобы быть выразителем тех же самых привлекательных идей с еще большей определенностью и доходчивостью. Однако все же слово «эгоизм» было и остается нагружено смыслами, которые препятствуют тому, чтобы оно получило уверенное использование (Tilley, 2022: 115). Эгоизм – это не просто мотив любви к себе самому, но неминуемо указание на безразличие к судьбе других людей, вплоть до готовности использовать последних в качестве средства для достижения своих целей, что прямо порицает тот же категорический императив И. Канта.
В философии Просвещения атака на религиозное сознание производилась не только для того, чтобы освободить умы людей от каких-то навязанных положений определенного вероучения и открыть им путь к самостоятельному суждению. Религиозные институты в течение веков были существенной опорой традиционного, общинного уклада жизни, исповедовали преимущественно коллективизм и тем самым входили в противоречие с тенденциями нарождавшегося капитализма. Эгоизм как возможность преследовать только свои собственные интересы без оглядки на интересы других людей – такова важная идея, вытекающая из понимания разума как инструмента «избрания средств для достижения поставленной перед собой цели» (Гольбах, 1963: 17).
Трактовка человека как существа эгоистического не нова. В начале Нового времени с соответствующими рассуждениями выступил Н. Макиавелли. В частности, приобрела широкую известность его формулировка, гласящая, что люди скорее простят смерть отца, чем потерю имущества. Однако в «Государе» человеческое своекорыстие преподносится как лишь некоторое непривлекательное фактическое обстоятельство, которое следует учитывать политику, но не как предмет для осуждения или тем более одобрения (Макиавелли, 2024).
Что же касается мыслителей Просвещения, то у них эгоизм приобретает смысл радикально иной. Он активно приветствуется как фундамент для действительно разумного отношения к жизни и общественного устроения. В дальнейшем хрестоматийную известность получила фраза Адама Смита о эгоизме пивовара и булочника, от которых мы ожидаем получить свой обед (Смит, 1997). Но, несомненно, такие же умонастроения пронизывают и воодушевляют мысль многих просветителей. Г. Гегель впоследствии справедливо охарактеризовал центральную идею Гельвеция следующим образом: «Вообще всякая деятельность, все законы, правовые нормы, имеют в основании своего построения лишь себялюбие, своекорыстие и разлагаются на них»1.
Можно также отметить, что лозунг эгоизма в дальнейшем неоднократно пытались открыто провозгласить и тем самым сделать пристойным для широкого употребления. За примерами далеко ходить не приходится – из известных тут и «разумный эгоизм» Н. Чернышевского и «добродетель эгоизма» Айн-Рэнд. Однако такие предприятия не обрели задуманного успеха, поскольку термин «эгоизм» никогда не сможет избавиться от неприятного привкуса аморализма.
Последний является неизменным спутником эгоизма. Здесь имеется в виду отрицание значимости и обязательности моральных норм, принятых и реально функционирующих в обществе. Историю успеха мыслителей этого рода можно было бы также возвести к Н. Макиавелли, однако тот считал «умение отступать от добра» некой вынужденной мерой для государя, а никак не ведущим принципом и не источником всеобщего благополучия (Макиавелли, 2024).
В эпоху Просвещения были приложены значительные усилия к тому, чтобы в явном виде поставить под сомнение добродетельное поведение. Конечно, радикальным выступлением в этом плане следует признать «Басню о пчелах» Б. Мандевиля. Она заканчивается откровенным признанием необходимости в корне пересмотреть моральные устои: «Чтоб стать народ великим мог, в нем должен свить гнездо порок»2. Здесь под пороками имеется в виду, безусловно, то, что входило в список «семи смертных грехов» (чревоугодие, блуд, жадность, гордыня, лень, гнев, зависть), но также называются «тщеславье, роскошь, ложь». Крайним выражением пропаганды аморализма можно считать известные шокирующие выступления де Сада. Однако таковые были в изрядной степени подготовлены предшествующим развитием мысли и, хоть и в экстремальной форме, но продолжали определенную тенденцию.
Эпоха Просвещения активно стремилась к упразднению религиозных предписаний, поддерживавших общинный образ жизни. Но этот процесс не сводился к разоблачению догматических представлений с позиций разума. Дело касалось большего: подрыва представлений, согласно которым обретение добродетелей вообще является целью человеческого существования. При этом нравственность не отрицалась напрямую, более того, к ней часто взывали такие радикальные мыслители, как Гельвеций или Ламетри. Однако она кардинально трансформируется, уходит на задний план. Таким образом разрушается существовавший тысячелетия способ существования традиционного общества, суть которого можно выразить словами Аристотеля: «На долю каждого приходится столько же счастья, сколько добродетели и разума и согласованной с ними деятельности» (Аристотель, 1983: 589). С Нового времени добродетель и разум выполняют служебную роль в отношении иного понимания счастья, трактуемого как «продолжительные приятные ощущения» (Гольбах, 1963: 13). В отличие от эпикурейского умеренного наслаждения это «счастье» состоит в гоббсовском бесконечном и самоцельном процессе наращивания успеха и власти.
Примечательной иллюстрацией тому, что эгоизм – краеугольный камень современного общественного устройства, является глобальная угроза последних десятилетий, известная как «демографический кризис». Еще не так давно опасностью считалось чрезмерное стремительное возрастание численности населения в мире. Но затем большинство людей, существуя в индустриальном обществе, де-факто – в либеральных условиях личной независимости и индивидуального выбора, отдали предпочтение персональному благополучию и «самореализации», избавившись от серьезных затрат на содержание и воспитание потомства. Тем самым они попросту переложили эти издержки, жизненно важные для общества в целом, на других. Здесь дело не в том, чтобы обвинять этих людей в, по сути, аморальном решении, призывать к ответственности, тем более что господствующие «универсальные ценности» решительно ничего не могут противопоставить этим тенденциям. Но стоит признать, что такое положение дел является результатом имплицитного эгоизма, заложенного в основание действующего порядка функционирования социума.
Принцип второй: антагонизм . В качестве следующего элемента либерального социального проекта следует указать признание важности соперничества, которое произрастает из рассмотренных выше эгоистических побуждений и аморальности. Эгоизм как принцип практического поведения непосредственно связан с другим, который может быть обозначен разными терминами, но в текущей современности более известен как «конкуренция». Тем не менее представляется наиболее подходящим обратиться к термину, который использует И. Кант, – «антагонизм».
То, что противоборство людей в определенной мере активизирует их созидательные способности – это обстоятельство, лежащее на поверхности, оно не являлось секретом ни для кого и никогда. В практической деятельности мотивирующее воздействие соревнования всегда использовалось в управлении большими и малыми группами. Однако традиционные общества не могли себе позволить того, чтобы выносить противоборство в центр понимания источника жизненных сил. Что же касается рационалистичного социального проекта Нового времени, то в нем признание противоборства людей провозглашается средоточием понимания происходящих процессов.
Уже Вольтер в «Метафизическом трактате» четко формулирует позицию в этом отношении: не доброжелательность, а соперничество благотворны! Среди страстей, которыми движимы люди, первостепенно важна зависть к «могущественным и счастливым» соседям (Вольтер, 1988: 266). И всепроникающее соперничество только прикрывается благозвучным именем «соревнование» – говорит Вольтер, давая понять, что это противостояние проникнуто отнюдь не невинным духом спортивного состязания.
В особенности выпукло идея жестокого противоборства людей как конструктивной силы изложена у И. Канта в работе «Идея истории во всемирно-гражданском плане». Философ хочет подчеркнуть именно момент противостояния, «раздора», принизывающего все общественные отношения. Поэтому он использует термин «антагонизм», призванный отметить остроту, конфликт. Далее в полном соответствии с изложенной нами выше тенденцией аморализма И. Кант прямым текстом «благословляет» природу за «неуживчивость, за завистливо соперничающее тщеславие, за ненасытную жажду обладать и господствовать» (Кант, 1966: 12). Одновременно он видит в этом некий замысел «мудрого творца».
В этой связи следует обратить особое внимание на то, что эта мысль И. Канта тут решительно противостоит превалирующим обыденным интерпретациям исторического развития, которые объясняют прогресс неким якобы вообще присущим людям свойством стремиться к всесторонним улучшениям в жизни. Подобные благостные воззрения на исторический процесс широко распространены в наши дни, а также были представлены во времена И. Канта, о чем свидетельствует, к примеру, творчество И.Г. Гердера – одного из выдающихся немецких просветителей. Последний проводил идею, что в истории происходит некий кумулятивный процесс наращивания «гуманности», в котором войны, распри – лишь прискорбные ошибки, допускаемые людьми по недомыслию и без которых можно было бы обойтись, если бы человечество вело себя разумно (Гердер, 1977). Этой же, в целом, логике подчинены и рассуждения выдающегося французского теоретика Ж.А. Кондорсе, а также многих других. И. Кант же, напротив, подчеркивает, что без антагонизма люди не имели бы стимулов к тому, чтобы реализовывать свои беспредельные творческие возможности, коренящиеся в их обладании разумом (Кант, 1966). Это очень важное и далеко идущее расхождение в интерпретациях процесса исторического развития вообще.
Таким образом, И. Кант принадлежит к тем теоретикам, которые сделали важнейшее открытие о кардинальной роли противоборства в качестве двигателя общественных процессов. Он видел эту роль в пробуждении от лени, выходе из нерадивости и бездеятельного самодовольства (примечательно, что изобретательность не делается предметом особого внимания). Таким образом, антагонизм трактуется И. Кантом весьма оптимистично, акцент делается на конструктивных моментах.
Интересно, что в работе И. Канта внимание уводится от того обстоятельства, что «антагонизм» – это отнюдь не только и не столько соперничество между самостоятельными субъектами, но также и отношения подчинения, эксплуатации, принуждения к труду, притом к труду самому что ни на есть творческому. Также к проявлениям антагонизма, которые «побуждают человека к новому напряжению сил и, стало быть, к большому развитию природных задатков» (Кант, 1966: 12), относятся, безусловно, войны – бич человечества. Впрочем, эта тематика стала предметом интереса последующей философской мысли – у Г. Гегеля в диалектике господина и раба, а затем у К. Маркса, поднявшего вопрос уже не об индивидуальном, а о социальном антагонизме.
Принцип третий: laissez-faire . К рассмотрению следующего принципа рационалистического социального проекта целесообразно перейти, продолжив рассмотрение той же работы И. Канта об идее истории. В ней признается, что антагонизм составляет кардинальное свойство человеческого взаимодействия, он имеет место всегда и везде. Но даже притом что И. Кант обходит вниманием отношения эксплуатации и принуждения, все же само собой ясно, что в реальных исторических обстоятельствах антагонизм сопряжен с разного рода значительными «издержками» и негативными моментами. Философ не очень беспокоится по поводу неисчислимых бедствий, которые несут роду человеческому постоянные распри, однако его тревожит, что эти несовершенства препятствуют глобальному соперничеству проявить всю свою продуктивную мощь. Поэтому, чтобы дать возможность соперничеству продемонстрировать весь конструктивный потенциал, требуется создание особого рода условий, а именно установление определенного рода общественного порядка. Это совершенно справедливое гражданское устройство И. Кант обозначает знакомым для нашего времени словосочетанием «правовое гражданское общество» (Кант, 1966).
Философское обоснование этого общественного устройства состоит именно в его продуктивности. Тут не приводится каких-то соображений «гуманитарного» плана, касающихся морали, достоинства личности, стремления к счастью и т. п. Тем не менее становится предметом серьезного внимания свобода. При этом «величайшая свобода » трактуется не иначе как «полный антагонизм», то есть максимальная возможность субъектов поступать по-своему, а не по чужому усмотрению. И вместе с тем такая возможность становится наибольшей именно тогда, когда одновременно действует «непреодолимое принуждение » . Им являются «внешние законы», обеспечивающие совместимость свободы одних субъектов со свободой других. Таким образом, И. Кант старается предложить красивую философскую формулу: максимум свободы, сочетаемый с максимумом принуждения. Это «должно быть высшей задачей природы для человеческого рода, ибо только посредством разрешения и исполнения этой задачи природа может достигнуть остальных своих целей в отношении нашего рода» (Кант, 1966: 13). Сочетание этих двух максимумов – свободы и принуждения – дает третий: максимум продуктивности! По сути, здесь выражена идея наибольшей нестесненности, вольготности действий экономических акторов, которая обеспечивается «наименьшим» государством. Такое положение дел осмыслено с XVII в. как политика laissez-faire. Эта политика «невмешательства» государства в деятельность частных субъектов, но не в смысле, конечно же, вообще самоустранения, а как раз самого строгого отслеживания выполнения определенного минимума законодательных положений, касающегося преимущественно уголовных правонарушений. Цель такой конфигурации состоит в достижении максимальной эффективности – по выражению И. Канта – «всего производства», что предполагает не только собственно хозяйственные, но и вообще любые культурные проявления.
Принцип четвертый: прогресс. Итак, эгоизм (аморализм) своим смыслом и целью имеет максимальную продуктивность, которая достигается в ходе «честной конкуренции», обеспеченной минимальным государством. Эта продуктивность выражается в количественном и качественном увеличении, возрастании всевозможных благ. В этой связи следует признать правоту Э. Геллнера, который охарактеризовал самую суть «индустриального общества» как «общества неуклонного роста» (Геллнер, 1991). Экономический рост – это воздух Нового времени, столь же всепроникающий и необходимый, сколь и не замечаемый – как то, что наполняет ежеминутно легкие людей, обычно не обращающих на это внимания. В предшествующие эпохи этот рост был очень малым, чтобы вообще быть заметным. Однако в Новое время темп изменений стал весьма ощутим, особенно в центрах нарождавшегося капиталистического мира. Рост – это количественная характеристика, увеличение и приращение разнообразных благ, которые обеспечивают непрерывное всестороннее улучшение жизни вообще, ее совершенствование.
Такое всепроникающее улучшение претворяется в уверенное ожидание, а оно – в стойкую уверенность, что так будет и должно продолжаться. Эта привычная обыденная уверенность оформляется в конце концов в теоретическую концепцию прогресса (Соколова, 2021: 41). Теории его прорастают постепенно (Seth, 2022: 232). Уже у Г.В. Лейбница мы находим определенные суждения о необходимости прогресса (Лейбниц, 2010). Среди наиболее известных попыток создать представление о подобном развитии общества – работы И.Г. Гердера (1784–1791), А. Фергюсона (1766) и Ж.А. Кондорсе (1794). Их объединяет подход, который уместно обозначить как «идеалистический». Прогресс, с данной точки зрения, – это постоянное совершенствование именно «разума», причем в том смысле, что он происходит непосредственно в области идей. Это обстоятельство отражено в самом названии книги Ж.А. Кондорсе «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» (Кондорсе, 1936). Самая суть такого подхода может быть выражена словами А. Фергюсона: «Мы признаем, что человек предрасположен к самосовершенствованию, что в нем заложен принцип прогресса и стремление к идеалу» (Фергюсон, 2000: 41). Кроме прочего, разум предопределен к изобретательству. Однако, как уже указывалось выше, это поверхностный взгляд по сравнению с более основательным, который находим у И. Канта и согласно которому развитие человеческих задатков в истории – это не столько внутренняя потребность, сколько внешняя вынужденность, которая создается конфликтными отношениями людей. Последний подход подводит к точке зрения, что люди прежде вынуждают друг друга создавать новации в практической жизни, а затем они находят оформление в виде ментальных конструкций, идей и т. п.
Идея прогресса выводит общественный проект Нового времени на новый уровень, и, очевидно, именно поэтому она оформляется позже других. Она не имеет четкого выражения у таких первостепенно значимых мыслителей, как Вольтер, Гольбах или Гельвеций. Прогресс позволяет синтезировать, связать другие, ранее названные принципы: эгоизм, антагонизм и либерализм в тесное единство. Они получают, таким образом, высшее оправдание, на которое первоначально не претендовали. Речь идет уже не просто о некоем «разумном» и «естественном» устройстве, в котором, как предполагается, будут преодолены многочисленные недостатки прежних общественных порядков. И это не просто надежда на улучшение в разных областях жизни. Концепт прогресса сообщает комплексу идей Нового времени поистине высший смысл, в нем появляется выраженное телеологическое звучание. Происходящее в обществе мыслится как движение к некоторой верховной мировой цели. Атеистические тенденции, получившие отчетливое выражение в «библии материализма» (как называли «Систему природы» П.А. Гольбаха), неожиданным образом могут быть истолкованы как нечто, служащее какому-то возвышенному идеалу! Продвигаемые философами XVIII в. себялюбие, «порок», «раздор» – вещи малопривлекательные, оказывается, прокладывают путь не просто к наращиванию чувственных удовольствий, но еще и служат «гуманности». При этом не случайным образом, а будучи вписаны в некую воодушевляющую всемирную перспективу.
Особо важным является то, что идея прогресса во многом позволяет решать «основной вопрос идеологии», то есть сглаживать социальные конфликты за счет поддержания надежд, что будущие улучшения в обществе позволят преодолеть нынешние диспропорции, проистекающие из отношений неравенства и эксплуатации. Э. Геллнер убедительно показывает, что неуклонный экономический рост реально работает таким умиротворяющим образом: «Индустриальное общество – единственное общество, которое основывает свое существование на непрерывном и неуклонном росте… это первое общество, породившее идею и идеал прогресса, постоянного движения вперед. Излюбленный способ социального контроля в таком обществе – поголовный подкуп, материальное вознаграждение за отказ от социальной агрессии» (Геллнер, 1991: 63).
Принцип пятый: невидимая рука. Таким образом, идея прогресса способна выполнять функцию именно воодушевляющего и оправдывающего идеала, необходимого для всякой идеологии. В результате прочие компоненты рационалистичного проекта Нового времени – эгоизм, антагонизм и либерализм laissez-faire – собираются в единство, обретают направленность, перспективу. И все же имеется еще некоторый важный фактор, необходимый для того, чтобы целостность в достаточной мере состоялась. Всякая идеология нуждается в трансцендентном обеспечении состоятельности своих предначертаний. Должен иметься ответ на вопрос, почему всё должно и будет работать так, как обещано, что или кто будет это гарантировать? В религиях эту функцию выполняют духи и боги: когда-то изъявлявшие волю через шаманские камлания или жрецов-гадателей, затем – в форме откровения, переданного через пророков и закрепленные в священных книгах и т. п. В идеологиях правого толка ответственность возлагается на неисповедимые силы, коренящиеся в культурной самобытности, древней традиции, национальном духе, цивилизационных основах, творческой воле расы, единстве крови и т. п. В коммунистической – прежде всего марксистской – идеологии ответственность берет на себя «научность», приходящая на смену «утопии» и противопоставленная реакционной «идеологии». Но что является гарантом либерально-прогрессистской идеологии? Что или кто ответит на вопрос, почему столкновение эгоистических устремлений целерациональных субъектов, даже пусть упорядоченное правовыми процедурами, действительно будет работать на создание бесконечного улучшения целого? Откуда уверенность в том, что попустительство порокам… и своекорыстие не будет иметь пагубных последствий в масштабах общества и в долгосрочной перспективе? (Zhao et al., 2023: 210).
Эта проблема затрагивается Ж.А. Кондорсе при рассмотрении им «Девятой эпохи»: «Каким образом в этом кажущемся хаосе мы видим, тем не менее, в силу общего мирового морального закона, что усилия каждого для самого себя способствуют благосостоянию всех, и, невзирая на внешний хаос противоположных интересов, общий интерес требует, чтобы каждый понимал свой собственный интерес и мог беспрепятственно его соблюдать?» (Кондорсе, 1936: 167). Впрочем, у самого Ж.А. Кондорсе данный вопрос звучит, скорее, как риторический, поскольку он убежден в непреложности такого «мирового морального закона». Однако на самом деле это не риторический вопрос, и определенного ответа на него не было во времена Ж.А. Кондорсе, как нет и до сих пор. Вместо ответа имеем завораживающее словосочетание «невидимая рука», к которому впоследствии эпигоны добавили для пущей убедительности пояснение «рынка». Это словосочетание было использовано А. Смитом всего два раза в двух его главнейших произведениях – в «Теории нравственных чувств» (1759) и «Богатстве народов» (1776). Признано, что это было и остается метафорой. Однако метафорой не просто удачной, но влиятельной как никакая другая («Невидимая рука» рынка …, 2009) – в области экономических исследований, да и отнюдь не только в ней.
А. Смит повторяет известные уже Б. Мандевилю и Вольтеру соображения о пользе эгоистичных страстей для общего блага, но при этом как бы невзначай добавляет одну деталь, которая и принесла ему наибольшую славу. Эта деталь – специальное указание на существование некоторой инстанции , координирующей усилия каждого для себя с усилиями других для себя. Эту инстанцию А. Смит и обозначает «невидимой рукой». «Несмотря на свою алчность и на свой эгоизм… По-видимому, какая-то невидимая рука заставляет их принимать участие в <…> распределении предметов, необходимых для жизни… Таким образом, без всякого преднамеренного желания и вовсе того не подозревая, богатый служит общественным интересам и умножению человеческого рода» (Смит, 1997: 185). Обратим внимание, что А. Смит говорит «по-видимому» и «какая-то», что, несомненно, свидетельствует о признании им неясности в отношении природы и способа действия этой «руки». При этом он не пытается внести разъяснения и наметить концепцию.
Однако на этом новации не заканчиваются. В тени грандиозной популярности метафоры «невидимой руки» остаются соображения А. Смита о фундаментальной непонятности для людей того, что они делают. Индивид движим алчностью и эгоизмом, «пустыми и ненасытными желаниями», однако в старости и болезнях человек обнаруживает, что почести и богатства не заслуживают усилий, направленных на их приобретение. Мнение А. Смита таково, что, если бы люди понимали, что именно они делают, они не стали бы делать это – с самыми неблагоприятными последствиями для развития цивилизации. Они движимы буквально «иллюзиями» по пути прогресса. Мы видим, что А. Смит разделяет мысли И. Канта о некоем «замысле природы», согласно которому все устроено так, что люди вопреки своим намерениям приводятся к определенному результату. «И хорошо, что сама природа обманывает нас в этом отношении: производимая ею в нас иллюзия возбуждает творческую деятельность человека и постоянно поддерживает ее» (Elfi, 2022: 39).
В этой связи примечательна постановка вопроса М. Фуко, который обстоятельно анализирует исходные принципы либерализма в курсе лекций «Рождение биополитики». М. Фуко утверждает, что в выражении «невидимая рука» на первый взгляд, акцент делается на слове «рука», призванном обозначать наличие надежного порядка, пусть и трудноразличимого за кажущейся неразберихой. Но на самом деле не менее, если не более, важным является эпитет «невидимая», означающий не столько неприметность упорядоченности, сколько обязательное условие, состоящее в том, что каждый индивид должен обладать только лишь ограниченным кругозором собственных эгоистических надобностей. Соответственно, «никакой из экономических агентов не может стремиться к общественному благу», поскольку «когда они начинают заботиться об общем благе, дела не идут»1.
Таким образом, фактическое непонимание людьми последствий своих действий – столь благотворное для «общественного блага» – это еще не конечный результат рассуждений А. Смита (и его последователей). Логика концепта «невидимой руки» ведет далее: от констатации простой фактичности данного обстоятельства к провозглашению в качестве категорического условия успешности общества, «чтобы каждый из деятелей в этой всеобщности был слеп»2. Следует добавить далее, что из этого проистекает требование поддерживать «слепоту» всеми возможными средствами, в том числе принятием морального обязательства не пытаться проникнуть мыслью в действительный механизм функционирования общественной системы и, в итоге, запрета на попытки это сделать как на общественно опасные.
Последние соображения составляют центральный момент творчества яркого либерального теоретика ХХ в. Ф. фон Хайека, который прямо заявляет о «необходимости индивидуального подчинения анонимным и внешне иррациональным социальным силам в любом сложном обществе», что требует «приспособления к тому, что должно казаться слепыми силами социального процесса» (Хайек, 2011: 30, 31). Ф. фон Хайек избегает откровенно возвещать обскурантизм и открыто формулировать запрет на мыслительные усилия по «постижению социальных целостностей» (Хайек, 2011: 8). Тем не менее он, несомненно, проводит такие идеи обходными средствами, подробно анализировать которые в данном случае нет возможности. Безусловно, во времена деятельности Ф. фон Хайека подобный образ мысли был во многом объясним и даже оправдан политическим моментом, отрицанием сталинского социализма. Но дело в том, что значение усилий Ф. фон Хайека отнюдь не сводится к противостоянию командной экономике советского типа. Суть их – в позиции, что вообще стремление разобраться в функционировании социальной системы бесполезно, пагубно и должно быть осуждаемо.
Призыв подчиниться силам, которые квалифицируются как «иррациональные», подразумевает молчаливое признание некоей высшей инстанции – той, которая стоит за «слепыми силами социального процесса». Тем самым представление о невидимой руке трансформируется в кодовое обозначение некоторой квази-религиозной веры. «Квази» – поскольку прямо и честно, как то было в домодерную эпоху, вера в сверхъестественное уже не может декларироваться. Однако в либеральной идеологии имеется мощный запрос на идею некоего потустороннего регулирования социальных процессов. В этом ключе устроение общества в его историческом становлении представляется реализацией замысла мироздания свыше и обеспечивается трансцендентным руководством. В этой связи кажется верным ход мыслей Бруно Латура, который, при экспликации основополагающих концептов Нового времени (называемых им «Конституцией»), указывает обязательным пунктом наличие Бога. Последний дополняет другие кардинальные принципы («конституционные гарантии»): существование законов природы и провозглашение человеческой свободы. Однако этот Бог Нового времени так удобно устроен, что он возникает или исчезает в зависимости от надобности. «Нововременной человек мог быть атеистом, оставаясь при этом вполне религиозным. Он мог захватить материальный мир, по своей воле пересоздать социальный мир, не ощущая себя покинутым всеми сиротой-демиургом» (Латур, 2006: 99).
Заключение . Концепт невидимой руки – прежде всего, конечно, «рынка» – играет центральную роль в новоевропейском социальном проекте. Он, как уже говорилось, служит обоснованием того, что все другие, рассмотренные выше, элементы этого проекта – эгоизм, антагонизм, laissez-faire и прогресс – будут функционировать как целое. Именно упование на благотворное влияние невидимой руки, а не на комплекс абстрактных «ценностей» и «прав», составляет подлинную основу веры в работоспособность либерально-прогрессистского проекта Нового времени.
Список литературы Основные элементы социального проекта в идеологии либерализма: эгоизм, антагонизм, laissez-faire, прогресс и невидимая рука
- «Невидимая рука» рынка / науч. ред. Н.А. Макашева. М., 2009. 388 с.
- Аристотель. Сочинения: в 4 т. М., 1983. Т. 4. 830 с.
- Валлерстайн И. После либерализма. М., 2003. 256 с.
- Вольтер. Философские сочинения. М., 1988. 750 с.
- Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. 320 с.
- Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. 703 с.
- Гольбах П.А. Избранные произведения: в 2 т. М., 1963. Т. 2. 563 с.
- Кант И. Сочинения: в 6 т. М., 1966. Т. 6. 743 с.
- Кондорсе Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936. 266 с.
- Латур Б. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб., 2006. 240 с.
- Лейбниц Г.В. Труды по философии науки. М., 2010. 178 с.
- Макиавелли Н. Государь. М., 2024. 160 с.
- Мильдон В.И. Индивидуализм и эгоизм (введение в современную этику) // Вопросы философии. 2008. № 6. С. 43-55.
- Смит А. Теория нравственных чувств. М., 1997. 351 с.
- Соколова Т.Д. Понятие прогресса и прогресс в языке философии // Цифровой ученый: лаборатория философа. 2021. Т. 4, № 2. С. 40-47. https://doi.org/10.32326/2618-9267-2021-4-2-40-47.
- Токвиль А. де. Демократия в Америке. М., 1992. 554 с.
- Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества. М., 2000. 392 с.
- Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. Челябинск, 2011. 394 с.
- Elfi E. Adam Smith's Invisible Hand and the Visible Hand. Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal). 2022. Vol. 13, iss. 26. P. 39-46. https://doi.org/10.19166/verity.v13i26.5244.
- Romanenko I.B., Gapanovich S.O., Romanenko Y.M., Fedorin S.E. Conflict Misunderstanding in the Net Information Society // Lecture Notes in Networks and Systems. 2022. Vol. 442. P. 166-174. https://doi.org/10.1007/978-3-030-98832-6_15.
- Seth S. Knowledge, Progress and the Knowledge of Progress // The Sociological Review. 2022. Vol. 70, iss. 2. P. 232-247. https://doi.org/10.1177/00380261221084425.
- Tilley J.J. Does Psychological Egoism Entail Ethical Egoism? // The Review of Metaphysics. 2022. Vol. 76, iss. 1. P. 115-133. https://doi.org/10.1353/rvm.2022.0047.
- Zhao T., Zhang R., Lu Q. The Combination of Smith's Egoism and Social Public Interest - Taking the Constraint on Egoism as a Perspective // Advances in Education, Humanities and Social Science Research. 2023. Vol. 1, iss. 3. P. 210-213. https://doi.org/10.56028/aehssr.3.1.210.