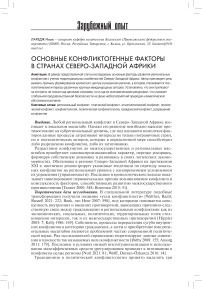Основные конфликтогенные факторы в странах Северо-Западной Африки
Автор: Лaредж И.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 2 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
В рамках представленной статьи исследованы основные факторы развития региональных конфликтов с учетом территориальных особенностей Северо-Западной Африки. Автор преследует цель выявить причины формирования кризисного центра в указанном регионе, в котором сталкиваются геополитические интересы различных крупных международных акторов. Установлено, что они притязают на контроль не только над данными странами, но и над их экономическими ресурсами, что угрожает глобальной продовольственной безопасности на фоне неблагоприятной природно-климатической обстановки в регионе.
Региональный конфликт, этнический конфликт, этнополитический конфликт, политический конфликт, конфликтология, политическая конфликтология, гражданский конфликт, разрешение конфликтов
Короткий адрес: https://sciup.org/170210334
IDR: 170210334 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-2-309-314
Текст научной статьи Основные конфликтогенные факторы в странах Северо-Западной Африки
Введение. Любой региональный конфликт в Северо-Западной Африке возникает в локальном масштабе. Однако его развитие неизбежно выводит противостояние на субрегиональный уровень, где под влиянием комплекса факторов данные процессы затрагивают интересы не только пограничных стран, но и геополитических акторов, которые в определенной мере способствуют либо разрешению конфликтов, либо их затягиванию.
Разрастание конфликтов до межгосударственных и региональных масштабов приобретает самовоспроизводящийся характер, нередко ускоряясь, формируя собственную динамику и развиваясь в своих логических закономерностях. Обстановка в регионе Северо-Западной Африки на протяжении XXI в. явственно демонстрирует указанные тенденции по переходу локальных конфликтов на региональный уровень с одновременным усложнением их управления (управляемости). Последнее в хронологическом подходе показывает нивелирование первоначальных причин возникновения конфликта и комплексность факторов, способствующих развитию межгосударственного противостояния [Tanner 2000: 548; Bozeman 2015: 51].
Теоретическая база исследования. В специальной литературе подобные трансформации получили название «узлы конфликтности» [Walther, Radil, Russell 2021: 222; Bank, van Heur 2007: 598], под которыми понимается совокупность внутренних и внешних противоречий, выводящих причинно-следственную связь между гражданскими и региональными конфликтами как из экономических, социальных, политических, территориальных точек столкновения интересов, так и из межгосударственных противоречий [Hippler 2005: 7; Kelly 1986: 169]. Собственно, процессы перерастания сугубо внутренних конфликтов в категорию гражданских, а затем и приобретение ими региональных масштабов являются проблемной частью современной политической науки. Ряд исследователей справедливо теоретизируют данные изменения в плоскости так называемых волн конфликтности [Østby 2008: 155; Ansorg 2011: 179]. Последние в условиях низкой институционализации и использования малоэффективных средств урегулирования приводят к втягиванию в конфликты целые регионы [Nuri 2021: 81; Wolff, Dursun-Özkanca 2016: 14].
Традиционно в политической конфликтологии принято выделять три группы факторов, провоцирующих переход конфликта в вооруженную стадию [Рогач 2015: 8; Голубев 2019: 45; Репьева 2015: 19]: состояние социальноэкономических условий, социально-психологические факторы и факторы военно-силовой направленности. Рассмотрим указанную систему факторов конфликтности на примере эволюции региональных конфликтов на территории Северо-Западной Африки.
Результаты исследования. В социально-экономической плоскости конфликты в исследуемой группе государств берут свое начало из неравного доступа к материальным ресурсам, что, в свою очередь, является следствием крайней бедности и слабой развитости региона. Учитывая дефицит природных ресурсов и неблагоприятные климатические условия, в которых проживает большое число людей, насущной политической потребностью становится борьба за территорию, что наблюдалось на протяжении всего XX в. и не перестает обострять ситуацию в XXI в.
Хрестоматийным примером наглядной взаимосвязи социально-экономических факторов с региональными конфликтами служит современный статус Сахарской Арабской Демократической Республики (далее – САДР). Регион Западной Сахары находился в зоне интересов нескольких государств – Испании, Марокко, Мавритании. В 1975 г. были заключены Мадридские соглашения, по которым данная территория подлежала разделу между Мавританией (французская колония) и Марокко (приобретшая независимость в 1956 г.)1. Однако объединенные повстанческие силы (Фронт ПОЛИСАРИО), выступающие за независимость САДР, возобновили партизанскую войну при поддержке властей таких стран региона, как Алжир и Ливия (также помощь предоставляла Куба и КНДР). В результате эффективной партизанской стратегии армия Мавритании вышла из боевого участия в конфликте в 1979 г., а вооруженные силы Марокко, напротив, были значительно увеличены (военный контингент насчитывал в 1981 г. 100 тыс. чел.) [Seddon 1987: 33; Damis 1983: 171]. К 1989 г. марокканские войска взяли под контроль около 80% территории.
Наиболее засушливые и не пригодные к возделыванию районы отошли под контроль Фронта ПОЛИСАРИО. Тем самым регион Западной Сахары оказался разделенным между силами Марокко и местными повстанцами, что в совокупности с неблагоприятными климатическими условиями привело к признанию САДР беднейшей страной Африканского континента [Smith 2018: 35]. В так называемой свободной зоне, находящейся под контролем Фронта ПОЛИСАРИО, проживает 40 тыс. чел., в то время как общая численность населения всего региона составляет 586 тыс. чел. [Zunes, Mundy 2022: 93]. В результате длительных военных действий местной экономике был нанесен серьезный урон, что поставило трудоспособную часть населения в критические условия. Оседлое сельское хозяйство, поощряемое правительством САДР, по-прежнему составляет малую долю ВВП в противовес кочевому животноводству. Последнее, помимо суровых природно-климатических условий, регулярно сталкивается с проблемой заминированных земель [Joffé 2010: 381].
Попыткам иностранного инвестирования в местную промышленность по добыче фосфатов активно препятствует неразрешенный конфликт между САДР и Марокко. В частности, в 2017 г. вооруженные представители Фронта ПОЛИСАР ИО захватили грузовое морское судно новозеландской компании
Ballance Agri-Nutrients в Порту-Элизабет, а впоследствии повстанческая организация выиграла судебный процесс по запрету марокканским компаниям продавать добытые полезные ископаемые третьим странам. Схожие тенденции наблюдались на протяжении 2019–2022 гг., когда группа немецких компаний, приобретших цементные заводы на территории Западной Сахары, столкнулась с противодействием со стороны Фронта ПОЛИСАРИО1.
Достигнутое противоборствующими сторонами соглашение о перемирии 1991 г. предполагало проведение референдума о независимом статусе САДР, что до сих пор не получило никакой реализации во многом из-за переселения властями Марокко на спорные территории лояльных им жителей. К настоящему моменту их численность составляет 2/3 общей численности населения Западной Сахары [Новиков, Новиков 2019: 40]. В результате подобная политика приводит к регулярным вооруженным столкновениям между повстанческой армией САДР и марокканскими военными.
Например, осенью 2020 г. силами Фронта ПОЛИСАРИО была заблокирована основная транспортная магистраль, соединяющая Марокко и Мавританию. В ответ марокканские вооруженные силы нанесли ракетные удары по военным объектам САДР, что спровоцировало обвинения обеих сторон конфликта в нарушении режима перемирия. Вместе с тем повстанческое движение Западной Сахары на протяжении последних десятилетий уже не представляет былой серьезной опасности для армии Марокко в силу малочисленности состава и низкой технологической оснащенности. Марокканские вооруженные силы используют боевые беспилотные аппараты и иную новейшую военную технику. Кроме того, исчерпавшая себя партизанская тактика Фронта ПОЛИСАРИО наносит не столь существенный урон противникам [Коттье, Майует 2022: 6].
Однако указанный региональный конфликт поддерживается внешними политическими силами и представляет угрозу для безопасности не только Северо-Западной Африки, но и стран ЕС (террористические организации, нелегальный оборот оружия, беженцы). ООН не признала суверенитет ни одного государства над данной территорией, рассматривая ее в качестве «недеколонизированной»2. Это означает, что государства – члены ООН самостоятельно решают, как относиться к сложившейся в Западной Сахаре власти. Такой разноплановый подход привел к частичному признанию суверенитета САДР (60 стран – членов ООН, среди которых Алжир, Турция и Намибия). Напротив, юрисдикцию Марокко над спорными территориями признают такие влиятельные государства, как США, Франция, Египет и Израиль. В экономическом выражении частичное признание государственности проявляется в практике получения нефтегазовыми компаниями лицензий на разработку и добычу полезных ископаемых от двух политических субъектов – Марокко и САДР [Махмутова 2022: 177].
Исследователи констатируют, что сложившаяся обстановка «замороженного» регионального конфликта в Западной Сахаре продиктована противо- стоянием двух крупных игроков Северо-Западной Африки – Алжира и Марокко [Boukhars 2019: 251; Lefevre 2016: 737]. Подобный расклад проявляется в формировании внутренней политики САДР, при которой практически любое государственно-управленческое решение подлежит согласованию с алжирскими властями. Кроме того, в южном вилайете Алжира Тиндуфе располагаются лагеря беженцев из Западной Сахары [Андроненко 2022: 142]. Отсюда очерчивается угроза конфликта в рассматриваемом регионе, поскольку потенциально он может перерасти в войну между Марокко и Алжиром, отношения которых приобрели конфликтный характер еще в 1978 г.
Своеобразным выражением социально-психологических факторов региональных конфликтов в странах Северо-Западной Африки является высокая персонификация власти. Среди политических элит и лидеров, как правило, доминируют выходцы из военных кругов. Тем самым личная мотивация таких лиц нередко предопределяет развитие конфликтных ситуаций, в т.ч. посредством задействования силового аппарата власти для преодоления негативных проявлений.
В политической науке социально-психологические факторы конфликтности представлены системой таких обстоятельств, как оказание внешнего давления, неспособность политической системы реагировать на вызовы внешней среды, стремление к региональному превосходству, особая легитимация власти вопреки интересам сопредельных государств и нарушение международного права для стремительного достижения политических целей [Saaty, Alexander 1989: 72; Jenkins, Schock 1992: 173; de Zavala 2006: 20]. В развитии региональных конфликтов на территории стран Северо-Западной Африки прослеживаются все пять названных факторов.
Заключение. В странах Северо-Западной Африки формируется кризисный центр, в рамках которого сталкиваются геополитические интересы разных крупных международных акторов, имеющих притязания на контроль не только над данными территориями, но и над экономическими ресурсами (прежде всего, это энергетические материалы, полезные ископаемые). Подобный расклад угрожает глобальной продовольственной безопасности на фоне неблагоприятной природно-климатической обстановки в регионе.
Названные в статье социально-экономические, социально-психологические и военные факторы конфликтности стран Северо-Западной Африки в своей совокупности препятствуют развитию не только отдельно взятых государств, втянутых в вооруженные конфликты, но и всего региона. Международные и региональные акторы игнорируют образующиеся военные временные правительства, а их представителей не приглашают на международные площадки для проведения каких-либо переговоров и подвергают многочисленным односторонним санкциям, которые вредят рассмотренным национальным экономикам и усугубляют конфликтогенность в регионе.