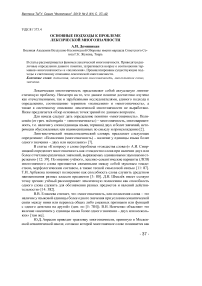Основные подходы к проблеме лексической многозначности
Автор: Доминикан Алина Игоревна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории и истории языка
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается феномен лексической многозначности. Приводятся различные определения данного понятия, затрагивается вопрос о соотношении терминов «многозначность» и «полисемия». Проанализированы существующие подходы к системному описанию лексической многозначности.
Полисемия, лексическая многозначность, многозначное слово, значение
Короткий адрес: https://sciup.org/146281458
IDR: 146281458 | УДК: 81`373.4
Текст научной статьи Основные подходы к проблеме лексической многозначности
Лексическая многозначность представляет собой актуальную лингвистическую проблему. Несмотря на то, что данное понятие достаточно изучено как отечественными, так и зарубежными исследователями, единого подхода к определению, соотношению терминов «полисемия» и «многозначность», а также к системному описанию лексической многозначности не выработано. Ниже предлагается обзор основных точек зрений по данным вопросам.
Для начала следует дать определение понятию «многозначность». Поли-семи́я (от греч. πολυσημεία – «многозначность») – многозначность, многовариантность, т.е. наличие у слова (единицы языка, термина) двух и более значений, исторически обусловленных или взаимосвязанных по смыслу и происхождению [2].
Лингвистический энциклопедический словарь предлагает следующее определение: «Полисемия (многозначность) – наличие у единицы языка более одного значения – двух или нескольких» [7].
В статье «К вопросу о слове (проблема «тождества слова»)» А.И. Смир-ницкий определяет многозначность как «тождество слова при наличии двух или более отчетливо различных значений, выражаемых одинаковыми звуковыми отрезками» [12: 39]. По мнению учёного, лексико-семантические варианты (ЛСВ) многозначного слова признаются связанными между собой звуковым тождеством, морфологическим составом, а также тесной смысловой связью [11: 87]. Т.И. Арбекова понимает полисемию как способность слова служить средством наименования разных классов предметов [3: 80]. Д.Н. Шмелёв имеет схожую точку зрения: учёный рассматривает лексическую полисемию как способность одного слова служить для обозначения разных предметов и явлений действительности» [14: 382].
В.В. Елисеева считает, что «многозначность, или полисемия слова – это наличие у языковой единицы более одного значения при условии семантической связи между ними или переноса общих либо смежных признаков или функций с одного денотата на другой» (цит. по [5: 784]). В.Н. Немченко объясняет это явление «наличием у единицы языка более одного значения – двух или нескольких» [там же].
Ю.Д. Апресян приводит трактовку многозначности, принятую в Московской семантической школе, согласно которой многозначное слово понимается как совокупность семантически связанных друг с другом лексем. При этом наличие семантических связей между лексемами многозначного слова не предполагает наличие у всех его лексем семантического инварианта. Семантические связи между различными лексемами многозначного слова и степень их семантической близости друг к другу эксплицируются в их аналитических толкованиях [2: 426].
А.А. Зализняк придерживается представления о многозначности как «о множестве различных явлений некой единой сущности» (цит. по [2: 410]). В работе «Русская семантика в типологической перспективе» [6] А.А. Зализняк перечисляет принципы когнитивного подхода к многозначности [6: 31].
В статье «К вопросу о соотношении многозначности и полисемии» [8] О.Г . Лукошус комментирует данные постулаты, опираясь на работы других авторов. Исследователь подчёркивает, что не все , а подавляющее большинство языковых единиц многозначно. К словам с однозначной семантикой относятся термины; слова, называющие конкретный предмет, чаще всего предмет обиходного характера; а также слова, выражающие субъективную оценку качества или признака [8: 74]. Утверждение, что для многозначной единицы не существует единого ядерного значения, представляется автору не до конца доказанным. Это аргументируется тем, что в лингвистических кругах отсутствует однозначный подход к вопросу о возможности выделения инвариантного значения у многозначного слова [цит. раб.: 75]. Третье утверждение опровергается описанием различных способов представления значения языковой единицы [там же].
Перечислены следующие положения: (1) иерархически упорядоченный (= многоуровневый) набор частных значений; (2) множество частных значений с заданным отношением производности (= семантической деривации), связывающих их с исходным значением; (3) инвариант (~ общее значение) и в той или иной степени, выводимые из него варианты (= частные значения), реализующиеся в разных контекстных условиях; (4) значение слова как набор семантических компонентов, имеющих вид утверждений на семантическом метаязыке; (5) образ-схема, или схематический образ (image schema): картинка, позволяющая, когнитивно адекватным образом представить как значение слова, так и структуру его многозначности; (6) абстрактная схема и набор формальных операций ее логического преобразования, в результате применения которой получаются частные значения [6: 30].
В статье [8] О.Г. Лукошус подчёркивает, что существует три типа многозначности: (а) радиальная полисемия: все значения слова мотивированы центральным значением; (б) цепочечная полисемия: каждое новое значение слова мотивировано ближайшим к нему значением, но крайние значения могут и не иметь общих семантических компонентов; (в) радиально-цепочечная полисемия [1: 182]. Кроме того, автор придерживается мнения, что семантическая структура слова изменяется - некоторые значения многозначного слова исчезают, с появлением новых значений изменяется соотношение между значениями одного слова, первичные значения могут быть вытесненными производными, т.е. изменяется соотношение между главным (первичным) значением и производными (вторичными) значениями. Автор указывает, что данные изменения рассматриваются с точки зрения диахронии и синхронии [8: 75].
А.А. Зализняк в ранее упомянутой работе «Русская семантика в типологической перспективе» вообще разграничивает термины «многозначность» и - 38 -
«полисемия» [6: 18]. По словам автора, под полисемией обычно понимают лишь лексическую многозначность, в то время как термин многозначность не содержит этого ограничения: « «Под полисемией понимается чисто парадигматическое отношение: факт наличия у слова более одного значения. Между тем многозначность может быть и синтагматической: многозначностью может быть названа, в том числе, возможность одновременной реализации, у той или иной языковой единицы, двух (или более) значений. Названные различия проявляются также в функционировании соответствующих прилагательных: полисемичным может быть только слово как единица словаря, а многозначным может быть выражение и целое высказывание; многозначность, таким образом, сближается с неоднозначностью (тем самым, термин многозначность охватывает как сферу полисемии, так и сферу неоднозначности)» [там же].
Таким образом, возникает вопрос о соотношении понятий «многозначность» и «полисемия»: нужно ли их разграничивать или можно использовать в качестве полных синонимов? Исходя из приведённых ранее определений, можно сделать вывод, что в отечественной лингвистике не существует единого подхода в этом вопросе. Интерес к теме прослеживается и в недавних исследованиях А.И. Ольховской [9] и М.А. Соколовой [13]. А.И. Ольховская посвящает раздел диссертационной работы языковым явлениям, смежным с многозначностью, в том числе рассматривает соотношение «многозначность» – «полисемия». В работе М.А. Соколовой «термин многозначность употребляется в его широком понимании для наименования полисемии и омонимии термина как противопоставление его однозначности» [13]. В зарубежной лингвистике, в частности в исследованиях, выполненных на материале английского языка, явления многозначности и полисемии обозначаются термином polysemy , т.е. в английской лингвистической традиции не проводится разграничений между данными понятиями [8: 74]. В своём исследовании мы, в свою очередь, придерживаемся традиционного подхода, который подразумевает синонимию понятий «многозначность» и «полисемия».
В.В. Свинцов в статье «Пять подходов к лексической многозначности в отечественной лингвистической традиции» [11] подчёркивает, что большинство отечественных лингвистов, в том числе В.В. Виноградов, А.И. Смирницкий, Д.Н. Шмелёв, Ю.Д. Апресян, А.В. Калинин, Н.М. Шанский и др., признают наличие в языке как однозначных, так и многозначных слов.
В то же время существует подход, согласно которому в языке существуют только однозначные слова, соотносящиеся лишь с одним денотатом [11: 87]. Приверженцем данного подхода В.В. Свинцов называет А.А. Потебню, который полагал, что «малейшее изменение в значении слова делает его другим словом», так как «слово в речи каждый раз соответствует одному акту мысли, а не нескольким, т.е. каждый раз, как произносится или понимается, имеет не более одного значения». Приведённые доводы позволяют А.А. Потебне сделать вывод, что многозначных слов нет, «на деле есть только однозвучность различных слов, т.е. то свойство, что различные слова могут иметь одни и те же звуки» (цит. по [11: 87]).
Следующий подход связан с идеей «актуальной» и «потенциальной» многозначности. По мнению В.В. Морковкина, в языке все без исключения слова являются многозначными: у одних лексических единиц многозначность уже обнаружилась (актуальная многозначность), а у других ещё не обнаружилась (потенциальная многозначность) [11: 87]. К достоинствам данного - 39 - подхода В.В. Свинцов относит, во-первых, рассмотрение проблемы на фоне гумбольдтовской оппозиции «energeia VS еrgon» или соссюровской дихотомии «язык VS речь», во-вторых, его лексикографические подразумевания [там же].
Согласно точке зрения, приведённой в статье [11], каждое слово имеет только одно общее значение, при этом данное значение может включать в себя различные понятия и иметь разные реализации в зависимости от контекста [цит. раб.: 88]. А последний подход рассматривает многозначное слово как комплексную единицу, имеющую нетождественную форму (понятие форма объединяет в себе все структурные особенности слова, в первую очередь сочетаемость) и нетождественное содержание [там же].
Ю.Д. Апресян отмечает, что в современном языкознании сложилось два основных подхода к описанию семантического единства многозначного слова. Первый подход основан на идеях и методах когнитивистики или концептуально близких к ней направлений, в то время как второй, подход Московской семантической школы, является развитием традиционных лексикографических методов описания многозначности [2: 409].
А.Д. Кошелев говорит о трёх современных подходах к лексической полисемии [15: 330]. Первый из подходов – ранее упомянутая теория Московской семантической школы (МСШ). Согласно лексикографической традиции, первым в словарной статье даётся толкование основного значения слова, а за ним идут толкования переносных значений. Сходный подход развивается и в МСШ: первым в списке толкуемых значений идёт наиболее «актуальное, разработанное в данном языке» [там же]. Ю.Д. Апресян подчёркивает, что основная лексема подобна доминанте синонимического ряда, поэтому «её вполне разумно было бы называть доминантой многозначного слова» [2: 434]. Данная лексема наиболее употребительна, обладает наиболее полной грамматической парадигмой, наиболее широким набором синтаксических конструкций, наиболее широкой сочетаемостью, и наиболее нейтральна стилистически, прагматически, коммуникативно и просодически [там же]. За основной лексемой следуют другие лексемы слова с учётом их семантической близости к основной лексеме и друг к другу; в ряде случаев они объединяются в блоки близких друг другу лексем [цит. раб.: 435]. Главным средством определения степени семантической близости лексем друг к другу и, следовательно, средством их упорядочения в структуре словарной статьи слова являются толкования [там же].
Подход МСШ ориентирован только на отражение синхронического состояния лексической многозначности – на «инвентаризацию» текущего, сложившегося к моменту описания, набора значений слова [15: 331]. Вся лексикографическая программа МСШ нацелена на формирование таких толкований лексических значений слова, которые «должны быть полны (условие необходимости), неизбыточны (условие достаточности) и нетавтологичны» [цит. по 15: 337]. Тем не менее, сам Ю.Д. Апресян говорит о невозможности сделать толкования строгими дефинициями. Данное противоречие возникает потому, что поставленная научная цель не может быть достигнута посредством вербальных описаний лексических значений – «она парадоксальным образом достижима лишь за пределами языка, посредством использования чисто конгнитивных единиц: визуальный образ, казуальный признак, отношение интерпретации» [цит. раб.: 338]. Далее А.Д. Кошелев описывает теорию радиальной семантической - 40 - категории Дж Лакоффа, согласно которой, различаются центральная субкатегория (аналог основного значения) и порождаемые из неё нецентральные субкатегории. При этом Лакофф утверждает, что общих и исчерпывающих принципов, которые могли бы обеспечить вывод нецентральных случаев из центрального, не существует [цит. раб.: 332]. Для описания связей между центральной и периферийными субкатегориями требуются «теория мотивации» и «все виды когнитивных моделей… пропозициональные, метафорические, метонимические и образно-схематические» (цит. по [15: 332]).
И последний подход, выделяемый А.Д. Кошелевым, – это теория лексических концептов и когнитивных моделей (ЛККМ) В. Эванса, которая, по словам её автора, позволяет с помощью понятий «лексический концепт» и «когнитивная модель» легко объяснить порождение лексических значений [15: 333]. Лексический концепт ассоциируется со словом (с формой слова) и является «компонентом языкового знания, семантическим полюсом символической единицы…, который кодирует целый ряд различных типов схематического языкового содержания» (цит. по [15: 334]). Лексический концепт обеспечивает непосредственный доступ к различным когнитивным моделям [цит. раб.: 334]. Когнитивная модель – это комплекс мультимодальных знаний, полученных посредством чувственного восприятия, интероцептивного (внутрителесного) опыта, пропозициональной информации (языка, культурного обучения и пр.). В теории ЛККМ выделяются два вида когнитивных моделей: первичные (доступ к ним осуществляется напрямую через лексический концепт) и вторичные (их структуры формируются на основе первичных моделей, и доступ к ним от лексического концепта осуществляется опосредованно – через первичные модели) [цит. раб.: 334]. По словам Л.М. Зайнуллиной, «когнитивный подход полностью исключает автономность отдельных областей лингвистики» (цит. по [10: 174]). По её мнению, в основе когнитивного описания языковых единиц лежит четырёхмерное пространство: форма, семантика, синтактика и прагматика в проекции на знак образуют номинативное, сигнификативное, прагматическое и формальные измерения. Известно, что каждый из перечисленных аспектов наделён определённым смыслом: лексическим, грамматическим, контекстуальным [10: 174].
Обобщая изложенное выше, можно сделать вывод, что с развитием лингвистики и других смежных с ней наук актуальность проблемы лексической многозначности не уменьшается. В современных условиях у исследователя имеется больше возможностей для работы в данной области. Для наиболее полного описания многозначного слова невозможно ограничиться рамками лишь одного из приведённых выше подходов. Для комплексной портретизации полисемантичного слова необходимо рассмотреть его как в синхронии, так и в диахронии, а также провести анализ его значений с привлечением словарей различных видов, национального корпуса языка и корпусов текстов различных жанров, специально отобранных исследователем, которые позволят раскрыть малейшие оттенки значения исследуемого слова, а также нюансы его употребления.
Список литературы Основные подходы к проблеме лексической многозначности
- Апресян Ю.Д. Избранные труды, том I. Лексическая семантика: 2-е изд.. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. 472 c.
- Апресян Ю.Д. Исследования по семантике и лексикографии. T. I: Парадигматика. М.: Языки славянских культур, 2009. 568 c.
- Арбекова Т.И. Лексикология английского языка (Практический курс). М.: Высшая школа, 1977. 240 с.
- Википедия / URL: https://ru.wikipedia.org/ wiki/Полисемия (дата обращения: 30.08.2019)
- Галеева Т.И., Казиахмедова С.Х., Янова Е.А. Явление полисемии как феномен лингвистики // Вестник Удмуртского университета / История и филология. 2017. № 5. c.784-794
- Зализняк А.А. Русская семантика в типологической перспективе / А.А. Зализняк. М.: Языки славянской культуры, 2013. 635 с.
- Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. - 2-е изд., доп. М.: Большая рос. энцикл., 2002 / URL: http://tapemark.narod.ru/les/128d.html (дата обращения: 12.03.2019)
- Лукошус О.Г. К вопросу о соотношении многозначности и полисемии. Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2016. № 4 (106). C. 74-76.
- Ольховская А.И. Лексическая многозначность в общелингвистическом и лексикографическом рассмотрении: дис.... канд. филол. наук: 10.02.01 / Москва, 2013. 384 с.
- Печаткина О.В. Содержание и объем многозначного слова // Вестник КГУ. 2009. № 4 / URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ soderzhanie-i-obem-mnogoznachnogo-slova (дата обращения: 24.02.2019).
- Свинцов В.В. Пять подходов к лексической многозначности в отечественной лингвистической традиции // Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы: Междунар. науч. конф. (Казань, 4-6 октября 2004 г.): Труды и материалы: Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2004. C.87-88
- Смирницкий А.И. К вопросу о слове (проблема «тождества слова»). Труды Института языкознания АН СССР. Том IV. М., 1954. с. 3-49.
- Соколова М.А. Многозначность в английской политической терминологии (на примере консубстанционального термина power): дис.... канд. филол. наук: 10.02.04 / Москва, 2016. 176 с.
- Шмелёв Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 2008. 280 с.
- Язык и мысль: современная когнитивная лингвистика = Language and Thought: Сontemporary Cognitive Linguistics:ц сб. ст. М.: Языки славянской культуры, 2015. 857 с.