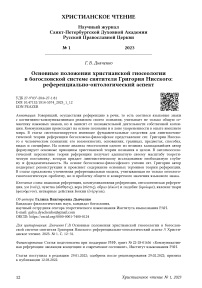Основные положения христианской гносеологии в богословской системе святителя Григория Нисского: референциально-онтологический аспект
Автор: Дьяченко Галина Викторовна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Богословие
Статья в выпуске: 1 (104), 2023 года.
Бесплатный доступ
Говорящий, осуществляя референцию в речи, то есть соотнося языковые знаки с когнитивно-коммуникативным режимом своего сознания, учитывает не только общую семантику языковых знаков, но и зависит от познавательной деятельности собственной когниции. Коммуникация происходит на основе познания и в лоне укорененности в опыте внешнего мира. В статье систематизируется имеющее фундаментальные следствия для лингвосемиотической теории референции богословско-философское представление свт. Григория Нисского о человеческом познании: его возможностях, основаниях, границах, предметах, способах, видах и специфике. На основе анализа гносеологии одного из великих каппадокийцев автор формулирует основные принципы христианской теории познания в целом. В онтогносеологической перспективе теория референции получает адекватную своему масштабу теоретическую постановку, которая придает лингвистическому исследованию необходимую глубину и фундаментальность. На основе богословско-философского учения свт. Григория автор подвергает реконструкции и проясняет содержание основных терминов теории референции. В статье предложена уточненная референциальная модель, учитывающая не только онтологогносеологическую проблему, но и проблему общего и конкретного значения языкового знака.
Языковая референция, коммуникативная референция, онтологическая референция, ум (νοῦς), чувства (αἴσθησις), вера (πίστις), образ (εἰκών) и подобие (ὁμοίωμα), явление твари (φαινόμενον), нетварные действия божии (ἐνέργειαι)
Короткий адрес: https://sciup.org/140297594
IDR: 140297594 | УДК: 27-9"03"-284+27-1:81 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_1_12
Текст научной статьи Основные положения христианской гносеологии в богословской системе святителя Григория Нисского: референциально-онтологический аспект
Постановка проблемы и актуальность исследования
Проблема референции, то есть соотнесения знаков с объектами и ситуациями действительности, непосредственно упирающаяся в теорию познания сущего, имеет, как это явно на примере богословско-философской системы свт. Григория Нисского, фундаментальные для семиотики, и в частности для лингвистики, следствия. Несмотря на то что объекты внешнего мира присутствуют в нас в виде индивидуальных мыслимых представлений, тем не менее они не возникают из ничего и не беспочвенны в своем содержании. Совершенно справедливо заметила отечественная исследовательница референциально-онтологических проблем языка Н. Д. Арутюнова: «В процессе формирования значений действительность „давит“ на язык, стремясь запечатлеть в нем свои черты» [Арутюнова, 1982, 11]. Кроме того, можно утверждать, что без онтологической проекции коммуникативное действие в принципе невозможно, то есть без познания действительности нет говорения как такового. Коммуникативная референция не может протекать без учета реальных обстоятельств речевого акта, без опоры на процесс и результаты когнитивной деятельности собеседников. Иными словами, актуальный режим сознания, к которому возводятся внешние знаки (в том числе вербальные) в конкретной коммуникативной референции, — это не замкнутая в вакууме собственной субъективности величина. Это функция от непрестанно производимой когниции самой действительности, от предшествующего и актуального опыта ее познания. Это — обусловленная коммуникативная реакция на мыслимые реальные обстоятельства семиотического акта. Иными словами, коммуникативная референция — это функция от познания, или от референции онтологической — включенности в осознание и категоризацию действительности. Таким образом, проблема референции становится философско-богословской онтогносеологической проблемой.
Степень изученности и цель исследования
Одна из наиболее масштабных, детализированных, а также лингвистически релевантных концепций познания сущего принадлежит выдающемуся христианскому мыслителю IV в. свт. Григорию Нисскому (331 — после 394). В его творениях, написанных непосредственно с вероучительной и экзегетической целью, тем не менее содержится большое количество фрагментов, посвященных онтогносеологической проблеме. «Этот величайший в отцах философ» (см.: [Епифанович, 1916]) задается вопросом о возможностях, основаниях, границах, предметах, способах и специфике познавательной деятельности человека в отношении различных родов бытия. Классические вопросы философской гносеологии и онтологии находят в творениях каппадокийского мыслителя свое панорамное христианское разрешение1. Цель данного исследования заключается в том, чтобы, во-первых, систематизировать представление Нисского святителя о человеческом познании сущего, что позволяет уяснить основные принципы христианской гносеологии в целом; а во-вторых, вывести некоторые базовые следствия из онтогносеологической концепции свт. Григория для лингвосе-миотики, в частности для референциальных ее аспектов.
Проблема референции, в современной версии возродившаяся в школе логического позитивизма (Б. Рассел, У. Куайн, Л. Витгенштейн и др.) и в лингвистической философии (П. Стросон, К. Доннелан, Д. Остин, Дж. Серл и др.), на самом деле имеет длительную историю. Основы референциальной теории были сформулированы в трудах древних античных и христианских мыслителей, и острота современных референциальных концепций повышает актуальность обращения к первоисточникам. С другой стороны, поскольку проблема референции связана со множеством традиционных философско-богословских вопросов: бытия, познания, истины, тождества и подобия, общего и индивидуального, знака и значения и др., постольку всякая теория референции опирается на явную или неявную философско-богословскую основу. Онтогносео-логическая система свт. Григория Нисского представляет интерес для современной теории референции прежде всего тем, что в единстве категорий разрабатывает аспекты сущего и познавательно-именующей активности человека.
Гносеология свт. Григория Нисского
Восходя к первоначалам, свт. Григорий указывает на то, что самой способностью к познавательной деятельности ум человека обладает в силу своего богоподо-бия. Устами сестры св. Макрины свт. Григорий свидетельствует, что «богоподобию души (той 0EOEi5o6g Tqg ^ихпд) свойственны силы созерцательные и рассудительные (τὸ θεωρητικόν τε καὶ διακριτικὸν)» ( Greg. Nyss. De anima et resurr. // ТСО, т. 40 (ч. 4), 266; PG 46:89). Как «Божество над всем назирает, все слышит, все испытует», так, умозаключает святитель, и образ Его — человек — имеет «разум (8iavoiav), способный делать разыскания и исследования о существах» ( Greg. Nyss . De hom. opif. 5 // ТСО, т. 37 (ч. 1), 90; PG 44:137). Способность к «исследованию сущего» в человеке обусловлена устроением его ума по образу Божию. Способность к познанию сущего — одна из фундаментальных пресуппозиций для всякой теории референции. Отнесение имени к предметной области невозможно в условиях незнания о ней.
Ум не только богоподобен, но и сущностно человекообразен. Ибо никакая тварь, как поясняет свт. Григорий, не может выйти за пределы собственной природы. «Посему все сущее в твари взирает на то, что сродно с ним по естеству: и нет существа между тварями, которое бы пребывало в бытии (ἐν τῷ εἶναι μένει), исшедши из себя самого. Нет ни огня в воде, ни в огне воды, ни суши в глубине, ни влажности в суше, ни в воздухе земляного, ни в земле также воздушного: напротив того каждое существо, оставаясь в собственных своих естественных пределах, дотоле и существует, пока пребывает внутри собственных своих пределов. Если же что станет вне самого себя, то оно будет и вне бытия (ἐκτὸς καὶ τοῦ εἶναι)» ( Greg. Nyss . In Eccl. Hom. 7 // ТСО, т. 38 (ч. 2), 330; PG 44:729; GNO 5:411.14–21). Утратив свою человекообразность, ум человека не будет умом человека. Человекообразность не означает замкнутости нашего ума на самого себя, оторванности его от бытия, а является только указанием на невозможность твари не быть самой собой. Чешская исследовательница наследия каппадокийского богослова Л. Карфикова так сформулировала эту его мысль: «Каждая вещь существует только до тех пор, пока остается в своих границах, а значит — в сфере бытия» [Карфикова, 2012, 115]. В отношении познания это означает, что человек не может помимо природных возможностей своего ума знать сущее и что сами эти природные возможности ума бытийны. Нисский святитель заключает: «...так и всякая тварь не может обширностию своего воззрения выйти из самой себя, но всегда в себе пребывает и, на что ни смотрит, видит себя, хотя и думает, будто бы видит нечто высшее себя, однако же не имеет по естеству и способности смотреть вне себя» ( Greg. Nyss . In Eccl. Hom. 7 // ТСО, т. 38 (ч. 2), 331; PG 44:729; GNO 5:412:6–10). Поэтому сущее для нас таково, каким его видит наш ум. Восприятие человеком сущего служит для формирования и наполнения референций, которые сущностно антропоцентричны и антропоморфичны (см. пример С. Крипке с термином «тепло» [Крипке, 1982, 369]).
Итак, для осуществления референции требуется, во-первых, чтобы предмет существовал (т.н. «принцип предметности»), а во-вторых, чтобы человек мог его познавать. Собственно референт формируется на этом этапе. Референт представляет собой не само по себе сущее, а сущее, познаваемое человеком. Поэтому тó, что в теории референции «принадлежит предметной области», является «элементом объективной реальности» и называется «референтом», в действительности зависит от гносеологических факторов, определяясь тем, что, в каком объеме, в каком наборе признаков и с какой оценкой извлекает из области сущего человек. Тем самым референт при опоре на сущее имеет мыслимое, концептуальное содержание, которое при этом непосредственно опирается на само сущее. Сущее, таким образом, есть то, что вне человека, а референты — это познавательные результаты присутствия человека в нем.
Гносеологическая проекция сущего, то есть область референтов, истинна и достоверна. Согласно свт. Григорию, ум человека сотворен Богом способным к истинному познанию, которое не навязывает бытию чуждых ему свойств2. Так, если свт. Григорий, следуя в этом, как верно заметил Н. К. Дратселла [Δρατσελλα, 2002, 31, 112], за ап. Павлом (Кол 1:16), разделяет сущее в зависимости от того, какой вид познания человек избирает для его восприятия, а именно: «Естество же существующего разделяется на две части: на постигаемое умом и чувствами (τε τὸ νοητὸν καὶ τὸ αἰσθητὸν)» ((Greg. Nyss. Contr. Eun. 12.2 (13) // ТСО, т.43 (ч. 6), 488; PG 45:1101; GNO 1:393.17-19); см. также (Greg. Nyss. In Cant. Cantic. 6 // ТСО, т. 39 (ч. 3), 149-151; PG 44:885-888; GNO 6:173.7-174:20)), — то для святителя данное разделение не только человекообразно, но и в полной мере бытийно. Сказать, кáк природа постигается, означает охарактеризовать и ее саму3. Тем самым «субъективность» ума человека заключается в «объективном» характере его деятельности4, ибо человекообразность нашего ума заключается в его богоподобии. Учение свт. Григория Нисского, таким образом, позволяет обосновать и детализировать то утверждение, что семиотическая референция не замыкается на субъективных представлениях говорящего, а в силу возможности истинного ее познания человеком подлинно «прокладывает путь к действительности» [Арутюнова, 1982, 11].
Собственно познание свт. Григорий Нисский определяет как «некое отношение» души человека к познаваемому: «...ведение и неведение показывают, что душа имеет некое отношение к чему-то (τὸ πρός τί πως ἔχειν)» ( Greg. Nyss. De infant. abrept. // ТСО, т. 40 (ч. 4), 341–342; PG 46:176; GNO 3.2:80.11–14)5. Ведение, как «отношение к» познаваемому, есть действие нашего ума, но не само сущее. Познание имеет смысловую, интеллектуальную, умозрительную природу, нетождественную естеству познаваемого. Кроме того, познание — это «действие ума об относящемся к чему-либо» (περί τι τῆς διανοίας ἐνέργεια), но не о «сущности чего-либо»: «Но ничто умопредставляемое и сказуемое о чем-либо не выражает сущности (οὐδὲν δὲ τῶν πρός τι νοουμένων τε καὶ λεγομένων οὐσίαν παρίστησιν). Ибо иное понятие относящегося к чему-либо (ὁ τοῦ πρός τι), и иное сущности чего-либо (ὁ τῆς οὐσίας λόγος). Посему, если и ведение есть не сущность, но действие ума об относящемся к чему-либо 6, то тем паче неведение должно признать далеко отстоящим от того, что в сущности; а что не в сущности, того вовсе нет. Посему напрасно было бы о том, чего нет, доведываться, откуда оно» ( Greg. Nyss. De infant. abrept. // ТСО, т. 40 (ч. 4), 341–342; PG 46:176; GNO 3.2:80.14–20). Таким образом, несмотря на свою нетождественность сущему, «действие ума» как действие «об относящемся» к сущему истинно отображает его. И если неведение «далеко отстоит от того, что в сущности», то, значит, ведение — через приближение к «относящемуся к ней» подходит «близко» к сущности. Эта подразумеваемая свт. Григорием «близость» мысли «к тому, что в сущности» означает истинность и достоверность представления человека о познаваемом.
Онтолого-гносеологическое прояснение позволяет четко очертить сферу компетенции и спектр описательных возможностей референциальной теории. В частности, учение свт. Григория показывает, что процедура придания значений семиотическим знакам путем соотнесения их с представлениями о действительности может отражать только доступные познанию человека структуры бытия. Иными словами, референция не простирается далее сферы явлений, и значениями имен не являются сущности референтов, а только их свойства и действия. Однако этот гносеологический постулат далеко не очевиден и не тривиален, поскольку, согласно распространенному представлению в современной лингвистической литературе, «референтом именного выражения, если его главное слово — имя с предметным (в самом широком понимании) значением (шкаф, студенты, вода, душа и т. п.), является материальная или идеальная сущность (вещество, объект или множество объектов)» [Кобозева, 2000, 227]. Однако ясно, что язык не способен выразить то, чего не может постичь мысль. Тем не менее нужна онтолого-гносеологическая разработка, чтобы скорректировать лингвистические положения. Кроме того, как уже отмечалось, референтом не может являться сам объект, а только его гносеологическая проекция, но и она есть проекция его явления, но не сущности.
Нисский архипастырь различает два вида бытия, предлежащих познанию и референциальному обозначению человека, — бытие тварное и нетварное. Тварь познается умом через чувства, а превышающий их Бог открывается уму через веру, то есть через собственно богоподобные силы ума человека. Само двойственное устройство человека, «смешение земного и Божественного», согласно святителю, и было дано человеку, «чтобы ради того и другого иметь ему наслаждение, какое сродно и свойственно тому и другому, наслаждаясь и Богом по естеству Божественному (διὰ τῆς θειοτέρας φύσεως), и земными благами по однородному с ними чувству (διὰ τῆς ὁμογενοῦς αἰσθήσεως)» (( Greg. Nyss. De hom. opif. 2 // ТСО, т. 37 (ч. 1), 85–86; PG 44:133). См. также: ( Greg. Nyss. Or. Catech. 5 // ТСО, т. 40 (ч. 4), 15; PG 45:21; GNO 3.4:17.11– 16)). Как интерпретирует эту мысль А. Вейсвурм, «первая предпосылка познания, как на чувственном, так и на умопостигаемом (intellectual) уровнях, это известная пропорциональность между познавательными способностями и соответствующими им объектами» [Weiswurm, 1952, 67]. Как видим, антропология у свт. Григория Нисского естественно определяет гносеологию.
Чувственное познание твари и созерцание Бога верой потому адекватны постигаемому каждым из них роду бытия, что подобны самой природе постигаемого. Так, св. Григорий поясняет: «...не произойдет приобщения (ἡ μετουσία) между противоположными, если желающее приобщения не будет некоторым образом сродно (συγγενὲς) с тем, чего приобщается. Ибо как глаз услаждается светом, потому что в себе самом имеет естественный свет для восприятия однородного с ним (πρὸς τὴν τοῦ ὁμογενοῦς ἀντίληψιν), и ни перст, ни другой какой из членов тела не производит зрения, потому что ни в каком другом члене не заготовлено природой света, так, чтобы соделаться причастником Божиим (Ёп1 т^д той 9еой цетоиотад), совершенно необходимо в естестве приобщающегося быть чему-либо сродному (συγγενὲς) с тем, чего оно приобщается (прод то pETEyopevov). Посему Писание говорит, что человек сотворен по образу Божию, чтобы, как думаю, подобным взирать на подобное (τῷ ὁμοίῳ βλέποι τὸ ὅμοιον)» (Greg. Nyss. De infant. abrept. // ТСО, т. 40 (ч. 4), 341; PG 46:173-176; GNO 3.2:79.16-24)7. Тем самым основной гносеологический принцип свт. Григория Нисского — это познание подобного подобным. В исторической перспективе, возможно, в творениях Нисского богослова и «происходит христианизация античного принципа познания „подобным подобного'1» [Фокин, 2006, 495] 8. Однако с богословской точки зрения следует отметить, что учение свт. Григория о познании подобного подобным имеет богооткровенный9 (в частности, в повествовании о сотворении человека), а не внешний вероучению источник; а во-вторых, оно логически раскрывается св. отцом изначально в антропологии, из которой уже затем выводятся собственно гносеологические следствия. Отметим также очень характерный для «возвышенно-умозрительного богословия» [Саврей, 2012, 197] свт. Григория логический ход: из доктрины об образе Божием в человеке он в первую очередь выводит не нравственно-аскетические, а эпистемологические следствия.
Итак, чувственное познание «подобно» и «сродно» тварным явлениям. Это подобие заключается в том, что видимая тварь занимает определенный временной и пространственный «промежуток» (SlaaтnRa) и наше мышление тоже имеет ограничивающий «диастематический» характер (t^v 8iaaTnpaTiKqv evvoiav) ( Greg. Nyss. In Eccl. Hom. 7 // ТСО, т. 38 (ч. 2), 331; PG 44:729; GNO 5:412.10). Поэтому «подпадающие нашему пониманию предметы такого рода, что непременно или умопредставляются (θεωρεῖσται) в некотором протяжении расстояния (ἐν διαστηματικῇ τινι παρατάσει), или дают мысль (evvoiav) о местном помещении (тоткои xwpqRaTOg), в котором представляются (καταλαμβάνεται) каждый порознь, или для нашего воззрения (ἐπόψεως) являются в ограничении началом и концом (Tqv apxnv Kal то тЁХog), одинаково ограничиваемыми с той и другой стороны небытием (ибо все, имеющее начало и конец бытия, начинается из не сущего и оканчивается несуществованием), или наконец мы понимаем являющееся нам (кaтaХaRвavoREv то фalv6REvov) через сочетание телесных качеств, соединяя с ним уничтожение и страдательность и перемену и изменение и тому подобное» ( Greg. Nyss. Contr. Eun. 12.2 (13) // ТСО, т. 43 (ч. 6), 491; PG 45:1104; GNO 1:395.3–14). Временно-пространственная диастема, как обобщает учение святителя Л. Карфикова, — «это основное свойство всякой сотворенной вещи и даже творения в целом. Все, что мышление уловляет в виде понятий, отображается в нем всегда как некая диастема, промежуток с положенными пределами. То, что неограниченно, „бесконечно“ или „безгранично“, мыслить нельзя... Неограниченное нельзя помыслить, как невозможно ходить по бездне» [Карфикова, 2012, 116, 120]. Если бы человек захотел избавиться от диастематичности своего мышления, у него это не получилось бы: «Так, например, при обозрении существ усиливается отрешиться от представления пространства (τὴν διαστηματικὴν ἔννοιαν), но не отрешается. Ибо со всяким вновь обретаемым представлением (ты voHRaтl) непременно вместе усматривает и пространство (διάστημα), объемлемое существенностию представляемого умом (τῇ ὑποστάσει τοῦ νοουμένου)» ( Greg. Nyss. In Eccl. Hom. 7 // ТСО, т. 38 (ч. 2), 331; PG 44:729; GNO 5:412.10–14). Сопряженное со временем и пространством чувственное познание человека подобно той же диастематической ограниченности творения.
Чувственное познание твари свт. Григорий характеризует как движение мысли с целью схватить естество познаваемого. При описании деятельности мысли святитель использует соответствующий данной метафоре-олицетворению словарь. Так, наша мысль « следит за естеством искомого (λογισμὸς ἀνιχνεῦσαι τοῦ ζητουμένου τὴν φύσιν)» ( Greg. Nyss. De beat. 3 // ТСО, т. 38 (ч. 2), 394; PG 44:1225; GNO 7.2:104.12-13). При этом она «двигается» по естественным себе «путям постижения»: «Как может быть обретено (EvpE0Ein)», вопрошает святой, естество Божие, которое, «обретаясь всегда вне всякого пути к постижению (naang кaтaХnптlкqg Ёф68ои), всячески избегает уловления (ЁкфEVYEl тqv XaeHv) ищущих ? Посему невеста говорит: взысках Его изобретательными силами души (Sia тыv ЁpEuvnтlкыv SuvaREtov), в умозаключениях и понятиях (Ёv AoyioRoig ка1 vo^Raor); и непременно оказывался вне их, убегая от приближения мысли (тдv npoo'EYYio'Rov т^д Siavolag SiaSiSpaoKtov)» (( Greg. Nyss. In Cant. Cantic. 12 // ТСО, т. 39 (ч. 3), 309; PG 44:1028; GNO 6:357.13–18). См. также: ( Greg. Nyss. De beat. 6 // ТСО, т. 38 (ч. 2), 440; PG 44:1268; GNO 7.2:140.15–18)). Естества тварного мысль «достигает» и «схватывает» его. Под «естеством» при этом свт. Григорий закономерно понимает действия твари, ее свойства, отношения, качества и проявления, но не ее сущность (ouola): «Видя это, мы на основании того, что видим, не сомневаемся в бытии явлений (Eivai RЁv та фalv6REva); но от разумения понятия сущност и (oualag SЁ X6yov)10 каждого из сих предметов мы столько же далеки, как если бы и вовсе не узнали явлений при помощи ощущения (eI RnSЁ тqv apxnv тц aioQqoEi то фavЁv ЁYVЫploaREv)» ( Greg. Nyss. Contr. Eun. 12.2 (13) // ТСО, т. 43 (ч. 6), 294; PG 45:933; GNO 1:247.27-248.1).
Таким образом, явление (φαινόμενον) твари подлежит чувственному постижению, а сущность (οὐσία) твари лежит вне сферы чувственного познания человека.
Что касается доступного познанию «естества» Божия, под которым святитель подразумевает нетварные действия Божиии11, то мысль не «достигает» и не «схватывает» их, поскольку Божие «естество» имеет неограниченный характер. Как выражается М. Лэйрд, «мысль, которая по природе ищет схватить, ищет Бога, Который не может быть схвачен» [Laird, 2004, 23]. Когда диастематическое мышление обращается к Богу, то тут оно «выступает уже из естества (q ёкваса q§n rqv фvo■lv)» — своего и познаваемого им «обычно (τῶν συνηθῶν)» ( Greg. Nyss. In Cant. Cantic. 12 // ТСО, т. 39 (ч. 3), 308; PG 44:1028; GNO 6:357.6–7). Словно альпинист над бездной, который не находит «ни опоры ноге, ни поддержки руке», мысль, «когда взыскует естества предвечного и непротяженного (ἀδιαστάτου φύσεως); не находя, за что взяться (περιδράξηται), ни места, ни времени, ни меры, ни чего-либо другого сему подобного, к чему доступ возможен для нашего разумения (о S^Erai rqg Siavoiag qpov rqv enieaciv), но повсюду скользя при соприкосновении с неудержимым (τῶν ἀλήπτων), приходит она в кружение и смущение (ἰλιγγιᾷ τε καὶ ἀμηχανεῖ) и снова обращается к сродному (πρὸς τὸ συγγενὲς), возлюбив такую только меру познания о Превысшем, при какой можно убедиться, что Оно есть нечто иное с естеством вещей познаваемых (ὅτι ἄλλο τι παρὰ rqv rov yivo^ko^evov <.pucrv eoti)» ( Greg. Nyss. In Eccl. Hom. 7 // ТСО, т. 38 (ч. 2), 332; PG 44:729-732; GNO 5:414.1-9). Божество не ограничено ни временем, ни пространством и ничем вообще, то есть имеет адиастематический характер.
В силу данных условий Бог открывается уму не посредством познания чувствами, а посредством созерцания верой12. В этом отношении, как отметил владыка Василий (Кривошеин), чувственное познание (αἴσθησις, γνῶσις, κατανόησις, λογισμοί, κατάληψις и под.) даже противопоставляется святителем созерцающей вере (πίστις, θεωρία, εἴδησις, ἀναβλέπειν, ἰδεῖν, ὁρᾶν и др.) [Василий Кривошеин, 2011, 615]. Свт. Григорий следующим образом представляет соотношение двух познавательных сил ума человека: «Таким образом закон веры становится законом для последующей жизни, историею Авраама научая приступающих к Богу (τοὺς τῷ θεῷ προσιόντας), что нельзя приблизиться к Богу (προσεγγίσαι θεῷ) иначе, как если не будет посредствовать вера и если исследующий ум она не приведет собою в соприкосновение с непостижимым естеством (μὴ πίστεως μεσιτευούσης καὶ συναπτούσης δι’ ἑαυτῆς τὸν ἐπιζητοῦντα νοῦν πρὸς τὴν ἀκατάληπτον φύσιν). Ибо оставив любопытство знания (t^v ёк rqg YV^ffEtog noXunpaY^oauvnv), верова, сказано, Авраам Богу, и вменися ему в правду (Быт 15:6); не писано же бысть за того еди-наго точию, говорит апостол, но и за ны (Рим 4:23–24), что не знание Бог вменяет людям в праведность, но веру (ὅτι τὴν πίστιν, οὐχὶ τὴν γνῶσιν). Ибо знание имеет как будто какую торгашескую склонность, вступая в связь с одним познаваемым; а вера христианская не так. Она служит осуществлением не одного познаваемого, но и ожидаемого (Евр 11:1); а то, чем уже обладают, не бывает предметом надежды. Ибо если кто имеет что-либо, говорит апостол, что и уповает (Рим 8:29)? Недающееся нашему разумению (τὸ δὲ διαφεῦγον τὴν κατανόησιν) вера делает нашим, собственною твердостию ручаясь за неявившееся еще, ибо о верующем так говорит апостол, что невидимаго, яко видя терпяше (Евр 11:27). Итак, суетен тот, кто говорит, что знанием, напрасно надмевающим, возможно познать Божескую сущность (ἐπιγνῶναι τὴν θείαν οὐσίαν)» (Greg. Nyss. Contr. Eun. 12.2 (13) // ТСО, т. 43 (ч. 6), 302–303; PG 45:941; GNO 1:253.23–254.13). Таким образом, если знание «обладает» явленным, то вера «ручается» и за неявленное (τὸ μὴ φαινόμενον). Этим вера «служит осуществлением», «делает нашим» непознаваемое, то есть способна привести ум в «соприкосновение» (auvanroucng) с непостижимым естеством Божиим: «...так как уразумение высочайшего естества недоступно мысли человеческой, то посему место мышления заступает вера, досязающая до того, что превышает ум и разумение (ἡ πίστις ἀντὶ τῶν λογισμῶν γίνεται, τοῖς ὑπὲρ λόγον τε καὶ κατάληψιν ἑαυτὴν ἐπεκτείνουσα)» (Greg. Nyss. De vita Greg. Thaum. // ТСО, т. 45 (ч. 8), 136; PG 46:901; GNO 10.1:10.5–7). Отметим в данном фрагменте, что ум не как «слово» (ὑπὲρ λόγον), а как «вера» (πίστις) «досязает» до Бога. Очевидно, что свт. Григорий связывает слово (λόγος) с теми силами ума человека, которые направлены на познание твари чувствами, но не с теми, которые направлены на созерцание Бога верой13. В отношении Бога «единственное возможное познание свт. Григорий называет „обретением верой“ (τῇ πίστει εὗρον) или же „объятиями веры“ (q Tqg п^^TEыg Хавп), которое предполагает, что мы избавляемся от всех понятийных представлений» [Карфикова, 2012, 265]14. В этом «техническом смысле» М. Лэйрд усматривает в учении Нисского святителя принципиальную функцию веры как «моста над пропастью между intellectus (умом) и Богом» [Laird, 2004, 131, 153]. Если «захват» чувствами твари есть познание, то «захват» Бога верой — это единение (avaKpaQqvai): «Но поелику в обетовании видеть (той 18eiv) Бога заключается двоякий смысл, один познать (τοῦ γνῶναι) естество все превышающее, и другой — посредством чистоты сердца войти с Ним в единение (той avaKpaQqvai npog auTov), то первый род разумения (т^д KaTavoq^Eog), по слову святых, признается невозможным, другой же естеству человеческому в настоящем учении обещает Господь, сказав: „Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят (ὄψονται) (Мф 5:8)“» (Greg. Nyss. De beat. 6 // ТСО, т. 38 (ч. 2), c. 447; PG 44:1273; GNO 7.2:145.20– 146.2). Зрение Бога чувствами невозможно, а зрение верой единит с Ним.
Чувственное познание по причине общей природы людей и своей «легкости» одинаково у всех: «Но знание (ἡ γνῶσις) явлений чувственных (τῶν μὲν κατ’ αἴσθησιν φαινομένων), по причине легкости уразумения (διὰ τὸ πρόχειρον τῆς κατανοήσεως), одинаково у всех, так как свидетельство чувств не дает никакого повода к недоумению касательно суждения о предметах; отличия цвета и прочих качеств, о которых судим посредством зрения и слуха, или обоняния, или при помощи чувства осязания, или вкуса, все мы, имея то же общее естество, согласно познаем и именуем (ὁμοφώνως πάντες οἱ τῆς αὐτῆς κοινωνοῦντες φύσεως γινώσκομέν τε καὶ ὀνομάζομεν), равно как и прочие, кажущиеся наиболее доступными уразумению предметы, встречающиеся в жизни и относящиеся к жизни общественной и нравственной» ( Greg. Nyss. Contr. Eun. 12.2 (13) // ТСО, т. 43 (ч. 6), 489; PG 45:1101–1104; GNO 1:393.19–29). Отметим, что в отношении познания чувствами, «не дающего повода к недоумению касательно суждения о предметах», свт. Григорий даже не ставит проблемы истины. Истина и ложь для святого отца являются категориями прежде всего богословскими и онтологическими (см.: [Young, 2001, 67, 68]). В антропологической же перспективе они выступают характеристиками не чувственного познания как такового, а духовного состояния ума человека в целом (добродетельного или страстного).
Если чувственное познание одинаково у всех людей, то, напротив, в созерцании нетварного естества ум каждого двигается индивидуально и имеет дело только с «догадками»: «В созерцании же умопостигаемого естества (ἐν δὲ τῇ θεωρίᾳ τῆς νοερᾶς фйсЕыд), поелику оно превышает чувственное уразумение, разум по догадкам стремится уловить то, что убегает от чувств (στοχαστικῶς τῆς διανοίας ἐπορεγομένης τῶν ЁкфEUY6vтtov Tqv aiaBn^iv); каждый иначе идет к искомому и соответственно рождающемуся у каждого разумению о предмете, сколько то возможно, выражает мысль» ( Greg. Nyss. Contr. Eun. 12.2 (13) // ТСО, т. 43 (ч. 6), 489; PG 45:1104; GNO 1:393.29-394.5). Понятиям о твари на основе познания чувствами свойственны общность, легкость и ясность, тогда как понятиям о Боге на основе созерцания верой — индивидуальность, усилие и предположительность.
Понятия о Боге свт. Григорий поэтому квалифицирует как загадочные «подобия» (opoiopa), а не точные «образы» (Ei§og) искомого, «ибо невозможно в точности (δι’ ἀκριβείας) изобразить (παραστῆσαι) превысшее понятия (ὑπὲρ ἔννοιαν) благо» (Greg. Nyss. In Cant. Cantic. 3 // ТСО, т. 39 (ч. 3), 75; PG 44:820; GNO 6:85.16–19). «Подобие» святитель определяет как не прямое, а отраженное «в зеркале», то есть опосредованное, представление о Боге: «...естество Божие превышает всякое постигающее разумение (καταληπτικῆς διανοίας), понятие же (τὸ δὲ νόημα), какое о Нем составляется (eyyivopevov) в нас, есть подобие (opoiopa) искомого; потому что показывает не тот самый образ (αὐτὸ δείκνυσιν ἐκείνου τὸ εἶδος), „егоже никтоже видел есть, ниже видети может" (1 Тим 6:16), но как в зеркале и в загадочных чертах оттеняется некоторое представление искомого (δι’ ἐσόπτρου καὶ δι’ αἰνίγματος ἔμφασίν τινα σκιαγραφεῖ τοῦ ζητουμένου), составляемое в душах по каким-то догадкам (ἔκ τινος εἰκασμοῦ)» (Greg. Nyss. In Cant. Cantic. 3 // ТСО, т. 39 (ч. 3), 76; PG 44:820–821; GNO 6:86.13–18). Тогда как понятие о соестественном мышлению тварном предмете способно «показывать тот самый образ» (εἶδος), давать его «точное познание (εἰς ἀκριβῆ κατανόησιν)» (Greg. Nyss. Contr. Eun. 12.2 (13) // ТСО, т. 43 (ч. 6), 291; PG 45:932; GNO 1:245.20). Как видим, «образ» и «подобие» противопоставляются свт. Григорием как прямое и опосредованное, точное и предположительное, определенное и гадательное знание о тварном и нетварном соответственно. Чувственные явления твари в представлениях человеческого ума (διάνοια) получают точные «образы» себя, а нетварный Бог — приблизительные «подобия».
Итак, в гносеологическом преломлении категории образа (εἶδος) и подобия (ὁμοίωμα) у свт. Григория означают нетождественность мысли и познаваемого по естеству, но тождественность их по свойствам, то есть способность мысли являть сущее. Однако категория образа указывает на то, что тварная мысль человека способна «схватывать» тварное же естество познаваемого. А категория подобия указывает на то, что тварная мысль человека передает не сами «точные» свойства нетварного естества Божия, а указывает на них посредством тварных аналогий. Это различение в гносеологической перспективе образа (εἶδος) и подобия (ὁμοίωμα), в частности, имеет решающее значение для определения свт. Григорием Нисским специфики имен Божиих.
Наконец, свт. Григорий признает для ума человека определенную «последовательность постижения». Познание умом твари посредством чувств предваряет созерцание умом Бога посредством веры: «^признающий уразумение существующего доступным (ἐφικτὴν) довел к тому свой рассудок (τὴν διάνοιαν), конечно, идя некоторым путем последовательности в познании существующих (предметов) и изощрив ум (τὴν διάνοιαν) через познавание того, что удобопонятно и маловажно (εὐλήπτοις τε καὶ μικροτέροις), приложил затем свою постигающую силу воображения (τὴν καταληπτικὴν φαντασίαν) и к тому, что выше всякого уразумения (τοῖς ἐπέκεινα πάσης ἐννοίας)» ( Greg. Nyss. Contr. Eun. 10 // ТСО, т. 43 (ч. 6), 170–171; PG 45:828; GNO 2:238.14–19). Как деятельность ума не существует без деятельности чувств, так и созерцанию Бога предшествует чувственное познание твари. Сами чувства оказываются проводниками к невидимому: «...самою деятельностию нашего чувства (δι’ αὐτῆς τῆς κατὰ τὴν αἴσθησιν ἡμῶν ἐνεργείας) путеводимся к уразумению того, что на деле и по понятию выше чувства (εἰς τὴν τοῦ ὑπὲρ αἴσθησιν πράγματος ка1 voqpaTog evvoiav), и глаз делается для нас истолкователем (eppnvEug) всемогущей премудрости, и созерцаемой (τῆς ἐνθεωρουμένης) во вселенной и указующей собою Того, Кто премудро в руке Своей содержит вселенную» ( Greg. Nyss. De anima et resurr. // ТСО, т. 40 (ч. 4), 212; PG 46:28). В этом отношении А. Вейсвурм верно замечает, что «он (свт. Григорий. — Г. Д. ) видел ясно, что данные чувств, и только они, закладывают основание человеческого познания и что разум объективно зависим от деятельности способностей чувств. Чувственный объект — это первое в нашем восприятии реальности. Он ведет разум вперед и указывает путь к познанию того, что умопостигаемо. Чувственное познание — это первый шаг и необходимое условие всякого рода познания, будь то интеллектуальное или мистическое познание. Ничто не может быть познано, если прежде не станет известно чувствам. И познание души, и познание Бога, и всего сущего, что может быть познано, приходит к человеку путем чувств» [Weiswurm, 1952, 84–85]. Как заключает о. Владимир Шмалий, у свт. Григория чувства не «порабощают» ум, а «освобождают его» [Шмалий, 2001, 73]. Само наличие видимой твари и чувственного естества в человеке, по святителю, имеет подчиненное Богосозерцающей деятельности ума значение (см.: ( Greg. Nyss. In Eccl 1 // ТСО, т. 38 (ч. 2), 211; PG 44:624; GNO 5:284.18–285.5)).
Этот последовательный путь от познания твари чувствами к созерцанию Бога верой, как толкует опыт Моисея свт. Григорий, состоит в том, чтобы посредством внимательного вникновения в видимое углубляться умом «во внутреннее (πρὸς τὸ ἐνδότερον)», пока ум не достигнет пределов познания, то есть пока не погрузится во «мрак»: «Ум же, простираясь далее и посредством всегда большего и совершеннейшего внимания достигая попечения о постижении сущего15, чем паче приближается к созерцанию (τῇ θεωρίᾳ), тем более усматривает несозерцаемость Божественного естества (τὸ τῆς θείας φύσεως ἀθεώρητον). Ибо, оставив все видимое, не только, что восприемлет чувство, но и что видит, кажется, разум (ἡ διάνοια), непрестанно идет к более внутреннему (πρὸς τὸ ἐνδότερον), пока пытливостью разума не проникнет в незримое и непостижимое и там не увидит Бога (ἕως ἂν διαδύῃ τῇ πολυπραγμοσύνῃ τῆς διανοίας πρὸς τὸ ἀθέατόν τε καὶ ἀκατάληπτον κἀκεῖ τὸν Θεὸν ἴδῃ). Ибо в этом истинное познание (ἡ ἀληθής ἐστιν εἴδησις) искомого; в том и познание наше, что не знаем (ἐν τούτῳ τὸ ἰδεῖν ἐν τῷ μὴ ἰδεῖν), потому что искомое выше всякого познания (εἰδήσεως), как бы некиим мраком (γνόφῳ), объято отвсюду непо-стижимостию (τῇ ἀκαταληψίᾳ)» (Greg. Nyss. De vita Moys. // ТСО, т. 37 (ч. 1), 315–316; PG 44:376–377; GNO 7.1:86.20–87.1–9)16. То есть когда ум приближается посредством познания чувствами к созерцанию Бога, он, с одной стороны, познает Его непознаваемость («погружается во мрак»), а с другой — начинает «видеть Бога» верой («проникает в незримое и непостижимое»)17. Следовательно, предшествующее Бого-созерцанию чувственное познание преодолевается и превышается им. Посредством образа «мрака» (γνόφος) свт. Григорий выражает мысль об оставлении всего твар-ного — не только чувственного и умопостигаемого, но и самого себя в смирении. Только после познавательного «мрака» начинается Богосозерцание верой.
Бог, соответственно двоякому образу Своего явления человеку, созерцается им верой либо сокровенно, либо в нетварном свете18. В обычном порядке видение света
Следствия для лингвистической теории референции
Таким образом, релевантная для построения лингвистической теории референции гносеология свт. Григория Нисского включает в себя следующие основные положения, синтез, принципы систематизации и рубрикация которых оформились в результате проведенного исследования.
Таков общий абрис христианской гносеологии также в целом, сделанный на основе богословской системы свт. Григория Нисского. Следует отметить, что за границами рассмотрения остались требующие отдельного обсуждения представления каппадокийского мыслителя об истине как созерцании сущего в единстве видимого явления твари и невидимого действия Божия; о Троичном характере созерцания нетварных действий Божиих; об определяющей роли Христа для богосозерцания. Что касается последующей святоотеческой традиции разработки гносеологии, то идеи Нисского святителя получают более подробное системное развитие в богословии прп. Максима Исповедника, свт. Григория Паламы и свт. Феофана Затворника. Богословский синтез этих свв. отцов показывает, что хотя свт. Григорий Нисский не дал последовательной суммы христианской гносеологии, но в его творениях находятся все необходимые элементы для ее построения.
Кроме того, систематизация и анализ онтолого-гносеологической концепции свт. Григория Нисского имеет важные для лингвистической теории референции следствия. В данной перспективе теория референции прежде всего получает адекватную своему масштабу богословско-философскую теоретическую постановку, которая придает лингвистическому исследованию необходимую глубину и фундаментальность. При этом представленный онтогносеологический базис позволяет подвергнуть реконструкции и прояснить содержание основных терминов референциальной теории. Если основная проблема референции — это проблема «отнесения языковых выражений к внеязыковым объектам (денотатам, номинатам, десигнатам, референтам) и, шире, соединения мысли и реальности посредством языка» [Арутюнова, 1982, 5], то чтó же именно соединяет референция и как?
-
1. Референция, как уже было отмечено, опирается на предпосылку существования объекта. Объект в качестве референта, в свою очередь, формируется в результате его познания и категоризации человеком. Референт, таким образом, это сам объект реальности, но воспринимаемый человеком.
-
2. Процедура отнесения языкового выражения к объекту, избранному в качестве референта, представляет собой своего рода «инструкцию» адресату по отысканию
референта, прилагаемую к значению языкового выражения [Арутюнова, 1982, 22]. Языковое выражение, иными словами, не может напрямую, минуя концептуальное опосредование сознанием говорящего, относиться к референту, как и быть непосредственным его субститутом тоже. Процедура референции, в результате которой имя начинает «замещать», «относиться» к референту, «указывать» на него, — это мыслимая интенциональная операция, задаваемая для адресата говорящим. Таким образом, связь гносеологической проекции объекта и знака имеет также мыслимый характер.
-
3. После онтогносеологического уточнения «соединение мысли и реальности посредством языка», несколько утрируя, но тем не менее подчеркивая главное, можно кратко описать как соединение мысли (значения) с мыслью (референтом) посредством мысли (акта референции) . При этом на полюсах значения и референта находятся материальные объекты языкового знака и объекта реальности, сами по себе референции не производящие, но обеспечивающие ее. С учитываемой поправкой о двустороннем статусе полюсов данной референциальной модели вполне допустимо метонимически говорить, что в акте референции языковой знак соединяется с внеязыковым объектом реальности в области мысли . При этом, однако, правильно понимать внутренние — сугубо ментальные — механизмы их соединения во избежание лингвофилософских аберраций необходимо.
-
4. Значение также является весьма проблематизированным членом данной референциальной модели. Во-первых, поскольку акт референции происходит в области мысли, то есть в сознании говорящего, то подлинный источник референции — это человек, а не предмет-референт и не общая семантика языкового знака. Примат говорящего в акте референции — следствие ее мыслимого статуса. Во-вторых, значение представляет собой суммарный эффект в сознании говорящего и от общеязыковых семантических конвенций, и от конкретных дейктико-коммуникативных параметров речевого акта23. Отсюда ясно, что референциальные теории, односторонне утверждающие, что «все механизмы референции принадлежат языку»24 или что они исключительно коммуникативны, упрощают проблему. И языковые конвенции, и дейксис участвуют в осуществлении референции, будучи фактами индивидуальной когни-ции. «Языковая референция», которая присуща неактуализованному знаку, исчезает с актуализацией его в речи. Именно в сознании говорящего снимается противоречие общего и конкретного, семантического и коммуникативного, языка и речи. В конкретной референции говорящий учитывает конвенционализированную семантику знака, но посредством когнитивных механизмов омонимии, синонимии и транспозиции (см.: [Карцевский, 1965]) преобразует ее в «референцию коммуникативную». В ситуации, когда говорящий обозначает новые референты прежними знаками: «один знак — разные смыслы», тогда на основе ассоциативных процессов работают когнитивные механизмы омонимии. В ситуации, когда референт тот же самый, но получает множество логических экспликаций, истолкований и различений: «один смысл — разные знаки», тогда работают когнитивные механизмы синонимии. Общее значение знака всякий раз при этом употребляется переносно, благодаря
чему он всегда покрывает относительно новую совокупность представлений, но остается тождественным самому себе, несмотря на постоянное транспонирование его значения.
Таким образом, в теории референции сходятся две серьезные богословско-философские проблемы: проблема онтолого-гносеологическая и проблема общего / конкретного значения языкового знака. Поэтому чтобы построить полную и непротиворечивую теорию референции и объяснить, «как значимые единицы языка прилагаются к миру» и благодаря чему они понятным для адресата образом идентифицируют предметы [Арутюнова, 1982, 11], необходимо иметь четкое представление, во-первых, о том, чтó есть и кáк, в каких границах и в каком объеме, какими средствами и при каких условиях оно познается, а во-вторых, о том, как индивидуальное значение выражается общим знаком.
В целом, необходимо подчеркнуть тот результат исследования, что труды представителей Каппадокийской школы (свт. Григория Нисского, свт. Василия Великого, свт. Григория Богослова и др.), разрабатывающих христианскую онтологию и гносеологию, высококомплементарны с достижениями современной лингвосемиотической науки и плодотворны для уточнения и развития ряда ее положений.
Список литературы Основные положения христианской гносеологии в богословской системе святителя Григория Нисского: референциально-онтологический аспект
- Greg. Nyss. In Cant. Cantic. — Григорий Нисский, свт. Точное изъяснение Песни песней Соломона (In Cantica Canticorum) // Творения святого Григория Нисского: В 8 ч. (Т. 37-45). М.: Типография В. Готье, 1861-1872. («Творения святых отцов Церкви»). = ТСО. Т. 39. 1862. Ч. 3. С. 1-408; Migne J.-P. Patrologiœ Cursus Completus. Series Grœcœ. Vols. 44-46. Paris, 18571866. = PG 44, 756-1120; Gregorii Nysseni Opera / Ed. by W. Jaeger and H. Langerbeck. 10 Vols. Leiden: E.J. Brill, 1952-1996. = GNO 6. Р. 3-469.
- Greg. Nyss. Contr. Eun. — Григорий Нисский, свт. Опровержение Евномия (Contra Eunomium) // ТСО. Т. 41. Ч. 5. С. 8-500, Т. 43. 1864. Ч. 6. С. 1-510; PG 45, 248-1121; Jaeger. 1. Р. 22-409; 2. Р. 3-311.
- Greg. Nyss. De anima et resurr. — Григорий Нисский, свт. О душе и воскресении, разговор с сестрою Макриною (Dialogus de Anima et Resurrectione) // ТСО.Т. 40. 1862. Ч.4. С. 201-326; PG 46, 12-160.
- Greg. Nyss. De beat. — Григорий Нисский, свт. О блаженствах (De Beatitudinibus oratio-nes VIII) // ТСО. Т. 38. 1861. Ч. 2. С. 359-478; PG 44, 1193-1301; Jaeger. 7.2. Р. 77-170.
- Greg. Nyss. De infant. аbrept. — Григорий Нисский, свт. О младенцах, преждевременно похищаемых смертью. К Иерию (De Infantibus qui praemature abripiuntur) // ТСО. Т. 40. 1862. Ч. 4. С. 327-360; PG 46, 161-192; Jaeger. 3.2. Р. 67-97.
- Greg. Nyss. De vita Greg. ^aum. — Григорий Нисский, свт. Слово о жизни святого Григория Чудотворца (De vita B. Gregorii ^aumaturgi) // ТСО. Т. 45. 1871. Ч. 8. С. 126-197; PG 46, 893-957; Jaeger. 10.1. Р.3-57.
- Greg. Nyss. De vita Moys. — Григорий Нисский, свт. О жизни Моисея Законодателя, или О совершенстве в добродетели (De Vita Moysis) // ТСО.Т. 37. 1861. Ч. 1. С.223-379; PG 44, 297-430; Jaeger. 7.1. Р. 1-145.
- Greg. Nyss. De hom. opif. — Григорий Нисский, свт. Об устроении человека (De opificio hominis) // ТСО.Т. 37. 1861. Ч. 1. С. 76-222; PG 44, 124-256.
- Greg. Nyss. In Eccl. Hom. — Григорий Нисский, свт. Точное истолкование Экклесиаста Соломонова (In Ecclesiasten) // ТСО.Т. 38. 1861. Ч.2. С.203-358; PG 44, 616-753; Jaeger. 5. Р. 277-442.
- Greg. Nyss. In Stephan. — Григорий Нисский, свт. Похвальное слово святому первому-ченику Стефану (In sanctum Stephanum I) // ТСО. Т. 45. 1871. Ч. 8. С. 105-125; PG 46, 701-722; GNO 10.1. Р. 75-94.
- Greg. Nyss. Or. catech. — Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово (Oratio catechetica magna) // ТСО. Т. 40. 1862. Ч. 4. С. 1-110; PG 45, 11-105; GNO 3.4. Р. 5-106.
- Григорий Палама: Антирретики — Григорий Палама, свт. Антирретики против Акин-дина / Пер. с др.-греч. и прим. архим. Нектария (Яшунского). Краснодар: Текст, 2010. 368 с.
- Григорий Палама: Триады — Григорий Палама, свт. Триады в защиту священно-безмолвствующих / Пер., послесл. и ком. В. Вениаминова. М.: Канон+, 2005. 384 с. (История христианской мысли в памятниках).
- Максим Исповедник: Умозрительные и деятельные главы — Максим Исповедник, прп. Умозрительные и деятельные главы, выбранные из семисот глав Греческого Доброто-любия // Добротолюбие: в русском переводе: в 5 т. Изд. 4-е. М.: Изд-во Сретенского м-ря, 2010. Т. 3. 448 с. С. 226-284.
- Максим Исповедник, прп.: Четыре сотни глав о любви — Максим Исповедник, прп. Четыре сотни глав о любви // Добротолюбие: в русском переводе: в 5 т. Изд. 4-е. М.: Изд-во Сретенского м-ря, 2010. Т. 3. 448 с. С. 162-226.
- Clem. Alex. Strom. — Clemens Alexandrinus. Stromata // PG 9:9-602.
- Афанасий Евтич (2005) — Афанасий (Евтич), еп. Пролегомены к исихастской гносеологии // Богословские труды. 2005. Т. 40. С. 74-121.
- Арутюнова (1982) — Арутюнова Н.Д. Лингвистические проблемы референции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 13: Логика и лингвистика (Проблемы референции) / Сост., ред., вступ. ст. Н. Д. Арутюновой. М.: Радуга, 1982. С. 5-40.
- Василий Кривошеин (2011) — Василий (Кривошеин), архиеп. Простота Божественной природы и различия в Боге по св. Григорию Нисскому // Богословские труды / Сост., автор биогр. вст. диак. Александр Мусин. Н. Новгород: Христианская библиотека, 2011. С. 614-643.
- Давыденков (2002) — Давыденков О., свящ. Понятия «силы» и «энергии» в святоотеческом богословии // Давыденков О., свящ. Велия благочестия тайна: Бог явися во плоти. М.: Изд-во ПСТГУ, 2002. С. 5-31.
- Епифанович (1916) — Епифанович С.Л.П. Минин. Главные направления древне-церковной мистики. Сергиев Посад. [Рецензия] // Труды КДА. 1916. №2. С. 381-385. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Epifanovich/rets-na-p-minin-glavnye-napravlenija-drevne-tserkovnoj-mistiki-sergiev-posad-1916/ (дата обращения: 13.01.2023).
- Иустин Попович (2003) — Иустин (Попович), прп. Гносеология святого Исаака Сирина / Пер. с серб. и ком. И. А. Чароты. Мн.: Свято-Елисаветинский м-рь, 2003. (Сер.: Сербское богословие ХХ века).
- Карфикова (2012) — Карфикова Л. Святитель Григорий Нисский. Бесконечность Бога и бесконечный путь к Нему человека / Пер. с чеш. К.: Дух и лиера, 2012.
- Карцевский (1965) — Карцевский С. О. Об асимметричном дуализме лингвистического знака // Звегинцев В. А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. М., 1965. 3-е изд. Ч. 2. С. 85-93.
- Кобозева (2000) — Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. М.: Эдиториал УРСС, 2000.
- Крипке (1982) — Крипке С. Тождество и необходимость // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 13: Логика и лингвистика (Проблемы референции) / Сост., ред., вступ. ст. Н. Д. Арутюновой. М.: Радуга, 1982. С. 340-377.
- Лескин (2009) — Лескин Д. Ю., прот. Спор Великих Каппадокийцев и Евномия о границах богопознания и его рецепция в русской философии ХХ века // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. № 3. М.: Изд-во РАГС, 2009. С. 87-98.
- Логиновский (2005) — Логиновский С. С. Специфика святоотеческой гносеологии (религиоведческий анализ): Дис. ... канд. филос. н. 09.00.13. Челябинск, 2005.
- Лосев (1997) — Лосев А. Ф. Спор об именах в IV веке и его отношение к имяславию // Лосев А. Ф. Имя: Избр. работы, переводы, беседы, иссл-ия, архивн. мат-лы / Сост. и общ. ред. А. А. Тахо-Годи. СПб.: Алетейя, 1997. С. 39-45.
- Михаил Грибановский (2004) — Михаил (Грибановский), иером. Истина бытия Божия. Опыт уяснения основных христианских истин естественной человеческой мыслью. Репр. изд. 1888 г. СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2004.
- Падучева (1985) — Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). М.: Наука, 1985.
- Петров (1982) — Петров В.В. Философские аспекты референции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 13: Логика и лингвистика (Проблемы референции) / Сост., ред., вступ. ст. Н. Д. Арутюновой. М.: Радуга, 1982. С. 406-414.
- Саврей (2012) — Саврей В.Я. Каппадокийская школа в истории христианской мысли. М.: Изд-во МГУ, 2012.
- Фокин (2006) — Фокин А.Р. Григорий свт., еп. Нисский // Православная энциклопедия. Т. XII: Гомельская и Жлобинская епархия — Григорий Пакуриан. М., 2006. С. 480-522.
- Христу (2001) — Христу П.С. Учение святителя Григория Паламы о двойственном знании // Альфа и Омега. 2001. № 3 (29). С. 120-128.
- Шмалий (2001) — Шмалий В., свящ. Проблема «воцерковления философии» на примере трудов св. Григория Нисского // Богословие и философия: аспекты диалога. Сборник докладов конференции «IX Рождественские Образовательные Чтения», 25 янв. 2001 г. М.: Ин-т ф-фии РАН, 2001. С. 59-87.
- Laird (2004) — Laird M. Gregory of Nyssa and the Grasp of Faith: Union, Knowledge, and Divine Presence. Oxford University Press, 2004.
- Weiswurm (1952) — Weiswurm А. Alcuin. The Nature of Human Knowledge according to Saint Gregory of Nyssa. Washington, D. C.: The Catholic University of America Press, 1952.
- Young (2001) — Young R..A. The Nature of Truth in Gregory of Nyssa: An Ancient Response to a Contemporary Problem: Dis. ... of Doctor of Philosophy; Baylor University. Waco, Texas, 2001.
- АратстеХХа (2002) — NiKoXaov K. AparcreXXa deoXoyov. H ©eoXoyta тои А' кат' Euvo^iou Xoyou тои ауюи Грпуорюи №>стстп?. Аб^аь, 2002.