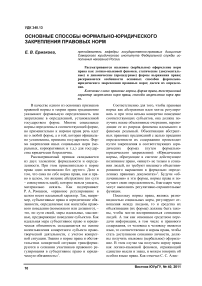Основные способы формально-юридического закрепления правовых норм
Автор: Ермакова Екатерина Викторовна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы теории и истории государства и права
Статья в выпуске: 40 (257), 2011 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются языковое (вербальное) оформление норм права как логико-языковой феномен, статические (документальные) и динамические (процедурные) формы выражения права; раскрываются особенности основных способов формально-юридического закрепления правовых норм; дается их определение.
Правовые нормы, форма права, текстуальный характер закрепления норм права, способы закрепления норм права
Короткий адрес: https://sciup.org/147149627
IDR: 147149627 | УДК: 340.13
Текст научной статьи Основные способы формально-юридического закрепления правовых норм
В качестве одного из основных признаков правовой нормы в теории права традиционно указывают формальную определенность или закрепление в определенной, установленной государством форме. Многие социальные нормы определены в соответствующей форме, но применительно к нормам права речь идет не о любой форме, а о той, которая официально установлена, признана государством. Форма закрепления иных социальных норм (моральных, корпоративных и т.д.) для государства юридически безразлична.
Рассматриваемый признак складывается из двух элементов: формальности и определенности. При этом применительно к норме права одно невозможно без другого. Дело в том, что сама по себе норма права, как и право в целом, это явление абстрактное (по сути - совокупность идей), которое нельзя увидеть, материально осязать. Как подчеркивает Р. А. Ромашов, «правовое регулирование в целом носит идеальный характер. Так, например, субъективные права и юридические обязанности, определяемые как масштабы правового поведения (возможного или должного), -это, по сути своей, меры идеальные, мысленные, предваряющие поведение субъектов. Как идеальная мера субъективное право и юридическая обязанность складываются на основе волеизъявления конкретного субъекта правотворческой деятельности, с учетом конкретной ситуации. Знания о норме права и обстоятельствах конкретной ситуации трансформируются в сознании участников правового регулирования в субъективное право и юридическую обязанность»1.
Соответственно для того, чтобы правовая норма как абстрактная идея могла регулировать и при этом весьма конкретно поведение соответствующих субъектов, она должна получить некие объективные очертания, переводящие ее из разряда феномена идеального в феномен реальный. Объективация абстрактных правовых предписаний с целью придания определенности их содержанию происходит путем закрепления в соответствующих юридических формах (путем формальноюридического закрепления): «Юридические нормы, образующие в системе действующее позитивное право, «живут» не только в сознании людей, но требуют внешнего объективированного выражения в формально определенных правовых документах»2. Будучи «облаченными» в эти формы, нормы права и получают свою определенность, благодаря чему могут выполнять регулятивно-охранительные функции.
Поскольку нормы права, являясь разновидностью социальных норм, регулируют отношения между людьми, то и средства их объективации (их формы) должны быть таковы, чтобы могли восприниматься сознанием людей. А так как основным средством передачи информации, в том числе и правового содержания, от человека к человеку является язык, то соответственно и нормы права, чтобы стать доступными сознанию личности, должны получить языковое (вербальное) оформление. В этом случае мы получаем норму права как логико-языковой феномен, отражающий единство мысли и знака, и можем говорить об особом языке права. Как отмечал С. С. Алек- сеев, достоинства юридических прав и обязанностей имеют реальное значение не тогда, когда у нас существуют лишь какие-то мысли о возможностях и долге, о том, что «можно» и «должно», а лишь тогда, когда эти мысли и представления имеют строго определенный по содержанию характер и получают внешнее, «знаковое» закрепление3.
Язык права неразрывно связан с естественным языком народа. Право «всегда стремится быть графически, текстуально оформленным. Недаром происхождение права связывают с возникновением слова. Право не может возникнуть, если нет слова. С возникновением азбуки появилась возможность выразить слово, с помощью которого можно было выразить мысль и сообщить ее другому»4.
До изобретения письменности нормы права носили устный характер, передавались из уст в уста, от поколения к поколению, в результате чего возникла такая форма внешнего выражения правовых норм, как правовой обычай. Устная языковая форма сделала нормы права объективно реальными, доступными для понимания. Однако она имела в определенной степени ограниченный характер, так как охватывала локальные общности и не гарантировала точности и однообразия передаваемой информации. С изобретением письменности и соответственно появлением письменных форм объективации правового содержания положение качественно изменилось. Письменная форма придала нормам права полный, четкий, ясный характер, позволила правовой материи охватить обширные территориальные и временные пространства. На смену устным правовым обычаям пришли нормативные правовые акты, нормативные договоры, имеющие документальную форму. Наряду с ними появилась и особая прецедентная форма закрепления правового материала, во многом выросшая из обычаев, сочетающая в себе черты как «писаного», так и «неписаного» права (при этом традиционно относимая к последнему). Однако, появившись, письменные формы не вытеснили полностью форм устных, поэтому в настоящее время в правовых системах эффективно используются четыре основные формы права: правовой обычай, нормативный правовой акт, нормативный договор и юридический прецедент. Наряду с ними выделяют и иные формы, например, правовую доктрину, религиозные тексты, используемые в религиозной право вой семье, но поскольку они характерны лишь для отдельных государств, мы оставим их за рамками настоящего исследования.
Интересную позицию по поводу видов форм права высказывает Р. А. Ромашов. Понимая форму права как способ внешнего выражения правил и отношений, в совокупности образующих права, он считает целесообразным дифференцировать статические (документальные) и динамические (процедурные) формы выражения права. Посредством первых выражается материальное право, посредством вторых - процессуальное: «При этом, к примеру, документ, называющийся уголовнопроцессуальным кодексом, будет выступать в качестве материальной формы уголовнопроцессуального права, а процедуры допроса, обыска, осмотра места происшествия соответственно представляют процессуальный сегмент данной отрасли»5. Идея выделения динамических и статических форм права, на наш взгляд, заслуживает внимания и в определенной степени может быть экстраполирована на те классические формы права, которые мы указали. Так, по нашему мнению, нормативный правовой акт и нормативный договор представляют собой, хотя, конечно, с определенной долей условности, статические формы права (в смысле достаточно сложной процедуры внесения в них изменений), а правовой обычай и юридический прецедент - динамические (поскольку способны более быстро реагировать на меняющиеся условия общественной жизни).
Правовой обычай, нормативно-правовой акт, судебный прецедент и нормативный договор являются формами внешнего закрепления права в целом, правового материала как такового. Они в свою очередь предопределяют основные способы формально-юридического закрепления собственно правовых норм как первичных элементов системы права. Способы формально-юридического закрепления правовых норм характеризуются следующими особенностями:
-
- они обеспечивают перевод абстрактного содержания правовой нормы в реально воспринимаемое сознанием человека языковое выражение (вербальное предписание);
-
- имеют определенную текстуальную (письменную или устную) форму;
-
- структурированы в соответствии с элементами правовой нормы и ее содержанием;
-
- обусловливаются историческими традициями соответствующей правовой системы (правовой семьи) и спецификой регулируемых отношений;
-
- используются с соблюдением приемов, правил и способов юридической техники.
Таким образом, способы формальноюридического закрепления правовых норм, по нашему мнению, можно определить как исторически и социально обусловленные формы вербального (письменного или устного) выражения правовых предписаний, структурированные в соответствии с элементами правовой нормы и ее содержанием, а также требованиями юридической техники.
При этом в практической деятельности особое внимание должно уделяться оптимальному выбору соответствующего способа формально-юридического закрепления правовых норм, т.е. «правового опосредования тех или иных жизненных ситуаций»6. Возникающее в ходе развития несоответствие содержания и формы, как правило, приводит к полному «сбрасыванию» старой и возникновению новой, адекватной развившемуся содержанию формы, хотя история права знает и примеры «наполнения» старых форм качественно новым содержанием7. Примером первого может выступать правовой обычай, многие нормы которого «перешли» в нормативный акт; примером второго - пересмотр прецедентных решений.
На проблему адекватного выбора правовой формы обращает, в частности, внимание В. В. Трофимов, предлагающий рассматривать все социальные факторы, воздействующие на формирование права, на двух уровнях - макро- и микросоциальном, так как право пронизывает социум на макро- и микроуровнях его организации8. Соответственно выбор той или иной государственно-правовой формы (законодательная деятельность, судебная практика, санкционирование обычая, договорные процедуры и т.д.) может быть обусловлен тем, фактор какого уровня вызывает проблемную ситуацию. Если фактор макро-социальный, определяющий публичные интересы, то в качестве государственно-правовой формы может быть использован законодательный акт, призванный регулировать наиболее важные общественные отношения. «Незаконодательные» правовые формы, по его мнению, следует считать адекватными прежде всего микросоциальному уровню правовой жизни, и именно их следует развивать, совершенствовать при построении цивилизованного гражданского общества и правового государства9.
Мы склонны согласиться с высказанной В. В. Трофимовым позицией, также полагая, что при выборе адекватного способа формально-юридического закрепления правовых норм и в целом форм права необходимо учитывать характер регулируемых общественных отношений, наличие публично-правового или частно-правового интереса и т.п. Соответственно содержательная сторона права, реальные связи между субъектами предопределяют особенности правовой формы. В этом смысле содержательную часть права следует рассматривать как определяющую: «Содержанию права присуще постоянное развитие, непосредственно отражающее движение и изменение материальной и духовной жизни общества; развитие же формы права является опосредованным, происходит через изменение направленности и функций содержания...»10.
Интересную позицию по поводу соотношения формы и содержания в праве высказывают Р. А. Ромашов и П. А. Оль. Они отмечают, что правовое содержание определяется наличием факторов общего, особенного и единичного характера. Общее в правовом содержании - это базисные экономические отношения, которые носят объективный характер и не подвержены радикальной трансформации, обусловленной правовой формой. Эти объективные отношения развиваются по своим законам и сами в решающей степени определяют специфику правовой формы. Достигая определенного уровня своего развития, они ломают старую, не соответствующую содержанию правовую форму или приводят к необходимости ее замены. Особенное в правовом содержании определяется конкретной исторической обстановкой, теми условиями, при которых совершается развитие общих, базисных экономических отношений. К таким условиям могут быть отнесены факторы, обусловленные традицией, культурой, менталитетом народа, морально-нравственными устоями, действующими в обществе на конкретный исторический момент и т.д. Перечисленные факторы, носящие особенный характер, также не могут быть подвержены изменению со стороны нормативной формы и оказывают активное воздействие на последнюю, определяя ее специфику. Единичное в правовом содержании олицетворяется обще- ственными отношениями, подверженными трансформации под воздействием правовой формы. Они представляют собой фактические отношения людей, связанные с реализацией правил возможного или должного поведения, которые объективно нуждаются в правовом воздействии. В отечественной юридической науке подобные отношения определяются как предмет правового регулирования. Именно наличие таких отношений, по мнению ученых, позволяет говорить о влиянии правовой формы на содержание. Признавая условность данной схемы, Р. А. Ромашов и П. А. Оль тем не менее приходят ко вполне обоснованному выводу, что «теоретическое значение формально-содержательного подхода к пониманию правового феномена заключается в том, что последний рассматривается комплексно, в своей целостности и взаимообусловленности сторон (проявлений)»11.
По нашему мнению, связь содержания и формы, несомненно, носит двусторонний характер. Именно их единство позволяет говорить о норме права как о логико-языковом феномене. При этом предопределяющим фактором, на наш взгляд, выступает содержание, но, как справедливо отметил Д. А. Керимов, «определяющую роль содержания права по отношению к его форме не следует абсолютизировать: на развитие той или иной формы права влияют и многие иные факторы природной и социальной действительности (особенности исторической обстановки, национальные традиции, обычаи и т.д.), равно как и уже существующие формы позитивного права (например, наличие развитых форм конституционного законодательства, влияющих на формы текущего законодательства)»12.
Будучи обусловленными различными факторами как объективного, так и субъективного характера (и в первую очередь спецификой содержания правила поведения), способы формально-юридического закрепления правовых норм весьма разнообразны, но объединяет их такая общая черта, как текстуальный характер. Норма права всегда облачена в определенный текст. Так, А. В. Поляков подчеркивает, что правовые нормы существуют не сами по себе, а в своеобразных «обертках» из различных правовых текстов, выступающих их языковыми источниками: «Правовая норма всегда конституируется определенным текстом, выраженным в языковой форме (именно язык объективирует нормативную сторону права, и вне языка она не су- ществует). Если это норма обычного права, то такой текст выступает неким единством, своего рода монолитом, не зафиксированным в каких-либо письменных источниках, но отраженным в правосознании членов данного общества в виде устных повествований, преданий, наставлений и т.д. Когда же мы имеем дело с письменным законодательством, то в нем правовой текст, призванный руководить поступками субъектов, формулируется в виде предписывающих высказываний, предполагающих диалогическую форму построения»13.
Р. А. Ромашов и П. А. Оль также подчеркивают, что субъект правотворчества имеет дело не с идеальными абстракциями, а с выраженной в знаковой форме информацией о возможном и необходимом, о правах и обязанностях, о мерах ответственности и вознаграждения и т.д. Соответственно субъект правотворческой деятельности имеет дело прежде всего с текстом, т.е. со знаковой формой выражения юридически значимой информации. С этой же знаковой формой, как обращают внимание ученые, имеет дело и правоприменитель, и любой другой субъект реализации права. В указанном смысле реализация права - это поведение субъекта, соответствующее формализованным требованиям общества. Информация об этих требованиях до адресата доводится прежде всего в текстуальной форме14. Текстуальная форма - это важнейший признак правовой формы и одновременно ее внешнее выражение. Язык опосредует государственно-властное начало, без языка не может быть и права15.
Все способы формально-юридического закрепления нормы права носят текстуальный (языковой, вербальный) характер, но текст этот может быть либо письменным, либо устным. На это обращает внимание и французский исследователь Ж.-Л. Бержель, отмечая, что «юридическое правило может быть самопроизвольным (спонтанным), поскольку выделяется непосредственно социальной группой, или предписанным, потому что исходит от какого-то официального и наделенного соответствующими полномочиями органа и порождено волевым актом органа общественной власти, законодателя или судебной инстанции»16. При этом ученый подчеркивает, что каждая из указанных форм имеет свои «преимущества и неудобства». Среди достоинств закона как предписания (письменной формы) он указывает, в частности, недвусмысленную форму, дающую гарантию его выполнения; возмож- ность его обнародования и доведения до каждого и т.п.; среди недостатков - медленную адаптацию к социальной эволюции, устаревание закона почти сразу после его принятия и т.п. Обычай же как устная форма, с одной стороны, отражает пластичность фактов, проявляется как способ постоянного формирования права, с другой стороны, имеет и неудобства: он не отличается четкостью, его трудно понять и сформулировать. При этом право обычая может быть воспроизведено и упорядочено в соответствующих письменных сборниках, но, как справедливо замечает ученый, «получив формулировку, обычай застывает в развитии и все больше напоминает, если не по происхождению, то во всяком случае по форме выражения, законодательство»17.
Соответственно в зависимости от вида используемой формы права будут различаться и способы закрепления правовых норм. Так, нормативный правовой акт и нормативный договор имеют письменный характер, и в них основным способом внешнего выражения нормы права будет выступать формулировка статьи акта или договора. Правовой обычай и судебный прецедент относятся к «неписаным» формам права. (Здесь однако следует уточнить, что и обычные, и прецедентные нормы также могут иметь письменное выражение, будучи закрепленными в соответствующих сборниках и иных документах. Но подобные формы будут выступать лишь письменным свидетельством существования данных норм, вспомогательным средством определения их содержания). Отсюда и специфические способы объективизации правовой нормы в них: в правовом обычае кроме формулирования в ходе практики самого правила требуется придание ему обязательной силы (opinio juris); в юридическом прецеденте -выделение собственно юридически обязательной части - ratio decidendi. При этом в нормативно-правовом акте и нормативном договоре, как правило, находит закрепление целый ряд норм права. В правовом обычае же и судебном прецеденте, напротив, формулируется лишь одна норма. Однако из этого не должно следовать вывода, что применительно к правовому обычаю и прецеденту понятия «норма права» и «форма права» совпадают, о чем, например, пишут некоторые исследователи применительно к международно-правовому обычаю. Данные понятия, хотя и взаимообусловленные, но не тождественные: они не могут совпадать в принципе, так как одно харак теризует содержание, а другое - способ его объективации18.
Таким образом, норма права, будучи явлением идеальным, не смогла бы оказывать регулирующего воздействия на общественные отношения, не будь она закреплена в соответствующих юридически значимых формах. При этом в разные исторические эпохи, в различных правовых системах вырабатывались и использовались различные способы формально-юридического закрепления правовых норм. Выбор их обуславливается различными как объективными, так и субъективными факторами: характером регулируемых общественных отношений, правовыми традициями, уровнем правовой культуры, требованиями юридической техники, господствующими типами правопонимания и т.д. Неправильный выбор способа объективации правовой нормы на стадии правотворчества приводит к ошибкам в правоприменении и в целом в реализации права.
-
1 Ромашов Р. А., Оль П. А. Правовой текст - универсальная форма внешнего выражения источника права // Истоки и источник права: очерки / под ред. Р. А. Ромашова, Н. С. Нижник. СПб., 2006. С. 117.
-
2 Сапун В. А. Уровни нормативности источников российского права // Источники права: проблемы теории и практики: материалы международной научной конференции / отв. ред. В. М. Сырых. М., 2008. С. 102.
-
3 Алексеев С. С. Право: азбука-теория-философия: опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 17.
-
4 Хабибулина Н. И. Политико-правовые проблемы семиотического анализа языка закона. СПб., 2001. С. 172.
-
5 Ромашов Р. А. Проблема структурирования источников права современной России // Источники права: проблемы теории и практики. С. 47.
-
6 Трофимов В. В. Источники права микро- и макросоци-ального уровней правовой жизни // Источники права: проблемы теории и практики. С. 66.
-
7 Цит. по: Ромашов Р. А., Оль П. А. Указ. соч. С. 126127.
-
8 Трофимов В. В. Указ. соч. С. 67.
-
9 Там же. С. 72.
-
10 Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). М., 2000. С. 182.
-
11 Ромашов Р. А., Оль П. А. Указ. соч. С. 135-138.
-
12 Керимов Д. А. Указ. соч. С. 182.
-
13 Поляков А. В. Общая теория права. СПб., 2001. С. 479, 503.
-
14 Ромашов Р. А., Оль П. А. Указ. соч. С. 117.
-
15 Савицкий В. М. Язык процессуального закона (вопросы терминологии). М., 1987. С. 3.
-
16 Бержель Ж.-Л. Общая теории права. М., 2000. С. 105107.
-
17 Там же. С. 108.
-
18 Международное право / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. М., 2001. С. 110.
Список литературы Основные способы формально-юридического закрепления правовых норм
- Ромашов Р. А., Оль П. А. Правовой текст -универсальная форма внешнего выражения источника права//Истоки и источник права: очерки/под ред. Р. А. Ромашова, Н. С. Нижник. СПб., 2006. С. 117.
- Сапун В. А. Уровни нормативности источников российского права//Источники права: проблемы теории и практики: материалы международной научной конференции/отв. ред. В. М. Сырых. М., 2008. С. 102.
- Алексеев С. С. Право: азбука-теория-философия: опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 17.
- Хабибулина Н. И. Политико-правовые проблемы семиотического анализа языка закона. СПб., 2001. С. 172.
- Ромашов Р. А. Проблема структурирования источников права современной России//Источники права: проблемы теории и практики. С. 47.
- Трофимов В. В. Источники права микро-и макросоциального уровней правовой жизни//Источники права: проблемы теории и практики. С. 66.
- Ромашов Р. А., Оль П. А. Указ. соч. С. 126-127.
- Трофимов В. В. Указ. соч. С. 67.
- Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). М., 2000. С. 182.
- Ромашов Р. А., Оль П. А. Указ. соч. С. 135-138.
- Керимов Д. А. Указ. соч. С. 182.
- Поляков А. В. Общая теория права. СПб., 2001. С. 479, 503.
- Ромашов Р. А., Оль П. А. Указ. соч. С. 117.
- Савицкий В. М. Язык процессуального закона (вопросы терминологии). М., 1987. С. 3.
- Бержель Ж.-Л. Общая теории права. М., 2000. С. 105-107.
- Международное право/отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. М., 2001. С. 110.