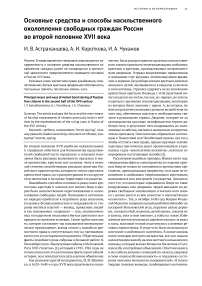Основные средства и способы насильственного охолопления свободных граждан России во второй половине XVII века
Автор: Астраханцева И.В., Короткова А.И., Чуканов И.А.
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 4 (10), 2014 года.
Бесплатный доступ
В представленном материале анализируется направленность и основные средства насильственного закабаления граждан, ранее не находящихся в крепостной зависимости представителями правящего сословия в России XVII века.
Крепостное право, закабаление, "охолопливание", беглые крестьяне, феодальная собственность, послушные грамоты, поступные записи, сыск
Короткий адрес: https://sciup.org/14219484
IDR: 14219484
Текст научной статьи Основные средства и способы насильственного охолопления свободных граждан России во второй половине XVII века
Во второй половине XVII наиболее нежелательным и страшным событием для большинства представителей свободной части городского и сельского населения была реальная возможность оказаться в числе крепостных крестьян или холопов, чему в немалой степени способствовала реальная политика Российского правительства, которая не только укрепляла крепостное право, но и распространяла его на другие слои населения и на новые территории государства.
Важнейшим способом пополнить ряды своих крепостных крестьян и холопов для многих бояр и дворян было насильственное окрестьянивание и охоло-пливание свободных людей. Помещики и вотчинники нередко прибегали к подобного рода насилиям, пользуясь безнаказанностью и поддержкой со стороны местных властей — воевод, приказных людей и так называемых «сыщиков» — лиц, уполномоченных государством отыскивать беглых крестьян и возвращать их прежним хозяевам. Самое грубое насилие, то, которое составляет так называемое внеэкономическое принуждение, всегда стояло у колыбели крепостного права и сопутствовало ему на протяжении всего пути его исторического развития. Убедительные факты подобного рода собраны в большой работе Н. Новомбергского «Вымученные кабалы в Московской Руси XVII столетия» [1], который в 1915-1916 годы не только описал все эти негативные факты в российской истории, но и попытался им дать научное объяснение.
Как указывает другой исследователь, М. М. Шевченко, в 1620–1640-е годы XVII века практически повсе- местно была распространена практика насильственного захвата крупными землевладельцами свободных крестьян и крестьян, принадлежащих мелкопоместным дворянам. Отряды вооруженных приказчиков и домашних слуг крупных землевладельцев врывались в деревни, без разбора хватали крестьян, включая женщин и детей, заковывали их в кандалы и увозили в свои вотчины, стремясь удержать их на положении крепостных крестьян. Воеводы с этой практикой ничего поделать не могли, так как, во-первых, не хотели ссориться с крупными землевладельцами, некоторые из которых были знакомы с царем. А, во-вторых, не имели практически никаких рычагов воздействия на этих лиц, облеченных властью и необходимыми связями в руководстве страны. Дворяне, которые из-за самоуправства крупных латифундистов теряли рабочую силу, в результате чего подрывались их маломощные хозяйства, пытались жаловаться и сопротивляться произволу. Они пытались обращаться за помощью в Поместный или Челобитный приказ для того, чтобы отстоять свои права, однако крупные землевладельцы при помощи денег организовывали в приказных судах «многолетние волокиты», всячески игнорировали поступающие жалобы [2].
Рассмотрим подобные примеры. Имеют место подтвержденные факты самоуправства со стороны крупных бояр не только по отношению к крепостным крестьянам, принадлежащих дворянству, но и даже по отношению к свободным (черносошным) крестьянам, находящихся под контролем государства. Доходило того что, что некоторые зарвавшиеся бояре во главе вооруженных ими дворовых людей нападали на деревни свободных землепашцев и хватали кого попало с целью увезти в свое поместье и насильственно «охолопить». Так, в октябре 1648 года боярин Феодосий Малютин совершил целый разбойничий набег на соседний Вольновский уезд, окружив целые деревни, «похватал баб, мужиков, детей малых, заковав их в железа, увел в свое имение», а избы их пожег. Взбешенные жители нескольких деревень взялись за вилы и косы, массовой толпой подступились к имению ретивого крепостника. В уезде чуть было не вспыхнуло восстание озлобленного населения. В конце концов, после уговоров местного начальства, все они подали коллективную жалобу на имя местного вольновского воеводы, который вызвал Феодосия Малютина в Съезжую избу и потребовал объяснений. Ответчик явился и вел себя на допросе с воеводой по-хамски, уверовав в свою «полную безнаказанность» и поддержку со стороны «высоких московских покровителей». И только твердая позиция воеводы, пообещавшего вотчинни- ку написать жалобу на имя Царя в Челобитный приказ и в Боярскую Думу, заставили Ф. Малютина освободить людей. Однако не все воеводы решались на столь «радикальные» действия [3].
Документы минувших лет рисуют мрачную картину, когда, несмотря на проводимую правительством непримиримую борьбу с разбойниками, грабителями на дорогах, так называемыми «лихими» людьми, легально существовали группировки людей, основным промыслом которых был отлов и последующее закабаление свободных людей, то есть фактическая продажа их в рабство. Причем государственные чиновники, понимая всю «экономическую важность» этого «мероприятия», как будет видно далее, не только не боролись с этим злом, но и зачастую поощряли это. Кто принадлежал к этим сообществам, деятельность которых, как это ни парадоксально, не попадала, благодаря существующим на тот момент прорехам в законодательстве, не только под уголовную, но и даже административную ответственность?
Ловлей и закабалением свободных людей на дорогах занимались, в первую очередь, бояре и дворяне, которые создавали в этих целях специальные вооруженные «команды» из своих дворовых людей. Они, пользуясь безнаказанностью со стороны властей, чинили на дорогах страны настоящий разбой, целью которого было не только банальное ограбление, но и последующее закабаление захваченных «в плен» свободных граждан. По приказу своих хозяев, а зачастую и руководимые ими, вооруженные разбойники-челя-динки насильно задерживали свободных людей на дорогах, отводили в поместья и насильно там удерживали в целях получения выкупа, или подписания личного письменного обязательства о согласии «наложить на себя кабалу», то есть фактически перейти в разряд крепостных крестьян.
Фактов, подтверждающих данную противоправную и противозаконную практику, имеется предостаточно. Так в марте 1649 года на имя воронежского воеводы поступила жалоба от боярского сына Ивана Авдеева, в которой он рассказывает о случае, произошедшем с его матерью Марией Федоровной и его сестрой Евфросиньей. Они, следуя по дороге в монастырь на богомолье, были незаконно задержаны и отведены в поместье боярина Петра Толмачева. После чего мать и дочь были посажены незаконно в личную тюрьму помещика. Мать была отпущена только после того, как за нее были внесены в качестве выкупа 5 серебряных рублей с полтиной [4]1, а его сестра два года была вынуждена томиться в помещичьей тюрьме в железных оковах, так как категорически отказалась подписывать кабальный договор [5].
Другой вопиющий случай произошел в августе 1687 года, когда стольник Андрей Юшков, держа длительное время в кандалах, заставил подписать кабальный договор в Гороховецкой приказной избе 14-летнего подростка, похищенного в Москве дворовыми стольника боярского сына Ивана Гаврилова, отец которого
1 Это была очень значительная сумма, на которую можно было приобрести в те времена дом с подворьем (прим. авт.).
был подъячим Стрелецкого Приказа в Москве, то есть занимал значительную государственную должность. После подписания этого договора и насильственной женитьбе на дворовой девке Маньке, произведенной местным священником, изменить социальное положение сына отец уже не смог. Боярский сын остался до конца своих дней холопом. Отец Ивана Гаврилова последовательно проиграл судебные тяжбы в Нижегородском уезде, в Разрядном и Судном приказах. Челобитная, поданная в Расправную Палату Боярской Думы, так и осталась без последствий [6]. Отказавшись от рассмотрения по существу судебного иска по делу Ивана Гаврилова, уездный суд, суды Холопьего и Судного приказов, как суд второй инстанции нарушили целый комплекс действующих законов, запрещавшие, во-первых, обманом подписывать кабальные договоры [7], во-вторых, законодательно установленное закабаление боярских детей [8]. А в-третьих, запрещение превращать в крепостных крестьян представителей служилых сословий и боярских детей путем женитьбы на крепостной крестьянке [9].
То есть, законодательство государства, во-первых, не только поощряло перевод свободных людей в крепостные холопы по их «личному желанию», но и категорически отказывалось признавать факты того, что подписание подобных кабальных договоров выбивалось «не совсем законными методами». А, во-вторых, возраст лица, подвергшегося подобному «закабалению», не имел никакого значения. Архивные документы подтверждают, что в кабалу к частным хозяевам попадало немало детей и несовершеннолетних лиц.
Следует особо сказать о том, что именно дети становились объектом преступного посягательства с целью насильственного закабаления и охолопливания. Нередко имели место даже случаи похищения маленьких детей, родители которых находились на государственной службе. Так, в августе 1686 года дворовые боярина Захария Рахманинова Тимошка Морда и Ерем-ка Федоров поймали близкого родственника подъяче-го Разрядного Приказа Никиты Карпова — 8-летнего мальчика. Причем, схватили его на мосту через Мо-скву-реку. Его поиски длились целый год и, наконец, увенчались успехом, когда изможденного мальчика нашли в деревне, принадлежащей Рахманинову. Для его поиска усилиями отца и его брата — чиновника Разрядного Приказа, посылались несколько «экспедиций сыщиков». При этом мальчик все это время сидел на длинной шейной цепи в деревне Окуловской, где его заставляли работать и кормили «впроголодь». После рассмотрения этого дела виновным был признан управляющий имением З. Рахманинова, а сам боярин, отдавший преступный приказ, остался безнаказанным [10].
Насильственной социальной стратификации не могли помешать даже боярское происхождение жертв. Приведем пример подобного подхода. Старица Воронежского Покровского монастыря Евфросинья совершила серьезную ошибку, выйдя в молодости замуж за крепостного крестьянина, впоследствии получившего от своего господина вольную. После его смерти на детей Евфросиньи бывшие владельцы ее покойного мужа-крестьянина немедленно предъявили права на владение ее детьми — двумя дочерьми. При этом защитить свою сестру-боярыню от произвола не смог даже ее брат — столбовой боярин, занимавший крупную государственную должность. Формально, дворяне Лосевы, предки которых владели мужем Евфросиньи, руководствовались законодательством, которое разрешало переводить в крепостную зависимость лиц, женившихся, либо вышедших замуж за крепостного [11].
Однако законодательство регламентировало обращение в крепостные исключительно лиц мещанского и крестьянского сословий [12], совершено умолчав о лицах из дворян или бояр. Челядь воронежского дворянина Агея Лосева на улице схватила сестру Евросинью и доставила в его имение, потребовав от нее заключить с ним кабальный договор. Воспользовавшись невнимательностью охраны, Евросинья, будучи закованной в ножные кандалы, убежала из имения и в таком виде пришла с жалобой к воеводе Василию Ивановичу Логовчину [13]. Воевода, сочтя нарушение законодательства очевидным, немедленно инициировал судебное заседание. Суд уезда, рассмотрев все обстоятельства дела, заслушав показания потерпевшей, объяснения ответчика, признал доводы дворянина Агея Лосева в том, что Евфросинья должна принадлежать ему в связи с тем, что когда-то вышла замуж за крепостного, неубедительными. Ему было предписано оставить Евфросинью и ее семью в покое на основании того, что, во-первых, она не была ни крестьянкой, ни мещанкой. А, во-вторых, судом было установлено, что ее муж — крепостной крестьянин, был отпущен на волю, что было подтверждено соответствующими документами.
Этот пример во многом является показательным. Во-первых, дворянин-землевладелец легко пошел на нарушение закона, не опасаясь того, что его привлекут к строгой ответственности. Во-вторых, землевладельца даже не остановил тот факт, что потерпевшая, которую он хотел обратить в крепостное состояние, принадлежала к боярскому сословию, а по требованиям, изложенным в Соборном Уложении 1649 года, обращать бояр и дворян в холопы и крепостные крестьяне было категорически запрещено [14]. В-третьих, суд совершенно не принял во внимание тот факт, что представительницу боярского сословия незаконно лишили свободы, поместив в частное имение, а также содержали в железных оковах, что по обычаям того времени считалось совершено нормальным. В-четвертых, суд нетолько не признал виновным дворянина Лосева в том, что он насильно принуждал к подписанию кабального договора, хотя это действо попадало, согласно норм Соборного Уложения 1649 года, под судебную ответственность, но и освободил его от какой-либо ответственности. Как будет видно дальше, безнаказанность воодушевила Агея Лосева на совершение других противоправных поступков подобного рода.
Почувствовав свою полную безнаказанность, дворянин Агей Лосев попытался превратить в крепостную крестьянку уже дочь Евфросиньи — Авдотью. Дворовыми людьми А. Лосева она была похищена в монасты- ре и увезена в имение Лосева, где ее заковали в цепи, и ей было предложено также, как и матери подписать кабальное соглашение. А дальше началось самое интересное. Мать обратилась вновь, как и в первый раз к воеводе, тот немедленно организовал так называемых «сыщиков» для поиска исчезнувшей девушки. «Сыщики» осмотрели имение А. Лосева, однако «ничего не нашли», так как предупрежденный землевладелец перевез незаконно лишенную свободы девушку в другое имение и в другой уезд [15].
Следует заострить внимание на том факт, что девушку не стали помещать в помещичью тюрьму, и даже болеее того, разрешали ей под присмотром слуг свободные прогулки по поместью и по лесу, однако на нее навесили огромное количество тяжелых оков, серьезно затруднивших ее передвижение. И все это время ее уговорами и угрозами склоняли подписать кабальное соглашение. После восьми месяцев постоянного пребывания в оковах, девушке удалось убежать из поместья и она, так и будучи в оковах, явилась к матери в монастырь. В те времена некоторые крестьяне и горожане из подневольных людей — холопов годами носили железные оковы, в которые хозяева поместили их в целях наказания и предупреждения побега, в них они жили и работали, поэтому на девушку в кандалах из-за обыденности и повседневности этого явления никто не обратил никакого внимания, даже когда она проходила через населенные пункты. Этот и другие примеры позволяют сделать вывод о том, что нахождение в оковах в России XVII века не считалось ограничением свободы, а было явлением, скорее всего, обыденным и повседневным [16].
Мать снова была вынуждена обратиться к воеводе за помощью, однако А. Лосев отказался явиться на заседание суда. Отчаявшись призвать зарвавшегося землевладельца А. Лосева к выполнению требований закона, воевода был вынужден написать челобитную в Боярскую Думу, а та, в свою очередь, передала дело к рассмотрению в Разрядный приказ, суд которого рассматривал дела, связанные с проступками и преступлениями бояр и дворян. Дело затянулось, Авдотья укрывалась в монастыре, вокруг которого безнаказанно дежурили дворовые Лосева, готовые вновь похитить девушку. После многочисленных жалоб на преступную деятельность Лосева, чиновниками Разрядного Приказа было проведено расследование, которое выявило очевидный преступный состав в его деятельности по отношению к старице и ее дочери. Однако в Разрядном приказе только констатировали, что налицо были все признаки преступления, подпадающего под статью 251 главы X Соборного Уложения 1649 года и …тем и ограничились. Дело было закрыто, однако по многочисленным жалобам в Боярскую Думу снова было начато. Расправная Палата Боярской Думы признала дело «малозначимым» и снова оно было прекращено.
По итогам рассмотрения никаких действий по судебному преследованию Агея Лосева предпринято не было. В конце концов вышел царский указ, в котором констатировалось, что «…что Агей Лосев мочью своей и озорничеством ей (Евфросинье) и дочерям ея чинил всякую тесноту и ныне ей, старице, волокиту в Москве, и за что на нем доправить 10 рублей и отдать ей, старице» [17]. Однако, А. Лосев наотрез оказался платить и эти деньги.
Данное дело высветило всею беспомощность царской юстиции и нежелание воевод, Боярской Думы, чиновников, судей принять судебное решение по закону. Во-первых, воевода, имея в своем распоряжении карательные органы, контингенты стрельцов, уездный суд, не смог оградить невинного человека от преступных посягательств на личное достоинство и свободу, зная виновника происходящего. Во-вторых, уездный суд, даже при подтвержденном составе преступления, отказался принимать законное решение, затрагивающее права богатого землевладельца, а после многочисленных проволочек передал дело для рассмотрения в Разрядный Приказ. В-третьих, суд Разрядного Приказа, рассмотрев по существу дело о насильственном закабалении, только констатировал факт совершения преступления, отказавшись принимать какое-либо судебное решение.
В-четвертых, в деле, связанном с совершением преступления представителем правящего класса практически все судебные решения отказались от принятия судебного решения, связанного с наказанием зарвавшегося дворянина, доведя дело до рассмотрения в Расправной Палате и до Суда Царя. В-пятых, обращает на себя внимание тот факт, что даже Царь отказался принимать судебное решение, связанное с уголовным наказанием по отношению к дворянину, ограничившись вынесением денежного штрафа, который так и не удалось изъять, так как фактически не был отработан механизм взимания денежных штрафов с лиц правящего сословия.
Очень трудно было доказать властям факт отпуска бывших крепостных крестьян на волю, так как соседние землевладельцы тут пытались таких отпущенников заново охолопить. Причем тон здесь задавали местные чиновники высшего ранга. Приведем пример подобного подхода. Некоторым ретивым боярам, например, рязанскому воеводе Матвею Голицину и царские указы о запрещении «охолоплива-ния лиц, имевших на руках отпускные [18], были «не указы». Когда во время переписи населения украинца Василия Пономарева освободили от холопства, как «иностранца» и дали «свободную память», он переехал на жительство в соседний Воронежский уезд, обзавелся семьей и домом. Матвей Голицин на этом не успокоился, послал своего сына Фому Голицина вернуть беглеца, который вместе с подъячим Кондрати-ем Трухачевым и при поддержке стрельцов нагрянул к нему домой в г. Воронеж, забрал его вместе с семьей. Дочерей Василия Пономарева Акулину и Дуньку отдали замуж насильственно за крестьян, немедленно причислив их крепостным, а жену заковали в цепи и отправили работать в поле. Только случайно переданная в Судный приказ челобитная позволила освободить по решению суда Судного Приказа самого В. Пономарева и его жену, а их дочери, насильственно отданные замуж за крепостных, так и стались в крепостной зависимости [19].
О том, что в судах добиться правды было практически невозможно, писали в разные инстанции не только свободные (черносошные) крестьяне, но и даже мелкопоместные дворяне. В одной из своих коллективных челобитных, поданных царю через Челобитный приказ, мелкопоместные дворяне писали о невозможности решить дело о беглых крестьянах в суде: «…в пять лет мы тех своих крестьян и людишек за твоей государевою беспрестрастною службой и за московскою волокитой проведеть не можем, а на них (сильных и богатых) не можем и суда добитца. А хто и суда добъетца, а мы…волочимся за судными делами на Москве и в приказах лет по 5 и по 10 и больши…а беглые наши крестьяне из лет уходят» [20].
Из происшедшего можно сделать ряд заключений. Во-первых, в России XVII века не было законов, отстаивающих и защищающих права детей от преступных посягательств на их честь и личное достоинство. Во-вторых, как показал пример боярского сына Ивана Гаврилова, подписавшего кабальный договор, подписание подобных документов малолетними людьми приравнивалось к подписи взрослого. В-третьих, похищение детей, принадлежащих к т.н. «тягловым сословиям», в целях закабаления, редко становилось достоянием известности, так как поиск пропавших при подобных обстоятельствах людей свободных крестьян и горожан редко заканчивался успешно.
Нередко имели место факты, когда государственные чиновники не только не боролись с произвольным закабалением свободных людей, но всячески поощряли подобные факты. Более того, государственные чиновники своим бездействием всячески поддерживали подобный произвол. Так, в мае 1693 года украинский казак Иван Рубцов по дороге в город Курск был захвачен вместе с женой и детьми вооруженными дворовыми людьми рыльского помещика Наума Люшина и насильно, под угрозой смерти, приведен в поместье вышеупомянутого помещика. Все его имущество немедленно было разграблено, а лично ему, его жене и детям было предложено подписать договора о «кабальной крепости». То есть, Наум Люшин предложил малороссиянину пополнить ряды его крепостных крестьян, обещая предоставить для проживания избу и выделить надел.
После отказа Ивана Рубцова, как и членов его семьи, подписать подобные бумаги, Иван Рубцов был отпущен, а его семья продолжала удерживаться насильно в имении Наума Люшина до тех пор, пока он не «одумается и не примет «верное решение». Курский воевода, выслушав жалобу И. Рубцова, переадресовал ее в город Севск, где также отказывались ее рассматривать. Свой отказ курский воевода мотивировал тем, что потерпевший не являлся жителем Курского уезда, а был всего лишь «гостем». Пока И. Рубцов «искал правду» в Москве, Наум Люшин вместе со своими дворовыми людьми приехал в Курск и, «надеясь на свою мочь и богатство», будучи уверенным в своей безнаказанности, окончательно разорил городской дом Ивана Рубцова и забрал себе его имущество [21], при этом он якобы руководствовался указом царя, разрешавшем присваивать помещи- кам имущество крепостных крестьян [22]. Только заступничество чиновников суда Разрядного Приказа заставило Н. Люшина освободить членов семьи Ивана Рубцова на том основании, что они не подписали «кабальный договор». При этом в судебном решении не было сказано о возмещении И. Рубцову со стороны помещика Н. Люшина какого-либо ущерба, а сам Н. Люшин, несмотря на очевидность совершенного им преступления, так и не понес никакого наказания [23].
По итогам дела И. Рубцова можно сформулировать некоторые выводы. Во-первых, помещики не только легко уходили от ответственности за совершение преступлений, связанных с посягательствами на свободу и неприкосновенность личности, но и, во-вторых, пользуясь своими коррупционными связями с местными чиновниками, продолжали безнаказанно похищать и закабалять людей.
Следует отметить, что похищение людей с целью закабаления было поставлено на поток. Достаточно значительное число свободных людей незаконно задерживалось, у них немедленно требовании подписать всевозможные кабальные договора, при этом для того, чтобы людей вынудить это и это было незаконно [24], не гнушались никакими средствами. Приведем примеры подобного положения дел. Так, сыновей стрельца Григория и Паршутку Никитиных по приказу бояр-вотчинников Семена Саморокова и Якова Чарыкова в августе 1666 года захватили на большой дороге и заперли в доме в селе Сараи Козловского уезда, добиваясь от них подписания договора о закабалении [25]. По просьбе их отца был организован поиск, который не «дал никаких результатов». И только во время поиска беглых, которые организовали уездные власти, их удалось обнаружить и освободить. Причем, бояре-вотчинники не понесли никакого наказания. Имели также место факты, когда свободные люди безнаказанно могли просидеть в поместной тюрьме в оковах, как, например, стрелецкий сын Григорий Кириллов пробыл 9 лет в заточении у боярина Епифана Бехтина, где его практически морили голодом и всячески унижали. И никакой управы на зарвавшихся помещиков не было, власти всячески «отмахивались» и игнорировали подобные жалобы, несмотря на многолетнюю и безупречную службу их отцов [26].
Выходец с Украины Игнат Ходанов в своей жалобе указал на то, что в Комарицкой волости Белгородского уезда, как только он приобрел дом, ему не стало прохода от «местных детей боярских», которые всячески пытались «взять его в холопы» [27]. Целый год прожил в кандалах уроженец Украины Прокофьев, которого Масальский воевода Епифан Хитрово заставлял подписать кабальный договор. Однако, несмотря на то, что Прокофьеву удалось убежать, он по дороге был схвачен дворовыми князя Дмитрия Горчакова, который также пытался его закабалить [28].
Таким образом, по итогам этих рассмотренных примеров можно однозначно признать, что, во-первых, представители правящих сословий, несмотря на совершение ими преступлений, связанных с посягательством на честь и достоинство личности, в большинстве случаев оставались безнаказанными. Во-вторых, многочисленным фактам насильственного и обманного вовлечения свободных людей в холопы и крепостные в большинстве случаев не давалась принципиальная оценка. В-третьих, насильственное вовлечение в холопы и крепостные было поставлено на поток, при этом дворяне и бояре для достижения своих целей не гнушались никакими средствами. В-четвертых, вопреки категорическому запрещению неволить служилых людей и иностранцев [29], именно эти категории, ввиду их бесправия и практической незащищенности, становились главным объектом преступного посягательства.
Труднообъяснимая безнаказанность со стороны власти поощряла дворян и бояр на новые преступные деяния по закабалению людей. Как видно из документов того времени, в атмосфере безнаказанности и распущенности со стороны сильных, влиятельных и богатых, «маломощные» люди чувствовали себя на положении «затравленных зверей». Любого человека могли безнаказанно схватить на улице, заковать в кандалы, в которых люди томились годами, до тех пор, пока они не подпишут требуемый с них так называемый «кабальный» договор, после чего наступал переход в «крепостные холопы» и жертва подобного деяния вообще лишалась каких-либо гражданских и имущественных прав. Серьезной предпосылкой для «вечного охолопления» стали царский указ 1597 года «О шестимесячной службе» и Соборное Уложение 1649 года о трехмесячной службе. Многие бояре и дворяне восприняли этот указа, как возможность насильственно и навсегда «охолопить» служивых людей. Причем, попытки охолопить свободных людей, даже из числа боярских и дворянских детей нередко предпринимались и до принятия Соборного Уложения 1649 года.
Помимо местных бояр-землевладельцев в описываемое время всякие безобразия на местах чинили и должностные лица местной администрации — воеводы, хотя на них и была возложена в качестве одной из задач — охрана закона. Хотя им по Соборному Уложению 1649 года было категорически запрещено брать кого-либо в служилые кабалы [30], они все равно безнаказанно нарушали закон. В то же время воеводы пытались ловить и закабалять в холопы преимущественно среди иноземцев.
Известны случаи «охолопления» иноземцев воеводами Иваном Бутурлиным [31], князем Петром Урусовым, который попытался закабалить смоленского шляхтича Афоню Хвалынского, долгое время продержав его в своем имении в оковах [32]. Могилевский воевода Михаил Воейков охолопил в 1657 году солдатскую жену и детей, муж которой находился на войне и не мог за них вступиться [33]. И все это делалось в обход царских указов от 6 сентября 1639 года и 13 июня 1661 года, которые категорически запрещали держать иноземцев в неволе, так как иноземцы не знали законов, обычаев, не имели родственников и, зачастую, не могли даже объясниться на русском языке.
Нередко воеводы сажали без вины людей в тюрьмы, держали их там годами, а за освобождение тре- бовали подписать грамоту «о крепости», то есть закабалении, причем в числе этих лиц оказывались люди боярского сословия [34]. Так в 1673 году черноярский воевода Гаврила Юсупов насильственно удержал возвратившегося из крымского полона боярина Сафона Леншина и, заковав его в цепи, добился того, что тот женился на крестьянке, подписал кабальный договор и превратился в крепостного [35].
Жалоб, поступающих в Разрядный приказ по стране было так много, что московские чиновники были вынуждены как-то на них реагировать. В одних случаях они просто ограничивались изданием царского указа об освобождении невольников, при этом воеводы, виновные в происшедшем, как правило, никакой ответственности не несли и выполнять царские указы не спешили. В других случаях, Разрядный приказ предписывал соседним воеводам прибыть на месте и «разобраться в произошедшем». Такие указания отдавались в тех случаях, когда выяснялось, что тот или иной конкретный человек не подлежал «охолоплению». В частности, в 1691 году белгородскому воеводе Б. П. Шереметеву было предписано разобраться с деяниями зми-евского воеводы Дурного и миропольским воеводой Леонтьевым [36].
В наиболее запутанных делах на соседнего воеводу также возлагалось собирание материалов по конкретному делу, связанному со злоупотреблениями других воевод. В 1699 году указом Петра I Одоевскому воеводе было приказано прибыть в город Тулу и разобраться с тульским воеводой Н. Усовым. Одновременно Н. Усову была послана так называемая «послушная грамота». Дело завершилось тем, что когда Одоевский воевода по царскому указу послал своего подьячего в Тулу, тульский воевода обиделся этим и не пошел на допрос, тем самым, даже нарушив царский указ [37].
Иногда, в незначительных случаях, связанных с нарушениями прав личности, власти поручали расспросить местного воеводу нижестоящим чиновникам. Например, в 1678 году по жалобе на Орловского воеводу и его подьячего было указано: «послать грамоту на Орел к голове стрелецкому или к губному старосте, велеть им против всего челобитья воеводу расспросить, а также и подьячего про все подлинно: по какому указу они все это (противоправное деяние — прим. авт.) чинили [38].
Данные факты говорят о том, что, во-первых, в государстве на то время не существовал механизм воздействия на воевод, нарушающих законодательство. Во-вторых, в конце XVII века в России утвердилась практика, когда с нерадивыми воеводами государство уполномочивало разбираться других воевод. В-третьих, отсутствие специализированного органа, обязанного, как, прокуратура, следить за соблюдением правопорядка, государств компенсировало, посылая для разбирательства по фактам нарушений чиновников низкого ранга, что не могло привести к объективному расследованию.
Разрядный Приказ, получив жалобу, всегда ограничивался рассмотрением проблемы: правильно или неправильно человека перевели в холопы, однако ни- когда не рассматривал вопрос о виновности или невиновности воевод и других должностных лиц, ответственных за незаконное закабаление. Сохранился один единственный документ, в котором говорилось о материальном наказании Орловского воеводы Са-фона Карпова, который незаконно заключил в тюрьму женщину — боярыню и ее сыновей, как беглых крестьян. Ретивые сыщики, встретив ее повозку на дороге, приняли ее вместе с детьми за беглых крестьян. Документов у боярыни с собой не было, а ее объяснения не были приняты в расчет. Все они немедленно были заключены в тюрьму и несколько месяцев просидели в общей камере с преступниками, будучи полностью закованными в кандалы. Дело получило широкую огласку, так как за боярыню вступились ее родственники, случайно узнавшие о случившемся. Разрядный приказ присудил воеводе штраф в виде компенсации для пострадавших [39]. Представляется, что только ошибочное заключение в тюрьму представительницы правящего сословия, заставило власти пойти на наложение на воеводу, ответственного за случившееся, крупного штрафа. В отношении незаконно задержанных простых граждан возможность наказания воевод даже не рассматривалась.
Только при делах особой важности, при отсутствии письменных доказательств, а также при решающей важности свидетельских показаний Разрядный приказ вызывал в Москву виновных воевод и их свидетелей. В 1699 году, когда выяснилась конкретная вина Новосильского воеводы в злоупотреблениях, связанных с незаконным «охолопливанием», царь Петр I послал указ казачьему и стрелецкому голове арестовать воеводу и доставить его в Москву [40]. Однако о таких делах известно немного.
Так, в 1627 году курский боярин Савелий Маслов попытался насильственно охолопить другого боярского сына из обедневшего рода Томилко Поркова, превратив его в крепостного крестьянина [41]. В другом случае, годом спустя, боярский сын Олимпийка Переверзев попал за драку за месяц в местную тюрьму, после чего другой боярский сын Полуэкт Васютин выкупил его за полтину (50 копеек) у местного воеводы и повелел «вместе с семьей жить у него», намереваясь превратить в холопа. Был подписан кабальный договор об уплате этих 50 копеек долга. После двух лет «гостевания», когда, казалось, долг был отработан сполна, Полуэкт Васютин отказался вместе с семьей его отпустить, ссылаясь на некую новую «запись», согласно которой Переверзев был обязан отработать на него 5-летний срок. Когда же Переверзев ушел от него с целью «найти правду», он немедленно заковал в цепи его жену и детей с целью вернуть «непослушного холопа». Так в цепях его жена и дети были вынуждены долгое время на него работать, пока О. Переверзев не доказал на суде свою правоту [42].
Освободив от кабального договора, как «исчерпанного событиями» самого Переверзева, членов его семьи, судья, тем не менее, отказался принимать меры по наказанию П. Васютина, так как был признано, что «хозяин вправе ограничивать своего холопея и его домчадцев до уплаты долга». То есть, государство фак- тически поощряло лиц, владеющих холопами, к дальнейшему поддержанию этого «социального института».
Помимо украинцев-малороссов, признаваемых в XVII веке в России «иностранцами», а значит не попадавших по закону под охолопливание, в России предпринимались многочисленные, и весьма небезуспешные, попытки, охолопить служивых людей (солдат, стрельцов). В октябре 1674 года достоянием гласности стал случай с отставным солдатом Петром Ве-левцевым, которого, после того, как он, вернувшись с Русско-польской войны, уволился, его пригласил вместе с семьей «погостить» помещик Петр Каменев. Длительное время отставной солдат вместе с семьей был вынужден выполнять всякую крестьянскую работу, а когда это ему надоело, и он отказался, уйдя с поместья, Петр Каменев немедленно заковал его жену и детей в цепи, которые и были вынуждены в поле работать в шейных и ножных оковах, учинял им всякие другие притеснения [43].
Достаточно ошибочным является утверждение о том, что закрепостить и охолопить свободных людей пытались исключительно бояре и дворяне. Это — заблуждение. Нередко, подобную практику закрепостить свободных людей применяли даже священнослужители, о чем свидетельствует жалоба боярского сына Григория Романова на игумена Сергиевского монастыря, который хотел его «уговорами и силою» «охолопить» [44]. В августе 1677 года в Разрядный приказ поступила жалоба со стороны смолян Малаховского стана Лабыкина, братьев Полуэктовых, Филиппова и Иванова о том, что священник Ефрем Иванов насильственно их удерживает и заставляет работать на себя в своем подворье [45]. Охолоплением свободных людей занимались и чиновники поменьше: дьяки, подъячие, губные старосты и просто солдаты. Так, в 1645 году губной староста в Козельске Соломы-кин закабалил стрелецких детей Родиона Кунайкова и Малюту Федорова.
Сооблазн безнаказанно закрепостить людей был настолько велик, что даже забывались родственные чувства. Казачий сын Милютка Буняев обратился в Разрядный приказ с жалобой на своих двоюродных братьев с тем, что те, после смерти его отца попытались женить его на крестьянке и «охолопить» [46]. Нередко бояре и дворяне обманывали свободных людей, скрывая, что отдают им в жены холопок. После этого они заявляли: «…где муж — тут и жена; кому жена — тому и муж» [47]. Тем самым, они подводили под закабаление вполне законную основу. Шестимесячная и трехмесячная служба, как возможность стать «холопом поневоле», была более опасна для свободных людей, так как давала больше повода их закабалить.
Подведем некоторые итоги. Окончательное утверждение крепостного права в России активизировало противоправную деятельность дворян, бояр и других представителей правящего сословия по закабалению свободных крестьян, лично свободных представителей других сословий, переводу их к числу крепостных зависимых крестьян и дворовой челяди (холопов).
Государство, выступая на словах противником насильственного закрепощения граждан, фактически поддерживало охолопливание и закрепощение крестьян при помощи, во-первых, перевода свободных людей в холопы и крепостные по «собственному желанию». Во-вторых, всячески уводило от ответственности лиц дворянского или боярского сословий, замешанных в подобных фактах. В-третьих, нередко имел место отказ судов преследовать лиц дворянского и боярского сословий, совершивших противоправные действия по окабалению граждан. В-четвертых, государство фактически поощряло «волокиту» по подобным делам и закрытие этих дел по «малозначимости». В-пятых, похищение людей, принадлежащих к так называемым «тягловым» сословиям, в целях закабаления, в редких случаях расследовалось судами и чиновниками. В-шестых, воеводы нередко, под различными предлогами отказывались рассматривать подобные дела.
Помещики и вотчинники не только легко уходили от ответственности за совершение преступлений, связанных с посягательствами на свободу и неприкосновенность личности, но и, пользуясь своими коррупционными связями с местными чиновниками, продолжали безнаказанно похищать и закабалять людей.
В государстве отсутствовал механизм воздействия на воевод, нарушающих законодательство, утвердилась практика, при которой с нерадивыми воеводами государство уполномочивало разбираться других воевод. Отсутствие специализированного органа, обязанного следить за соблюдением правопорядка, государство компенсировало, посылая для разбирательства по фактам нарушений одних чиновников других таких же чиновников, что не могло привести к объективному расследованию.
Список литературы Основные средства и способы насильственного охолопления свободных граждан России во второй половине XVII века
- Новомбергский Н. Вымученные кабалы в Московской Руси XVII столетия//Журнал Министерства юстиции. № 5 и №6. 1915. С. 288-338.
- Шевченко М. М. История крепостного права в России. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1981. С. 117.
- Это была очень значительная сумма, на которую можно было приобрести в те времена дом с подворьем (прим. авт.).
- Российский государственный архив древних актов (далее РГАДА), Ф. Поместного приказа, Приказные статьи, д, 202, л. 15-20.
- РГАДА, Ф. Поместного приказа, Белгородский стол, Ст. 1232, л. 195-196.
- Новомбергский Н. Вымученные кабалы в Московской Руси XVII столетия//Журнал Министерства юстиции. № 5 и №6. 1915. С. 288 -338.
- Новомбергский Н. Вымученные кабалы в Московской Руси XVII столетия//Журнал Министерства юстиции. № 5 и № 6. 1915. С. 288 -338
- РГАДА, Ф. Поместного приказа, Приказные статьи. д. 1342, л. 1.
- Новомбергский Н. Вымученные кабалы в Московской Руси XVII столетия//Журнал Министерства юстиции. № 5 и №6. 1915. С. 288 -338.
- Новомбергский Н. Вымученные кабалы в Московской Руси XVII столетия//Журнал Министерства юстиции. № 5 и № 6. 1915. С. 288 -338
- Новомбергский Н. Вымученные кабалы в Московской Руси XVII столетия//Журнал Министерства юстиции. № 5 и № 6. 1915. С. 288 -338.
- РГАДА, Ф. Поместного приказа, Приказные статьи, Д. 1549, л. 167-168. Другие похожие примеры содержатся в Приказных статьях за 1667 год: Ст.: 2729, л. 167; Белгородские статьи, ст. 1081, л. 2012; для 1693 года: Приказные статьи., 1732, л. 1; для 1698 года: Приказные статьи 2429, л. 8.
- Шевченко М.М. История крепостного права в России..С. 118.
- Новомбергский Н. Вымученные кабалы в Московской Руси XVII столетия//Журнал Министерства юстиции. № 5 и № 6. 1915. С. 288 -338
- Новомбергский Н. Вымученные кабалы в Московской Руси XVII столетия//Журнал Министерства юстиции. № 5 и №6. 1915. С. 288 -338.
- РГАДА, Ф. Поместного приказа, д. 2729, л. 14.
- РГАДА, Ф. Поместного приказа, Белгородский стол, д. 1232, л. 291.
- РГАДА, Ф. Поместного приказа, Владимирский стол, д. 32, л. 154
- Соборное Уложение 1649 года. -Гл. XX, Ст. 58, 117
- РГАДА, Ф. Поместного приказа, Приказные статьи, д. 16, л. 618
- РГАДА, Ф. Поместного приказа, Севский стол, д. 127, л. 76.
- РГАДА, Ф. Поместного приказа, Белгородский Стол, д. 1597, л. 290-293.
- РГАДА, Фонд Поместного приказа, Приказные статьи за 1678 год.: д. 786, л. 1.
- РГАДА, Приказные статьи за 1682 год: ст. 2800, л. 19-19 об.
- РГАДА, Приказные статьи за 1699 г.: Ст. 2800, л. 19.
- РГАДА, Приказные статьи. Ст. 24, л. 635.
- РГАДА, Ф. Поместного приказа, Севский стол, д. 154, л. 458459.
- РГАДА, Ф. Поместного приказа, Приказные статьи, ст. 442, л. 273.
- РГАДА, Ф. Поместного приказа, Белгородский стол, д. 856, л. 261.
- РГАДА, Ф. Поместного приказа, Приказные статьи, ст. 2729, л. 282.
- Соборное Уложение 1649 года. -Глава XX, ст. 62.