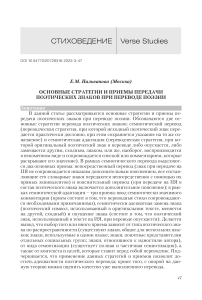Основные стратегии и приемы передачи поэтических знаков при переводе поэзии
Автор: Пальванова Е.М.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Стиховедение
Статья в выпуске: 3 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются основные стратегии и приемы передачи поэтических знаков при переводе поэзии. Обозначаются две основные стратегии перевода поэтических знаков: семиотический перевод (переводческая стратегия, при которой исходный поэтический знак передается практически дословно, при этом сохраняется указание на то же означаемое) и семиотическая адаптация (переводческая стратегия, при которой оригинальный поэтический знак в переводе либо опускается, либо замещается другим, сходным, знаком, или же, наоборот, воспроизводится в неизменном виде и сопровождается сноской или комментарием, которые раскрывают его значение). В рамках семиотического перевода выделяются два основных приема: непосредственный перевод (знак при передаче на ПЯ не сопровождается никаким дополнительным пояснением, все составляющие его словарные знаки передаются непосредственно с помощью их прямых эквивалентов) и пояснительный перевод (при передаче на ПЯ в состав поэтического знака включается дополнительное пояснение); в рамках семиотической адаптации - три приема: ввод семиотически значимого комментария (прием состоит в том, что переводные стихи сопровождаются необходимыми примечаниями), семиотически адекватная замена знака (поэтический символ, использованный в оригинальном тексте, меняется на другой, сходный) и опущение знака (состоит в том, что поэтический знак, использованный в тексте на ИЯ, при переводе опускается). Делается вывод, что выбор того или иного приема зависит от типа поэтического знака по распространенности (существуют знаки, общие для нескольких языков; знаки, используемые в одном языке; знаки, понятные представителям отдельных социальных групп; знаки, относящиеся к идиостилю автора), от вида семиотизации (существует полная и частичная семиотизация), а также от контекста и целей, которые ставит перед собой переводчик. Подчеркивается, что применение данных стратегий и приемов позволит достичь адекватности поэтического перевода; кроме того, с опорой на данную теорию можно оценить качество уже выполненного перевода.
Переводоведение, поэтический перевод, переводческие стратегии, семиотика, семиотизация, семиотическая адекватность, поэтический знак
Короткий адрес: https://sciup.org/149143548
IDR: 149143548 | DOI: 10.54770/20729316-2023-3-47
Текст научной статьи Основные стратегии и приемы передачи поэтических знаков при переводе поэзии
Как известно, перевод поэзии считается одним из самых трудных видов перевода – вплоть до того, что некоторые исследователи в разное время говорили о невозможности поэтического перевода в принципе. Так, С. Маршак писал: «Перевод стихов – высокое и трудное искусство. Я выдвинул бы два – на вид парадоксальных, но по существу верных – поло-
Е.М. Пальванова (Москва) | Основные стратегии и приемы передачи поэтических знаков ... жения: Первое. Перевод стихов невозможен. Второе. Каждый раз это исключение» [Маршак 1990, 65]. Поэтический текст максимально насыщен информацией, и все его элементы считаются важными для передачи на ПЯ. От переводчика ожидают, что он не только передаст смысл стихотворения, но и сохранит все формальные признаки оригинала (ритм, рифму, количество стоп, а также, при наличии, синтаксический параллелизм, анафору, аллитерацию и другие приемы), и при этом стихотворение в переводе должно производить на читателя такое же впечатление, что и оригинал.
Как правило, адекватность перевода оценивают на каждом из уровней (семантическом, структурном и прагматическом) отдельно. При этом, однако, не совсем понятно, каким образом оценить адекватность перевода в целом, поскольку, стараясь сохранить эквивалентность на одном уровне, переводчик может вынужденно утратить ее на другом. «Переводчику поэтических текстов нередко приходится делать выбор между сохранением атмосферы оригинала, размера стиха и точной передачей смысла. Достичь первого без смысловых потерь или же, напротив, привнесения новых оттенков смысла порой просто невозможно. С другой стороны, погоня за точностью иногда приводит к тому, что воссоздать настроение стиха становится весьма затруднительно», – утверждает, рассуждая об этой проблеме, В. Лукина [Лукина 2014, 144].
Некоторые исследователи указывают, что добиться адекватности перевода на всех уровнях невозможно. Такой точки зрения придерживается, например, Т. Егорова: «В практике полноценный адекватный перевод невозможен в силу различия языковых, лексических, грамматических форм, существования непереводимых реалий и фразеологических оборотов, которые не имеют эквивалентов в переводящем языке» [Егорова 2018, 80].
В результате перед переводчиками и переводоведами встают следующие вопросы: какой перевод можно считать адекватным, и как добиться общей адекватности перевода? Нам представляется, что ответы на них можно найти, обратившись к семиотике и рассматривая поэтические тексты на ИЯ и ПЯ как семиотические образования.
С прошлого века и по настоящее время многие литературоведы и лингвисты склонны рассматривать поэтический текст как совокупность поэтических знаков (В. Фещенко, Ю. Лотман, А. Потебня и др.). [Фещенко 2014; Лотман 1970; Потебня 1990]. Кроме того, достаточно много исследователей обращаются к семиотике для оценки адекватности перевода (Н. Гарбовский, Н. Базылев и др.) [Гарбовский 2004; Базылев 2008]. Однако понятие семиотической адекватности исследуется в основном применительно к устному переводу, а также к переводу текстов на общественные и политические темы. Семиотический подход поможет определить, насколько важна каждая конкретная единица информации в переводимом поэтическом тексте, какие компоненты оригинала можно опустить в переводе, а какие необходимо передать, и, наконец, с помощью каких переводческих стратегий и приемов это следует сделать. В том, что при переводе поэзии неизбежно приходится опускать часть информации, которая присутствуют в оригинале, согласны многие исследователи. Еще В. Брюсов утверждал: «воспроизвести при переводе стихотворения все эти элементы полно и точно – немыслимо... Выбор того элемента, который считаешь наиболее важным, составляет метод перевода» [Брюсов 1973, 106].
Прежде всего дадим определение семиотической адекватности поэтического перевода: это соотношение между исходным и переводным поэтическими произведениями, при котором поэтические знаки, присутствующие в переводе, соответствуют поэтическим знакам, содержащимся в оригинале. Под поэтическим знаком мы понимаем прежде всего поэтический образ, то есть способ воплощения предметно-понятийного мира автора посредством различных поэтических средств (метафоры, гиперболы, метонимии, синекдохи и др.). Поэтический знак – образование более крупное, чем языковой знак, или равняющееся ему, означаемое которого не равно сумме смыслов входящих в него языковых знаков.
Такого типа поэтические знаки рассматривали многие литературоведы, в том числе А. Потебня [Потебня 1990]. Так, в качестве примера поэтического знака А. Потебня приводит строчку из народной песни «Шафранное колесо выше тына стояло, много дива видало», в которой «шафранное колесо» символизирует солнце [Потебня 1990, 26]. Помимо знаков-образов существуют поэтические знаки и другого типа – структурные (в этом случае речь идет о семиотизации самой формы стихотворения). Поэтические знаки такого типа изучал, например, У. Эко [Эко 2006]. Однако в данном исследовании рассматриваются в основном знаки-образы и способы их передачи на ПЯ.
Если обратиться к поэтическим текстам и их переводам, то можно заметить, что существует несколько возможных подходов к передаче поэтических символов на ПЯ. Так, поэтические знаки могут быть переведены практически дословно, без каких-либо изменений. В других случаях переводчики несколько видоизменяют знак, дополняют его каким-либо пояснением, эпитетом и т.д. Иногда они предпочитают не вставлять дополнительную информацию прямо в текст, а сопровождают поэтическое произведение сноской или примечанием, где раскрывают значение поэтического знака. Еще один возможный способ передачи поэтических знаков на ПЯ заключается в замене одного поэтического знака на другой, похожий. Наконец, в некоторых ситуациях переводчики не передают исходный поэтический знак вовсе, т.е. опускают его.
Очевидно, что выбор той или иной стратегии не в последнюю очередь зависит от того, будет ли понятен каждый конкретный поэтический знак читателям текста на ПЯ. Существуют, например, так называемые «общепринятые» поэтические знаки, общие для нескольких языков, интуитивно понятные представителям различных культур: дождь символизирует грусть, солнце – радость, весна – юность, любовь и начало чего-то нового и т. д. Такие знаки можно встретить в различных поэтических текстах, созданных на разных языках. В качестве примера приведем три стихотворения на русском, английском и французском языках, где весна выступает символом обновления (а также юности и любви):
|
И я бегу в коротеньких штанишках С косичкою к тебе, весна, навстречу. И. Самарина-Лабиринт [Свой голос 2020, 224] |
Last year is dead, they [the leaves – E.P.] seem to say, Begin afresh, afresh, afresh. Ф. Ларкин [В двух измерениях 2009, 144] |
Joli Chardonneret tu es sorti de l’ombre Posé sur la rambarde pour venir me chanter Une ode à la Nature, au Soleil, au Printemps, Tu es venu me dire que l’Amour est devant. Э. Санто [Французская поэзия в переводах русских поэтов 2005, 563] |
В первом примере детские годы ассоциируются с весной и началом жизни. Во втором английский поэт Ф. Ларкин использует образ весенних листьев как символ возможности начать все заново, т.е. в этом стихотворении весна также символизирует начало нового цикла («А вслух [листья – Е.П.] гласят: «Весна пришла! Начните с нового листа» [В двух измерениях 2009, 145]; перевод Г. Кружкова). В третьем же стихотворении, написанном на французском языке, весна становится символом начала нового периода в жизни, прихода счастья и любви (дословно: «Милый щегол, ты выпорхнул из тени / И сел на ограду, чтобы спеть для меня / Оду Природе, Солнцу и Весне. / Ты принес весть, что впереди ждет любовь» [Французская поэзия в переводах русских поэтов 2005, 563]). Все эти значения поэтических знаков интуитивно понятны представителям всех трех культур (отечественной, английской и французской) и не требуют дополнительного истолкования.
В еще одну категорию можно объединить поэтические знаки, относящиеся к идиостилю автора. Эти знаки изобретает и наполняет смыслом сам автор. В качестве примера можно привести поэтические символы из произведений, написанных на разных языках:
|
мне – плачущей любою мышцей в теле, мне – ставшей тенью, слабою длиной, не умещенной в храм Свети-Цховели… Б. Ахмадулина [Ахмадуллина 2011, 287] |
Deep though it [the ocean – E.P.] may be and bitter You must drink it dry. У.Х. Оден [В двух измерениях 2009, 76] |
Puis il jette le couteau par terre Mais la baleine s’en empare Et se précipitant sur le père Elle le transperce de part en part Ж. Превер [Французская поэзия в переводах русских поэтов 2005, 632] |
|
Океан ли встретишь – выпей Океан до дна. Перевод Г. Кружкова [В двух измерениях 2009, 77] |
И тут же Проспер бросает На землю нож. Кит его поднимает И протыкает беднягу отца От одного до другого конца. Перевод М. Кудинова [Французская поэзия в переводах русских поэтов 2005, 633] |
Как правило, читатель интерпретирует знаки, относящиеся к идиости-лю автора, опираясь на контекст и собственные фоновые знания об авторе, а также стране и времени, когда это стихотворение было написано. Часто истолкование знаков зависит от личности читателя, его характера, опыта, мировоззрения и т.д. Что же до принадлежности к той или иной культуре, то это влияет на понимание поэтического знака читателем минимально. Соответственно, такие знаки также не требуют дополнительных пояснений при переводе.
Существуют, однако, поэтические знаки, которые понятны только в пределах какой-либо одной культуры (т.е. носителям только одного языка), а также знаки, понятные представителям лишь отдельных социальных групп. Такие знаки культурно обусловлены: представители другой культуры вряд ли смогут осмыслить их метафорическое и коннотативное значение, ограничившись лишь пониманием отдельных языковых знаков. Например, символ, характерный именно для русской культуры – береза. У отечественных читателей она ассоциируется с родиной, ностальгией, домашним теплом, а также женственностью, юностью и красотой. Представителям иных культур весь этот ассоциативный ряд не будет близок. Для большинства иностранных читателей «береза» означает всего лишь «дерево». Следовательно, если переводить поэтический знак дословно, иностранный читатель в лучшем случае сможет уловить визуальный компонент знака (т.е. представить себе березу), тогда как его метафорическое значение и коннотативные оттенки будут полностью потеряны. Значит, чтобы передать все компоненты данного знака на ПЯ, необходимо его как-то интерпретировать.
То же может касаться и знаков, понятных представителям отдельных социальных групп. Эти символы указывают на означаемое, которое известно лишь узкому кругу читателей, например, членам одного кружка по интересам, сотрудникам одного предприятия, представителям какой-либо профессии или субкультуры и т.д. В качестве примера такого знака можно привести имена «Мэри Сью» и «Марти Сью», которые в литературе «фанфикшн» обозначают неправдоподобно талантливых, ненатуральных, «картонных» героев и обладают ярко выраженной негативной коннотацией. При передаче таких знаков важно определить, какой потенциальный читатель у переводимого произведения. Если читать его будут преимущественно представители той же самой группы (некоторые подобные группы являются полилингвальными и поликультурными), то никакого дополнительного пояснения не требуется. Если же перевод рассчитан на более широкий круг читателей, то важно дополнить его необходимыми пояснениями, чтобы знак стал понятен читателям.
Итак, анализ поэтических произведений и их переводов, а также разделение знаков на различные типы, позволяют выявить две основные стратегии передачи поэтических знаков. Представляется, что можно назвать их терминами «семиотический перевод» и «семиотическая адаптация».
Семиотический перевод – переводческая стратегия, при которой исходный поэтический знак передается практически дословно, при этом сохраняется указание на то же означаемое. Если какой-либо компонент означаемого при переводе теряется (визуальный образ, метафорическое значение или коннотации), знак на ПЯ может быть дополнен необходимым пояснением, включенным прямо в поэтический текст, с помощью которого раскрываются те составляющие значения, которые были утрачены при переводе.
Таким образом, внутри этой переводческой стратегии можно выделить два приема. В первом случае знак при передаче на ПЯ не сопровождается никаким дополнительным пояснением, все составляющие его словарные знаки передаются непосредственно с помощью их прямых эквивалентов. Соответственно, этому приему можно дать название «непосредственный перевод». Второй же прием состоит в передаче поэтического знака на ПЯ с включением в его состав дополнительного пояснения. Следовательно, его можно обозначить как «пояснительный перевод».
Представляется, что все поэтические знаки, общие для ИЯ и ПЯ, а также знаки, относящиеся к идиостилю автора, логичнее всего было бы передавать с помощью непосредственного перевода. Что касается тех знаков, которые понятны носителям только одного языка или же представителям одной социальной группы, к ним можно применять прием пояснительного перевода.
Именно с помощью непосредственного перевода были переданы многие поэтические знаки, общие для нескольких языков и относящиеся к идиостилю автора, уже упомянутые выше (все выделения принадлежат автору статьи, если не указано иное):
|
мне – плачущей любою мышцей в теле, мне – ставшей тенью, слабою длиной, не умещенной в храм Свети-Цховели… Б. Ахмадулина [Ахмадуллина 2011, 287] |
Moi qui pleure par tous les muscles de mon corps, devenue une ombre rétrécie, qui n’entre pas dans l’église de Sveti-Tskhoveli… Перевод К. Зейтунян-Белоус [Cahier critique de poésie 2011, 17] |
|
Deep though it [the ocean – E.P.] may be and bitter You must drink it dry. У.Х. Оден [В двух измерениях 2009, 76] |
Океан ли встретишь – выпей Океан до дна. Перевод Г. Кружкова [В двух измерениях 2009, 77] |
|
Puis il jette le couteau par terre Mais la baleine s’en empare Et se précipitant sur le père Elle le transperce de part en part Ж. Превер [Французская поэзия в переводах русских поэтов 2005, 632] |
И тут же Проспер бросает На землю нож. Кит его поднимает И протыкает беднягу отца От одного до другого конца. Перевод М. Кудинова [Французская поэзия в переводах русских поэтов 2005, 633] |
Тем не менее, встречаются ситуации, когда передавать исходный знак с помощью семиотического перевода не представляется возможным. Так может случиться из-за необходимости сохранить структуру оригинала. В первую очередь это касается поэтических знаков, которые теоретически можно было бы передать посредством пояснительного перевода. Однако часто информативность произведения слишком высока, а пояснение получается слишком объемным, и в итоге дополненный знак просто «не помещается» в тексте.
Так, этот прием мог бы быть использован при переводе стихотворения Г. Гецевича «Искра»:
Затворница и недотрога,
Ответь мне: зачем? Для чего
Ты искру украла у Бога, Впотьмах одурачив его?
Ты вскоре забудешь о краже, Считай, что тебе повезло.
А Бог – не заметит пропажи,
Ему и без искры – светло [Гецевич 2021, 27]
В русском языке, в первую очередь – в поэзии, слово «искра» семи-отизируется и приобретает особое значение. Так, в словаре Д. Ушакова для одного из значений слова «искра» предлагается следующее толкование: «задатки чего-нибудь, зачаток какого-нибудь чувства, какой-нибудь способности, книж., поэт» [Ушаков 2008]. Похожее определение можно найти и в словаре под редакцией С. Кузнецова: «искра божья – о наличии таланта, одаренности у кого-либо» (отметим, что в данном случае здесь к слову «искра» добавляется прилагательное «божья») [Большой толковый словарь русского языка 1998, 675]. Итак, мы видим, что в данном случае «искра», которую лирическая героиня «украла у бога, впотьмах одурачив его», как поэтический знак явно указывает на одаренность героини, на появление у нее таланта к чему-либо, имеющего божественное начало.
В английском языке существует похожий знак «divine spark», который указывает на тот же визуальный образ и на первый взгляд кажется эквивалентом «божьей искры». Однако в действительности мы имеем дело с «ложным другом переводчика»: в английском языке данный поэтический символ указывает на божественное начало, присущее любому существу, делающее его живым, т. е. метафорические значения этих двух знаков не совпадают. Итак, необходимо каким-то образом изменить данный знак при переводе для сохранения адекватности на семиотическом уровне.
Теоретически «искру» можно было бы передать на английском языке при помощи пояснительного перевода – допустим, в виде сочетания «the divine spark of genius», в котором, с одной стороны, сохраняется форма знака («божья искра» – «the divine spark»), а с другой стороны, содержится утраченный компонент значения: сема таланта и даже гениальности. Тем не менее, в переводе на английский язык, найденном нами на одном из ин-тернет-ресурсов, был предложен другой вариант передачи данного знака: «A bit of His fiery genius». Как видно, поэтический знак, использованный в оригинале, при переводе был заменен на другой – вероятно, из-за стремления сохранить структуру оригинала, т. е. рифму и ритмический рисунок:
|
Затворница и недотрога, Ответь мне: зачем? Для чего Ты искру украла у Бога, Впотьмах одурачив его? Г. Гецевич [Гецевич 2021, 27] |
A shy touch-me-not and a recluse, Tell me, why you stole from your God A bit of His fiery genius. So why did you fool Him? For what? [Гецевич 2021, 28] |
Это вплотную подводит нас к еще одной стратегии перевода, которую мы назовем семиотической адаптацией. Семиотическая адаптация – переводческая стратегия, при которой оригинальный поэтический знак в переводе либо опускается, либо замещается другим, сходным, знаком, или же, наоборот, воспроизводится в неизменном виде и сопровождается сноской или комментарием, которые раскрывают его значение. Следовательно, в рамках семиотической адаптации можно выделить три приема: опущение знака, семиотически адекватную замену знака и ввод семиотически значимого комментария.
Очевидно, что некоторые необходимые пояснения, при помощи которых можно раскрыть информацию, не вполне понятную читателям перевода, слишком объемны, чтобы вставлять их прямо в поэтический текст. Именно поэтому многие переводные стихи сопровождаются различными примечаниями. Отметим, что некоторые переводчики и исследователи выступают против данного приема. Так, например, В. Виноградов высказывался против примечаний в каламбурах, указывая, что в хорошем переводе не должно быть «спасительных сносок, разъясняющих суть авторского каламбура… скучных комментариев к веселым каламбурам, этого красноречивого свидетеля переводческого бессилия» [Виноградов 2001, 154]. Тем не менее, в некоторых случаях без введения комментария обойтись практически невозможно. Так, например, стихотворение С. Армитиджа «Песня» писалось как ответ на «Песню скитальца Энгуса» ирландского поэта У. Йейтса – произведение, которое хорошо знакомо читателям из англоговорящих стран, но мало кому известно в России. Без знания сюжета «Песни скитальца Энгуса» понять смысл, вложенный С. Армитиджем в свою «Песню», невозможно. Следовательно, представляется, что единственный способ сделать перевод данного произведение адекватным – сопроводить его сноской, в которой рассказывался бы сюжет стихотворения У. Йейтса. Именно так и поступил переводчик данного стихотворения С. Армитид-жа, В. Светлосанов [В двух измерениях 2009].
В данном примере все стихотворение можно представить как единый поэтический знак, указывающий на произведение У. Йейтса. Таким образом, этот знак является здесь центральным и смыслообразующим. В других ситуациях, если конкретный поэтический знак не играет в стихотворении столь важной роли, возможно, более удачным выбором будет не использовать комментарий, который в той или иной мере всегда затрудняет читательское восприятие, а прибегнуть к другому приему – например, к семиотически адекватной замене знака.
При замене знака поэтический символ, использованный в оригинальном тексте, меняется на другой, сходный. Представляется, что семиотически адекватной можно назвать такую замену поэтического символа, при которой в новом знаке, с одной стороны, сохранятся то же метафорическое значение и та же коннотация, что и в исходном знаке, а с другой – появляется указание на визуальный образ, нетождественный изначальному, однако близкий к нему. К замене знака переводчики прибегают, как правило, по двум причинам: во-первых, если оригинальный поэтический символ потенциально непонятен читателям перевода; во-вторых, если без этого приема невозможно сохранить структуру оригинала.
Именно этот прием и был использован при переводе приведенного выше стихотворения Г. Гецевича: исходный поэтический знак («искра») был замещен другим («a bit of His fiery genius», дословно: «толика его огненного гения»). Как видно, в новом поэтическом знаке сохранено, во-первых, метафорическое значение исходного символа (слово «genius» указывает на то, что что речь идет о некой гениальности); во-вторых, коннотация: в переводном тексте, как и в оригинальном, она особенно ярко видна в сопоставлении чего-то греховного, низкого (украсть, одурачить) с высоким, божественным. Наконец, в новом знаке содержится указание на сходный с оригинальным визуальный образ (прилагательное «fiery» в сочетании с «a bit»). Следовательно, данную замену знака можно считать адекватной.
Последний прием, который можно выделить в рамках семиотической адаптации – опущение. Он состоит в том, что поэтический знак, использованный в тексте на ИЯ, при переводе опускается. Безусловно, вся информация в поэтическом тексте важна и по возможности должна быть передана на ПЯ. Однако существуют случаи, когда опущение знака можно признать «меньшим из зол». Например, если один из использованных в оригинале поэтических символов, с одной стороны, абсолютно непонятен потенциальным читателям перевода и требует объемного, детального пояснения, а с другой стороны, мало влияет на восприятие текста, то допустимо исключить его при переводе и не загружать текст примечаниями. Кроме того, переводчик может вынужденно прибегнуть к приему опущения, если без него не удается передать структуру оригинала. Так, например, большинство слов в английском языке короче слов в русском. «В русском языке больше длинных и коротких слов. Английский же язык преимущественно односложен. Каждая строфа в моем переводе [с русского на английский – Е.П.] содержит в среднем на треть больше слов, чем в оригинале», – утверждал переводчик С. Митчелл [Mitchell 2008, 41]. Соответственно, переводя стихи с английского на русский, ради сохранения поэтического размера и числа стоп переводчик иногда бывает вынужден опускать те или иные знаки. Оговоримся, что использовать этот прием следует с осторожностью, учитывая степень важности каждого поэтического знака. Так, некоторые знаки являются по сути смыслообразующими: они чрезвычайно важны для осмысления и восприятия текста и, следовательно, не могут быть опущены.
Приведем примеры стихов, в которых содержатся опущения поэтических знаков:
Элизабет Барретт Браунинг, Сонет 43
I love thee with the passion put to use In my old griefs, and with my childhood’s faith.
Люблю с той силою, с какой давно Я горевала, с детской верой тою. Люблю, как было мне любить дано Утраченных святых. Дышу тобою Сквозь плач и смех. И, если суждено, Любить и после буду, за чертою. [Отражения… 2020, 48]
I love thee with a love I seemed to lose
With my lost saints. I love thee with the breath, Smiles, tears, of all my life; and, if God choose, I shall but love thee better after death.
[Отражения… 2020, 46]
Дон Патерсон, «Умершие» (The Dead)
What do we know of their part
In this, those secret brothers of the harrow, Invigorators of the soil – oiling the dirt So liberally with their essence, their black marrow?
[Отражения… 2020, 52]
Как нам угадать
Дыхание растений под сохой, Что добровольно вызвались питать Увядшей плотью жирный перегной? [Отражения… 2020, 54]
В первом стихотворении лирическая героиня рассказывает своему супругу, как его любит. Если сравнить оригинал и перевод, станет видно, что в тексте на ПЯ не передан знак «of all my life», который в данном случае служит для того, чтобы подчеркнуть силу любви героини. Тем не менее, в тексте содержится достаточно много других знаков, которые выполняют ту же функцию («I love thee with the passion put to use / In my old griefs, and with my childhood’s faith. / I love thee with a love I seemed to lose / With my lost saints I love thee with the breath, / smiles, tears… » [Отражения… 2020, 46]), и все они переданы в переводе. Следовательно, функцию, выполняемую данным поэтическим знаком, в переводе частично берут на себя другие поэтические символы, а значит, данный перевод можно считать семиотически адекватным.
А вот во втором примере достичь адекватности переводчику не удалось. В стихотворении «The Dead» Д. Патерсона мир живых противопоставляется миру мертвых; в приведенных строчках говорится об умерших (и похороненных) людях, которые питают почву и растения своей плотью. Очевидно, что данный поэтический знак можно считать смыслообразующим и крайне важным для понимания всего текста. Однако по какой-то причине переводчик предпочел не переводить данный знак, заменив умер- ших людей на увядшие растения и, следовательно, изначальный смысл, заложенный в данном стихотворении, оказался полностью утрачен.
Какие же поэтические знаки могут быть опущены? Нам представляется, что при частичной семиотизации поэтического текста (если стихотворение представляет собой совокупность различных символов) это могут быть недоминантные символы, т. е. неповторяющиеся, использованные в произведении только один раз. При полной же семиотизации поэтического текста (если стихотворение представляет собой единый сложный знак, в который складываются все составляющие его поэтические символы) опущению могут подлежать поэтические знаки, которые находятся на периферии сложного знака. Подробнее о полной и частичной семиотиза-ции писал Ю. Лотман [Лотман 1970]. Тем не менее, каждое стихотворение уникально, а потому чаще всего решение, какой знак более важен, а какой менее важен и может быть опущен, вынужден делать сам переводчик, опираясь на контекст и цели, которые он перед собой ставит.
Итак, можно заключить, что достичь адекватности перевода, а также оценить его качество можно, рассматривая поэтические тексты как явления, обладающие семиотической спецификой. Существуют две основные стратегии перевода: семиотический перевод и семиотическая адаптация. Выбор конкретного приема в рамках указанных стратегий зависит от типа поэтического знака и вида семиотизации, а также от контекста и целей переводчика. В некоторых ситуациях к одному и тому же поэтическому знаку для достижения адекватности перевода можно применить несколько приемов. В таком случае выбор наиболее подходящего приема остается за переводчиком.
Список литературы Основные стратегии и приемы передачи поэтических знаков при переводе поэзии
- Ахмадулина Б.А. Утро после луны. Избранное. СПб.: Астрель, 2011. 352 с.
- Базылев В.Н. Семиотическая модель перевода // Политическая лингвистика. 2008. № 1 С. 115–117.
- Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. Санкт-Петербург: Норинт, 1998. 1535 с.
- Брюсов В.Я. Статьи и рецензии. Далекие и близкие. Собрание сочинений. В 7 т. Т. 6 . М.: Художественная литература, 1973. 570 с.
- В двух измерениях. Современная британская поэзия в русских переводах. М.: Новое литературное обозрение, 2009. 524 с.
- Виноградов В.С. Введение в переводоведение. Общие и лексические вопросы. М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. 224 с.
- Гарбовский Н.К. Теория перевода: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Лингвистика и межкультурная коммуникация». М.: Издательство Московского университета (МГУ), 2004. 542 с.
- Гецевич Г.А. Свой космос. М.: «У Никитских ворот», 2021. 196 с.
- Егорова Т.А. Проблема определения адекватности и эквивалентности // Вестник науки и образования. 2018. № 18 (54). С. 79–82.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. 385 с.
- Лукина В.М. Утраты и замещения в поэтическом переводе (на материале переводов на русский язык стихотворения «О праздной болтовне», «Personal talk», У. Вордсворта, стихотворения «Замок» Выборновой К.А. и его перевода на французский язык Лукиной В.М.) // Вестник Московского университета. Сер. 22: Теория перевода. 2014. Вып. 1. С. 143–152.
- Маршак С.Я. Статьи, заметки, воспоминания. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. М.: Правда, 1990. 453 с.
- Отражения. Первые опыты художественного перевода. Вып. 10 / Ред. И сост. К.С. Корконосенко, О.В. Матвиенко. СПб.; Донецк, 2020. 204 с.
- Потебня А.А. Теоретическая поэтика. М.: Высшая школа, 1990. 344 с.
- Свой голос. М.: Глубинка, 2020. 280 с.
- Семиотика: Антология / Сост. Ю.С. Степанов. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Академический Проект, 2001. 702 с.
- Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка: 180 000 слов и словосочетаний. М.: Альта-Принт, 2008. 1239 c.
- Фещенко В.В., Коваль О.В. Сотворение знака: очерки о лингвоэстетике и семиотике искусства. М.: Языки славянской культуры, 2014. 640 с.
- Французская поэзия в переводах русских поэтов. М.: Радуга, 2005. 752 с.
- Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Пер. с итал. В.Г. Резник и А.Г. Погоняйло. СПб.: Симпозиум, 2006. 544 с.
- Cahier critique de poésie. 2011. No.°22. 35 p.
- Mitchell S. A Note on the Translation // Pushkin A.S. Eugene Onegin. London: Penguin Classics, 2008. P. 40–45.