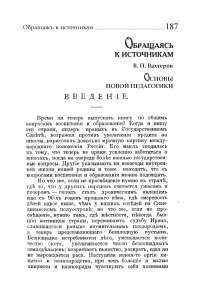Основы новой педагогики
Автор: Вахтеров Василий Порфирьевич
Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education
Рубрика: Обращаясь к источникам
Статья в выпуске: 1, 2015 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14038639
IDR: 14038639
Текст статьи Основы новой педагогики
ВВЕДЕМТЕ.
Время ли теперь выпускать книгу по общимъ вопросамъ воспиташя и образовашя? Когда я пишу эти строки, лидеръ правыхъ въ Государственномъ Сов^тЪ, возражая противъ увеличешя кредита на школы, нарисовалъ довольно мрачную картину между-народнаго положешя Росши. Его мысль сводилась къ тому, что теперь не время усиленно заботиться о школахъ, когда на очереди болЪе важные государственные вопросы. Друйе указываюсь на невзгоды внутренней жизни нашей родины и тоже находясь, что съ вопросами воспиташя и образовашя можно подождать.
Но что же, если не просвЬщеше нужно въ страна, гдЪ то, что у другихъ народовъ считается ужасомъ и позоромъ — голодъ сталъ хроническимъ явлешемъ еще съ 90-хъ годовъ прошлаго вЪка, гдЬ смертность дЪтей вдвое выше, чЪмъ у нашихъ сосЬдей на Скан-динавскомъ полуостров^; но что же, если не про-св-Ьщеше, нужно тамъ, гдгЬ местности, нЬкогда быв-ппя житницею страны, переживаютъ судьбу Ирана, славившагося раньше изумительнымъ плодород!емъ, а теперь представляющаго безплодную пустыню. Безпощадно истребляются л-Ьса, уменьшается количество скота, увеличивается число безлошадныхъ землед-Ьльцевъ; возрастаетъ пьянство, развратъ, едва ли не вырождается раса. Наступила какая-то орйя хи-щешя и казнокрадства, при чемъ болыше и малые хищники и казнокрады чувствуюсь себя хозяевами момента. Вспыхиваютъ погромы, появляются моральный чудовища, какъ Лзефъ. Сама жизнь человеческая ц'Ьнится ни во что, когда люди убиваютъ, призывая при этомъ имя Бож1е; ужасъ перестаетъ быть ужасомъ, и то, что въ нормальное время вызвало бы взрывъ негодовашя, теперь печатается въ газетахъ петитомъ. Что касается самого многочисленного у насъ сослов!я—крестьянъ, то ихъ жизнь, какъ она изображена, напримеръ, такими замечательными наблюдателями, какъ покойный Чеховъ и ныне здравствующ^ Бунинъ, ужасна. Безысходная нужда, непосильный трудъ, пьянство, безпросветность. Въ деревне страшно жить. «Они живутъ хуже скотовъ», по сло-вамъ знаменитого писателя. Указываютъ на пред-стоящ!й кризисъ промышленности. Предсказывают!» неизбежное банкротство, новую Цусиму въ сельскомъ хозяйстве, промышленности, внешней политике, фи-нансахъ. ■
Мы зашли въ какой-то тупикъ, изъ которого не видно выхода. Среди людей, отъ которыхъ несколько летъ тому назадъ можно было слышать восторженный речи, полныя веры и надежды па лучшее будущее, теперь встречаемъ угнетенное настроеше, разочаро-ваше, уныше, близкое къ отчаяшю. Обманутые въ своихъ лучшихъ надеждахъ, наиболее впечатлительные люди заболевають психически, думають о само-убптстве.
Въ ташя времена мысль усиленно ищетъ выхода. Естественно, что разные люди указываютъ и разные пути. РелиНозные люди укажутъ на молитву, какъ на самый лучший исходъ. Другие будутъ ждать спасе-шя отъ естественной эволющи производственныхъ отношение Каждая изъ политическихъ парт!й будетъ указывать на свою программу, какъ на панацею отъ всехъ золъ. Но есть люди, которые, нисколько не отрицая и некоторыхъ другихъ путей, более всего верятъ въ силу воспитатя и образовашя широкихъ народныхъ массъ. Мы знаемъ людей, бывшихъ близко къ отчаяшю, которые нашли выходъ изъ этого безысходного мрака въ упорной работе надъ про- свещешемъ народныхъ массъ. И мы думаемъ, что они выбрали правильный путь. •• • - -
Мы говорили о хроническомъ голоде; но есть еще другой голодъ — духовный, и онъ является причиной первого. Было время, когда .во Францы десятина земли такъ же, какъ у насъ теперь, давала 45 пудовъ ржи; теперь она даетъ 170 пудовъ пшеницы. И это результатъ общаго и спещально агрономическаго образования французскаго сельского населения. Почти то же надо сказать о Германы и Швейцары; но въ последнихъ странахъ нЪтъ того чернозема, какой есть у насъ. Нетъ тамъ и такихъ богатствъ, какими изобилують наши леса, недра нашихъ горъ, наши моря и р'Ьки. И, однакоже, тамъ не знаютъ, что такое голодъ. Знан1е и планомерный трудъ — вотъ тотъ ключъ, посредствомъ которого открываются сокровища, спрятанный природой. А знанхе и трудоспособность— результатъ хорошего воспиташя и образован!я. И такъ во всем^. Голодъ, такимъ образомъ, является самымъ тяжкимъ обвинен!емъ по адресу техъ, кто задерживалъ умственное и нравственное развитое народа. Нельзя презирать образоваше и въ то же время разечитывать на производительность страны. А мы презираемъ и образование и книги. Летъ 12 тому назадъ у насъ на одну книжную лавку приходилось более 45 винныхъ лавокъ. Между этой статистикой и статистикой неурожаевъ существуетъ самая тесная связь. Сила страны не въ пространстве, даже не въ числе жителей, а темъ менее въ количестве войскъ; сила страны въ числе просвещенныхъ, энер-гичныхъ, трудоспособныхъ, стойкихъ дЬятелей, а это дело воспиташя и образовашя.
Последнее десятилеНе поставило предъ нами несколько крупнейшихъ историческихъ задачъ, и мы не выдержали этого экзамена. У насъ не оказалось людей, стоящихъ на высоте предъявленныхъ къ нимъ тре-бованш. Мы оказались умственными и нравственными банкротами. У насъ оказалось очень мало людей, со-ответствовавшихъ историческому моменту. Это не должно удивлять насъ, потому что при нашемъ воспитаны и услов!яхъ жизни и не могло вырасти ничего лучшаго. Но это побуждаетъ насъ съ наибольшей серьезностью отнестись ■ къ вопросамъ образовашя и воспиташя поколЪтй, идущихъ намъ па смену. Если мы сами не выдержали экзамена и оказались плохими и несчастливыми, то пусть же будутъ хорошими и счастливыми наши дети. Никто не придетъ на помощь народу, если онъ самъ не въ силахъ помочь себе, если онъ самъ не въ состояши взять свою судьбу въ собствен-ныя руки. Ио чтобы стать хорошимъ хозяиномъ своей участи, недостаточно ходить на помочахъ званыхъ и незваныхъ вождей, надо самому иметь просвещенный умъ, реальный знашя, обладать творческими силами и общественными стремлешями и действовать самостоятельно. А для этого необходимо хорошее образование и воспиташе.
Представьте себе, что наша страна въ настоящее время располагала бы миллюнами просвещенныхъ крестьянъ и рабочихъ, ясно представляющихъ себе современное положен!е, знакомыхъ съ аналогичными собыНями всем!рной исторхи, и тогда исчезъ бы всякий страхъ за наше ближайшее будущее.
Правда, путь воспиташя и образовашя очень медленный, и кто бы изъ насъ не предпочелъ более быстраго. Но работа на поприще просвещешя никакой другой прогрессивной работе помЬшать не мо-жетъ. Напротивъ, если люди, предпочитаюице более быстрые пути, встретятся съ непреодолимыми пре-пятств1ями, у нихъ останется надежда па будущее, на молодежь, воспитанную нами и лучше насъ приспособленную къ жизненной борьбе. «Самыя тих!я слова,— говоритъ Ницше,—суть именно тЬ, которыя приносить бурю. Мысли, приходяпця, какъ голубь, управляють м!ромъ».
Наша вера въ то, что воспитанхе и образоваше въ состояши вывести насъ на светлую и прямую дорогу, подкрепляется еще талантливостью нашего народа. Несмотря на то, что услов!я для развипя таланта у насъ безпримерно тяжелыя, мы имели такого ученаго, какъ Ломопосовъ, на целый вЕкъ опередившаго тогдашнюю науку, а позже знамени-таго Менделеева, мы имели ,такого государственнаго деятеля, какъ Сперансюй, такихъ публицистову какъ Белинсшй, Чернышевсюй и Добролюбову такихъ поэтовъ, какъ Пушкину Лермонтову Шевченко, такихъ писателей, какъ Толстой, Тургеневу Чеховъ, Горькш и т. д., такихъ художникову какъ РТпинъ и Богдановъ-Бельск1й, такихъ композиторову какъ Глинка, Чайковсшй, МусоргскШ, такихъ изобретателей, какъ Яблочковъ и пр.
Но ведь при нашихъ услов!яхъ могъ пробиться наружу, быть-можетъ, только одинъ промилль изъ всей народной массы. У насъ мало школъ, мало библютеку мало музеевъ, аудитор!й и вообще просве-тительныхъ учреждешй. Наши школы и бедны и неудовлетворительны. А педагогическая ихъ часть иереживаетъ кривись. Даже дети, пмеюпця возможность окончить полный курсъ въ средней школе, по-лучаютъ до отчаян!я мало въ смысле развиыя и знашй, не говоря уже о воспитати. И на приобретшие этихъ, иногда очень сомнительныхъ знашй, затрачивается огромное количество времени и труда. Наши дети учатся 11 леть до поступлешя въ высшую школу (3 года въ подготовительныхъ школахъ и 8 летъ въ гимназш), работаютъ очень часто более восьми часовъ въ сутки, если считать и время, употребляемое на подготовку къ урокамъ, лишены возможности тратить достаточное количество времени на свойственный детскому возрасту игры, прогулки, нередко страдаютъ^ отъ переутомлетя и къ ужасу и отчаяшю родителей и во вредъ расе разстраиваютъсвое здоровье. Школа очень часто портить характеръ детей. И эта страшно высокая цена платится за пр!обретен1е навыковъ и знашй, съ которыми молодой человекъ въ большинстве слу-чаевъ годенъ лишь только для казенной службы, не требующей ничего кроме исполнешя чужихъ приказаний. Полученная подготовка, по отзыву профессоровъ, оказывается очень часто недостаточной даже для того, чтобы съ успехомъ слушать очень элементарный въ сущности курсъ нашихъ университетовъ. Наши методы и пр!емы преподавай!» нуждаются въ серьезныхъ улуч-шешяхъ. Трещать подъ напоромъ критики школьные планы, программы, составь учебнаго курса, экзамены и весь строй учебнаго дела. Сама теор!я воспитания нуждается въ корешюмъ пересмотре.
Главный недостатокъ современной педагогики— это отсутств!е руководящей общей точки зрЬн!я. Такъ много предлагаютъ матер!аловъ, как!е надо использовать въ видахъ воспитан!», методовъ, которые надо употреблять, частныхъ целей, кашя надо ставить и преследовать; все это такъ разнообразно и разбросано то въ исторш педагогики, то въ различиыхъ современныхъ течеьйяхъ педагогической мысли. Это безконечное разнообраз!е и хаотическая разбросанность ошеломляютъ. Современная педагогика предста-вляетъ собою поле брани, где ведутъ борьбу самыя разнообразный цели воспитан!» и обучен!», различные методы и системы, разный программы. Въ современной педагогике нетъ основы, которая выражала бы общую идею и духъ нашего времени. Въ ней все безсистемно, безсвязно, разбросано, противоречиво. ВсЬ наши методы и пр!емы обучен!я и воспитан!» носятъ характеръ случайности. Это как!е-то клочки и отрывки, которые еще предстоять связать во что-то единое и целое. Словно кто разорвалъ педагогику на отдельный мелк!я части. И чтобы внести какой-нибудь порядокъ въ эту область, все отдельный части, изъ которыхъ слагается теор!» педагогики, должны быть объединены въ одномъ общемъ синтезе. Необхо-димъ широк!й принципъ, объемлющ!й и связуюпцй вс/Ь частный цели, методы и матер!алъ; нужно начало, которое . объединило бы и организовало бы и въ мысляхъ, и въ действительности, и въ теорш, и въ практике всю совокупность разнообразныхъ эле-ментовъ педагогики. Конечно, въ этой области необходимо и расчленен!е, нуженъ и анализъ и при-томъ самый кропотливый и тщательный; но столько же необходимъ и обобщающш синтезъ. Самое подробное изложен!е каждой изъ этихъ частей не будетъ иметь полной цены до техъ поръ, пока все эти эле- менты не будутъ приведены въ связь, которая одна въ состоянш дать надлежащее освищете целому и поставить каждый элементъ на принадлежащее ему место. Только тогда педагогика перестанетъ быть хаотическою грудою, безнорядочнымъ смешешемъ рецептовъ, отдельныхъ цТлей и задашй, а получить характеръ стройнаго организованного целаго. Только тогда мы будемъ знать, что къ чему. Только тогда все элементы улягутся въ голове педагога въ одну организованную систему, въ стройномъ порядке, по определенному плану — каждая часть на своемъ месте и въ зависимости отъ другихъ частей и отъ всего целого. Только тогда мы будемъ ограждены отъ вред-наго вл!яшя одностороннихъ и узкихъ воззрений на наши задачи и нашу деятельность. Только тогда мы въ состоянш будемъ отличать важное отъ неваж-наго, существенное и основное отъ случайного, главное и коренное отъ мелкаго и частнаго.
Если бы можно было забыть о степени плодотворности того или иного принципа, то педагоги преж-нихъ вековъ оказались бы счастливее насъ. И педагогику древняго Китая, и аеинянъ, и римлянъ, • и воспиташе среднихъ вековъ, и схоластическое напра-влеше, и рыцарское воспиташе, и системы эпохъ гуманизма и ращонализма и т. д.—каждую изъ этихъ си-стемъ въ отдельности—такъ легко и удобно характеризовать общими принципами, положенными въ основу воспиташя каждой эпохи и соответствующими духу своего времени. И принципъ, соответствующей данной эпохе, объединялъ и объяснялъ элементы, какъ теорш, такъ и практики воспиташя. Теперь совсемъ не то. Въ современной педагогике нетъ выдержанного стиля и слишкомъ много безпринципнаго эклектизма. Если ограничиться однеми школьными программами, где легче всего согласовать все элементы, то даже здесь мы встретимъ непримиримый противореч!я. То, что утверждается на уроке естсствоведешя, отрицается на уроке релиНи и наоборотъ, и это даже въ высшихъ школахъ! А о целяхъ, методахъ и пр!емахъ воспиташя нечего и говорить. Здёсь уживаются бокъ о бокъ самый противоположный требования и совершенно несогла-симыя направления. У насъ очень большой запасъ фактовъ, наблюдений, рецептовъ, но нЪтъ общей объ-• единяющей точки зрЬшя. Никогда еще педагогика не располагала такими богатейшими матер!алами, какъ теперь; иго зато никогда ониа такъ не нуждалась въ одномъ общемъ синтезе -всехъ этихъ материаловъ. Старые принципы потеряли свою силу и господствующее положеше, а новые принципы еще не завоевали широкаго призпашя.
Первобытный человекъ и современный дикарь ограничиваютъ роль воспиташя только заботами о томъ, чтобы д'Ьти были сыты, целы и невредимы да переняли отъ родителей приемы добывания средствъ къ жизни и тЬ несложный искусства (п'Ьше и танцы), который диктовались обычаями народа. Отличительная черта этого воспитания — консерватизмъ и застой. Жить такъ, какъ жили отцы и дЬды; воспитывать такъ, какъ воспитывались деды и прадеды, — вотъ главная основа такого воспитания. Этой системе вос-питан!я нельзя отказать въ цельности; но мы уже ню можемъ ограничиться такою примитивною точкою зр'Ьшя. Мы считаемъ необходимымъ передать буду-щимъ поколетямъ и нашу цивилизащю и нашу довольно сложную культуру, сделать ихъ наследниками всего нашего культурнаго богатства. Темпъ развит1я сталъ безконечно быстрее. Перемены, совер-шавпияся въ жизни нашихъ отдаленныхъ предковъ, требовали тысячелетш. Современный иреобразовашя, иногда гораздо более важныя, чЬмъ все, что приду-малъ первобытный человекъ, совершаются только годами. Даже на распространение уже сделаппыхъ где-нибудь открьтй въ древтя времена нужны были века и тысячслет1я, а сейчасъ это делается съ быстротой телеграфа и печатного станка. Легко было поспевать за жизнью въ древшя времена и трудно по-«спевать за нею сейчасъ. Мы очень далеко ушли отъ первоначальной простоты и дикости. Для того, чтобы удержаться на той высоте матер!альной и духовной культуры, на какой мы теперь находимся, а еще более для того, чтобы идупця намъ на смену поколетя могли подняться на еще более высокую ступень, мы должны передать въ целости нашимъ детямъ все лучшее изъ полученнаго нами культурнаго наследства, присо-единивъ сюда и пргобрЪтшпя самого последняго времени, мы должны путемъ образовашя и воспитатя сделать впутреннимъ достояшемъ, претворить въ плоть и кровь, въ убеждешя и веровашя, въ чувства и стремлешя иашихъ детей все наиболее ценное изъ того, что прюбретепо до настоящаго момента въ области искусства, науки, творчества, идеаловъ, умственнаго и нравственного развитая.
Только поднявъ воспитанника на эту высоту, мы приспособимъ его къ современной жизни и дадимъ ему возможность деятельно участвовать въ современ-номъ ему обществе, вложить въ общую сокровищницу цивилизащи и культуры и свою каплю меду. Если бы мы хоть одно поколете оставили безъ обра-зовашя, то наша раса снова погрузилась бы въ без-просветную тьму варварства и первобытной дикости. Исходя изъ этого принципа, мы, завершая воспиташе юноши, должны дать ему, конечно, въ сокращен-номъ и ■ сгущенномъ виде последнее слово науки, искусства, литературы, этики, извлекая отсюда лишь наиболее ценное, существенное и жизненное, не останавливаясь на частностяхъ, а ограничиваясь лишь самымъ основнымъ; мы должны сделать центромъ со- * временную жизнь, а не жизнь древнихъ, ввести его въ храмъ современной науки, а не сообщать ему суевер!й среднихъ вековъ, показать ему современную технику, а не технику натуральнаго хозяйства.
Что въ этомъ отношены современная школа грешить, доказательствомъ служатъ латинсгай, грече-сюй и славянскш языки въ средней школе, хотя ни тотъ, ни другой, ни третай не имеють прямого отношешя къ современности; другое доказательство— OTCVTCTBie серьезной постановки естествоведешя, хотя быстрое развитае последней отрасли внатй представляетъ одно изъ самыхъ характерныхъ явле- шй нашего вЬка. Къ числу недостаткевъ того же рода относится слишкомъ подробное изучеше древней и средней исторш въ ущербъ новой, а также старой литературы въ ущербъ новейшей. Даже въ области физики, географы и т. п. предметовъ уче-никамъ чаще всего сообщаютъ теорш, уже отверг-нутыя современной наукой, и замалчиваются те, ка-к!я особенно характерны для современнаго состояшя знан!я. И если бы не стремлешя юношества къ само-образовашю, то съ нашею общеобразовательною школою даже такъ называемые образованные люди внЪ своей снещальности были бы значительно позади века, въ которомъ намъ приходится жить и действовать.
Легко видеть единый руководящы принципъ и въ солдатскомъ воспитаны спартанцевъ. Стремление сделать свое военное государство мощнымъ заставляло спартанцевъ подчинить все интересы личности, семьи и рода государственнымъ интересамъ. Казарменное воспитан!е должно было привязать воспитанника къ отечеству, развить въ немъ все качества, необходимый для того, чтобы отечество было прочно, сильно и страшно для враговъ. Для этого нужна была готовность жертвовать собою для блага государства, мужество, воинственный духъ, жажда воинскихъ подви-говъ, любовь къ славё и страхъ позора, физическая сила и ловкость, крепкое здоровье, привычка терпеливо переносить, когда нужно, и голодъ и боль; нужны были хитрость и осторожность воина, простота жизни, простота и краткость речи, знанхе боевыхъ песенъ и победныхъ напЬвовъ, искусство воевать, привычка повиноваться начальникамъ. Отсюда этотъ жесток!!! обычай бросать хворыхъ и слабыхъ детей въ пропасть съ Тайгета, эти разнообразный средства къ закаливанью детскаго организма, отсутств!е всякой роскоши, пр!учен!е къ голоду и побоямъ, презренге ко всему иноземному и всякимъ новшествамъ и на первомъ месте гимнастичешйя упражнеыя, какъ самое главное образовательное средство: гимнасти-чесюя игры, фехтован!е, верховая езда, борьба, ме- тапье диска и копья; а въ сферЬ нравственнаго вос-питашя — военная музыка и nenie походныхъ и боевыхъ песенъ, воспламеняющихъ любовь къ -отечеству, стремлеше къ воинскимъ подвигамъ, мужество, любовь къ славе и презреше къ трусости. Отсюда же пренебрежительное отношен1е къ науке, къ випйству и даже къ чтение и письму. Это было стройное, выдержанное, объединенное одною мыслью воспиташе; но, конечно, оно не для насъ. Будущее принадлежитъ не военнымъ, а промышленнымъ обществамъ; права личности не должны быть поглощены государствомъ; умственное образовало не должно быть игнорировано во имя казармы и солдатскихъ доблестей.
Древшй народъ-эстетикъ—аоиняне, возводивппе въ культъ музыку, пластику и вообще красоту, требовали отъ воспиташя, чтобы оно, предоставляя утилитарное и профессиональное образоваше рабамъ и ремеслен-никамъ, приготовило изъ свободнаго человека живое высоко-художественное произведете. «Музоугодное» воспиташе господствующего класса въ древней Гре-щи должно было служить къ наслаждешю и укра-шешю человека, оно должно было всесторонне и гармонически развивать все его душевныя и телесный силы (пиоагорейцы, Платонъ и др.), при чемъ гар-мошя понималась по аналогш съ гармон!ею въ музыке, т.-е. въ эстетическомъ смысле. Несомненно, и этому воспитан!ю нельзя отказать въ выдержанномъ стиле. Но, признавая все высогая достоинства аоин-скаго воспиташя, современная педагогика не можетъ принять его целикомъ, безъ разбору, какъ оно есть. Начать съ того, что про утилитарныя цели можно было забыть лишь при существованш рабства, когда все житейсюя, такъ называемый, низюя заботы о куске хлеба можно было всецело возложить на ра-бовъ, а себе оставить только наслаждеше красотой. Даже такое, казалось бы, безспорное требоваше, какъ всестороннее и гармоническое развит!е, мы не можемъ теперь принять безъ всякихъ оговорокъ. Конечно, и сейчасъ нельзя найти человека, который бы защищалъ дисгармонию. Но современный представлен1я о чело- веческой природе не позволяютъ намъ мечтать о все-стороннемъ и гармоническомъ развиты! всехъ задат-ковъ человека безъ единаго исключения. О такой гармоти можно было думать пиоагорейцамъ, вЬрив-шимъ, что весь м!ръ и вся природа подчинены законамъ гармоти и гармонически сложены; что само небо есть гармыйя и сама музыкальная гар-мошя, служившая аналошей для м!ровой, есть только частный случай всеобщей гармонш, какъ бы ея звуковое выражеше. Мы теперь знаемъ, что въ природе не все такъ гармонически стройно и созвучно, какъ фантазировали пиоагорейцы. Мы знаемъ, что и въ человеческой природе неть этого гармо-ническаго равновес!я и соразмерности. Существуетъ атавизмъ, когда человекъ рождается съ задатками, полученными но наследству отъ отдаленныхъ пред-ковъ. Эти задатки, бывийе когда-то, при иныхъ усло-в!яхъ жизни, полезными и нужными, теперь оказываются не только излишними, но и вредными, и стоятъ въ непримиримомъ противоречш съ другими свойствами современнаго человека и со всёмъ строемъ современной жизни. Мы знаемъ, что развгте неко-торыхъ необходимыхъ органовъ человека возможно только на почвЬ вырождешя другихъ тканей, который перестаютъ намъ служить и замещаются более совершенными. Таково, иапримЬръ, превращеше не-парнаго, такъ называемаго, теменного глаза позво-ночныхъ въ такъ называемый надмозговой придатокъ. Бюлоги насчитываютъ въ животномъ царстве огромное множество такихъ рудиментарныхъ органовъ, бывшихъ когда-то необходимыми, но теперь ни для кого и ни для чего ненужныхъ, утерявшихъ свою первоначальную функщю. И было бы не только напрасно, но и вредно заботиться о развитш такихъ органовъ. Кроме того, мы знаемъ теперь, что далеко не всяюй обладаетъ всеми талантами въ равной мере, и въ случае особенной одаренности какимъ-нибудь однимъ, по выдающимся талаптомъ стремиться къ гармоническому равновесно всехъ талантовъ значило бы обезличивать односторонне одареннаго воспи- танника. Мы знаемъ, что есть дЬти съ такими ничтожными задатками къ музык^ и 1гЬн1ю, что доводить эти способности до той степени развитая, какая требуется идеаломъ всесторонняго гармоническаго развшчя, это значило бы въ данномъ случай затратить столько времени и труда, такъ много отнять отъ другихъ способностей, что на это не иойдетъ никто изъ совре-менныхъ педагоговъ. И потому современная педагогика, оставляя гармонпо, какъ идеалъ, понимаетъ гармоническое развит!е далеко не въ томъ смыслй, въ какомъ понимали его пиоагорейцы.
Кромй того, эстетика представляетъ только одну изъ ценностей жизни, признаваемыхъ соврсменнымъ образованным!, человйкомъ. Кром'Ь красоты, есть еще истина, есть добро; а требования эстетики могутъ и не согласоваться съ требованиями добра и правды. Не даромъ въ той же самой древней Грецш моралисты нападали на художниковъ. Н'Ьтъ, эстетическое воспиташе мы мо-жемъ поставить теперь только, какъ часть ц'Ьлаго, а отнюдь не на мйсто ц'Ьлаго.
ВполнЬ выдержанной и все проникающей системой образовашя представляется намъ и аскетическое напра-влете въ педагогш, характеризующее средше вйка. Полагали, что надо воспитывать не во имя земного, м£рского, дольняго и временнаго, а во. имя горняго, небеснаго, во имя вЬчной будущей жизни. Потусторошпй м!ръ — вотъ истинная родина. Заботились не объ образованш, а о преобразованы человека. Земная жизнь и природа признавались преступными, бездушными и безбожными. Умерщвлять плоть, хотя бы даже посредствомъ само-истязанЫ, ограничивать свою жизнь, обуздывать страсти, хотя бы даже посредствомъ голода и иныхъ мученЫ, приблизиться насколько возможно къ добровольной могилй, — вотъ требованЫ, предъявляемый къ воспитаннику, вполнй согласно съ основнымъ нринципомъ такой педагоги!. Откровешс — единственный источникъ истины. Отсюда полная слйпая покорность и безпрекословное подчинение безусловному авторитету безъ всякихъ разсужденЫ, безъ всякой критики, безъ всякой проверки. Отсюда же недов'Ь- pie и даже презреше ко всякой светской науке. Л если наука и терпелась, то лишь постольку, поскольку она служила главному принципу. Астроном1я допускалась для обоснован!я пасхал!и, для вычислешя времени Пасхи и другихъ подвижныхъ праздниковъ, геометр!я для измерен! я библейскихъ и священныхъ предметовъ, латынь для чтен!я священного писашя, философия, какъ служанка богословия, для доказа-тельствъ отъ разума—для обосновашя, уяснешя и систематизащи религюзныхъ догматовъ. Такая наука была лишена чувственно-наглядной основы: пустая игра понятиями и словами заступала место действи-тельныхъ фактовъ. Она разсматривала весь Бож1й м!ръ, какъ грубый матер!алъ для книги. Какъ известно, еще более презрительный взглядъ на науку суще-ствовалъ у насъ, на Руси, даже въ то время, когда въ Западной Европе наука уже пользовалась правами гражданства. «Не высокоумствуйте, — говорили у насъ,—но въ смиреши пребывайте... Аще кто ти речетъ: веси ли всю филocoфiю? и ты ему рцы: эллинскихъ борзостей не текохъ, ни риторскихъ астрономъ ио читахъ, ни съ мудрыми философы нс бывахъ, учуся книгамъ благодатнаго закона, аще бы можно моя грешная душа очистити отъ грЬхъ».
Совершенно ясно, что аскетической педагогике нельзя отказать въ стильности. Одно начало проникало всю педагогику и объединяло все ея элементы. Нечего и говорить, что въ наше время принципъ, положенный въ основу средневековой педагогии, не можстъ быть объ единя -ющимъ началомъ, какъ принципъ противоестественный.
Были системы воспиташя, основанный на совершенно противоположныхъ началахъ. Такъ, Тюрго и Руссо пробовали основать воспиташе на безусловномъ довЪрш къ природЪ человека. И такая система точно такъ же была бы не лишена цельности, стройности и стиля. Но, къ сожален1ю, современная наука не позволяетъ принять такую систему въ ея целомъ. Но стопамъ Руссо шелъ и нашь Толстой, отрицавпйй въ 60-е годы право учителей, родителей и старшихъ воспитывать младшихъ. .
(продолжение в следующем номере.)