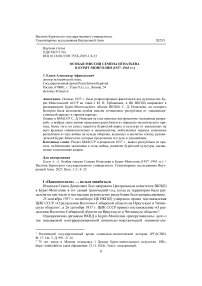Особая миссия Семена Игнатьева в Бурят-Монголии (1937-1943 гг.)
Автор: Елаев А.А.
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
Осенью 1937 г. было репрессировано фактически все руководство Бурят-Монгольской АССР во главе с М. Н. Ербановым, и ЦК ВКП(б) направляет в распоряжение Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) С. Д. Игнатьева, на которого Центром была возложена особая миссия «очищения» республики от «националистической заразы» и «врагов народа». Однако в БМАССР С. Д. Игнатьев не стал простым инструментом «механизма репрессий», а выбрал свою линию выведения республики из морально-политического кризиса, более того, он сумел защитить бурятский народ и культуру от наклеенных на него ярлыков «панмонголизма» и национализма, мобилизовал перевод экономики республики в годы войны на нужды обороны, выдвинул и воспитал плеяду руководителей Бурят-Монголии, которые продолжили его дело в дальнейшем.
Раздел бмасср и репрессии 1937 г, вывод республики из кризиса, мобилизация экономики в годы войны, развитие бурятской культуры, выдвижение и воспитание кадров
Короткий адрес: https://sciup.org/148331415
IDR: 148331415 | УДК: 94(571.54) | DOI: 10.18101/2305-753X-2025-1-8-23
Текст научной статьи Особая миссия Семена Игнатьева в Бурят-Монголии (1937-1943 гг.)
Елаев А. А. Особая миссия Семена Игнатьева в Бурят-Монголии (1937–1943 гг.) // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2025. Вып. 1. С. 8–23.
I «Панмонголизм» ... нельзя ошибиться
Игнатьев Семен Денисович был направлен Центральным комитетом ВКП(б) в Бурят-Монголию в тот самый трагический год, когда ее территория была разделена на три части и все высшее руководство республики было репрессировано.
25 сентября 1937 г. политбюро ЦК ВКП(б) утвердило проект постановления ЦИК СССР «О разделении Восточно-Сибирской области на Иркутскую и Читинскую области»1, а 26 сентября 1937 г. ЦИК СССР принял постановление «О разделении Восточно-Сибирской области на Иркутскую и Читинскую области»2.
Одновременно органами НКВД в Бурят-Монголии «раскручивалось» дело о так называемой контрреволюционной шпионско-повстанческой «панмонголь- ской» организации, ставившей целью захват основных участков народного хозяйства Бурят-Монголии, организацию в районах повстанческо-диверсионных филиалов и создание «великого монгольского государства» под эгидой Японии.
По делу «панмонгольской» организации органами НКВД было арестовано 142 человека, в том числе 5 наркомов, 7 секретарей райкомов ВКП(б), 5 председателей райисполкомов, 3 сотрудника НКВД, 54 работника республиканских организаций, 68 кулаков и лам. Таким образом, осенью 1937 г. было ликвидировано фактически все руководство республики во главе с М. Ербановым.
В самый разгар репрессий 7 октября 1937 г. ЦК ВКП(б) направляет в распоряжение Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) в качестве исполняющего обязанности первого секретаря обкома помощника заведующего промышленным отделом ЦК ВКП(б) С. Д. Игнатьева1.
25 октября 1937 г., через месяц после раздела республики, на заседании бюро Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) С. Д. Игнатьев был утвержден исполняющим обязанности первого секретаря Бурят-Монгольского областного комитета ВКП(б)2, на которого Центром была возложена особая миссия «очищения» республики от «националистической заразы» и «врагов народа».
Игнатьев оказался в очень сложной ситуации. Маховик репрессий на всей территории Бурят-Монголии работал на полную мощность. Население республики находилось в шоке. На бурятский народ было наложено «клеймо панмонго-лизма» (национализма). В обстановке политической истерии и массового психоза люди боялись доверять друг другу, доносы, клевета, обвинения в несуществующих грехах, аресты стали повседневностью жизни республики.
Семен Игнатьев прибыл в республику с небольшой группой ответственных работников, направленных вместе с ним из Москвы. Не зная ни республики, ни людей, Семен Игнатьев должен был в кратчайший срок взять под контроль ситуацию и упорядочить работу деморализованных органов управления, найти опору в аппарате, в котором из-за репрессий практически не осталось работников. По рассказам ветеранов, работавших в то время, многие кабинеты в новом здании Дома Советов были пусты.
Первым делом Семен Игнатьев собрал оставшийся партийно-хозяйственный актив города и стал лично знакомиться с каждым руководителем. Многие работавшие с ним замечали такие его качества, как проницательность и особое чутье на людей, и то, что он редко ошибался в своем выборе. Однако при подборе кандидатов для выдвижения на руководящую работу Семен Игнатьев столкнулся с проблемой отказа тех, кому он предлагал должности, особенно из числа бурят. В условиях репрессий люди боялись повторить судьбу предшественников.
В первое время Игнатьев, в глазах местных неизвестный назначенец Кремля, вызывал опасения, так как олицетворял собой властный и грозный Центр. Перед ним, начинающим политическую карьеру партработником, направленным в далекую глухомань, безусловно, стояла дилемма, каким образом действовать: безоговорочно выполнить установку ЦК — подавить национализм, продолжая репрессии и «закручивание гаек», что открывало дорогу «наверх», или же найти свое другое правильное решение в сложной ситуации.
Но, к счастью, Игнатьев не был простым исполнителем воли центральных органов, как цельная и незаурядная личность, он имел свой взгляд и собственное мнение, которое не обязательно демонстрировал открыто, он также имел свое видение, что и как нужно делать, в том числе в условиях деморализованной территориальным разделом и репрессиями республики.
1937 г. в Бурят-Монголии был годом продолжавшихся партийных чисток и репрессий. По официальным отчетам, в областной партийной организации с 1 сентября 1937 г. было исключено 400 членов и кандидатов ВКП(б). 180 исключенных находились без работы до решения ЦК ВКП(б)1.
II Тщательно разобраться и немедленно восстановить…
Первым делом, с приходом в обком партии, С. Д. Игнатьев уделил особое внимание рассмотрению апелляций людей, исключенных из партии.
На одном из пленумов он говорил: «…Не правы отдельные товарищи, которые настроены поголовно всех членов семьи исключать из колхоза, если глава этой семьи репрессирован. Если за самими членами семьи ничего нет, то мы должны их оставить в колхозе. Апелляции исключенных мы должны разобрать все, разобрать тщательно и немедленно восстановить тех, которые были исключены ошибочно, по оговору и вследствие клеветнических заявлений перестраховщиков… Партийные организации сейчас должны без малейшего шарахания и нервозности исправить допущенные ошибки при исключении из партии»2.
В итоге пересмотра прежних решений обкома и разбора решений райкомов становилось ясным, что около 63% из числа исключенных райкомами и ГК из рядов ВКП(б) были исключены неправильно и сколько честных коммунистов незаслуженно было выброшено за борт партии, оказавшись жертвой перестраховщиков, клеветников, провокаторов3.
В обкоме по его решению был создан отдел инструкторов, которому было поручено расследовать и проверять апелляции исключенных. Инструкторы ОРПО4 ОК ВКП(б) специально выезжали на место и тщательно расследовали все предъявленные обвинения к исключенному из рядов ВКП(б). Затем вопрос выносился на бюро ОК ВКП(б), где апелляционные дела, как правило, стали рассматриваться первыми, что позволяло разбору апелляций уделять достаточно времени, для того чтобы вынести правильные решения. Обычно на бюро рассматривалось не более 6–7 апелляционных дел.
К январю 1938 г. было снято с работы более 100 учителей «как люди, не внушающих политического доверия», позже, после расследования, 80 человек из них были восстановлены на прежней работе (20 репрессированы органами НКВД как враги народа)5.
На IV пленуме Бурят-Монгольского обкома ВКП(б), состоявшемся в феврале 1938 г., С. Д. Игнатьев констатировал, что такой важнейший вопрос, как исключение коммунистов из ВКП(б) и рассмотрение апелляций, в ряде организаций был полностью переложен на инструкторов, а перестраховщики, типа
Иконникова (инструктор Горкома ВКП(б)), вместо большевистского подхода к решению судьбы коммунистов создавали ложные «материалы» на них, добиваясь исключения их из партии. Заочное исключение коммунистов Улан-Удэнским горкомом ВКП(б) он назвал прямым нарушением устава партии и принципов большевизма1.
В Бурят-Монголии после 1937 г. наблюдался дефицит кадров, особенно руководителей первичного звена управления в сельском хозяйстве.
В 1939 г. по республике из 552 председателей колхозов сменилось 333, или больше 50%, из них только 63 человека не справились с обязанностями, это почти 19% общего числа сменившихся. Только за первое полугодие 1940 г. остались без работы 108 председателей колхозов, из них только 60 человек не справились со своими обязанностями. С августа по ноябрь в 11 аймаках сменилось 35 человек. Рекорд по сменяемости руководящих колхозных кадров принадлежал Заудинскому району, в котором в 1940 г. сменился 21 председатель колхоза, в Кабанском — 18, Иволгинском — 17 и т. д.2
Как отмечалось в докладе второго секретаря обкома партии Д. Цыремпилона на XIV областной партконференции в марте 1940 г., «из 333 исключенных за отчетный период из партии коммунистов 80 человек были восстановлены в рядах членов и кандидатов партии. В практике работы некоторых райкомов ВКП(б) наблюдаются своеобразный карательный зуд и стремление выносить побольше партвзысканий даже за маловажные проступки. Особенно распространены партвзыскания за неудовлетворительное проведение хоз. политкомпаний, это так называемые “компанейские партвзыскания”»3.
Как уже отмечалось, Бурят-Монголия в 1937 г. находилась в посттравматическом шоке. Публичное недоверие Центра бурятскому народу, выразившееся в разделе территории республики и в репрессиях политической и творческой элиты, простых тружеников Бурят-Монголии, стало оглушительным ударом, что повлияло на судьбы многих людей, их мечты и надежды, парализовало национальную жизнь в республике и распространило всеобъемлющий страх, подавивший дух, мысли, волю бурятской элиты, привело к ее оцепенению.
В такой нездоровой и тяжелой атмосфере Семен Игнатьев выбрал свою, в дальнейшем полностью оправдавшую себя линию вывода республики из морально-политического кризиса. В первые дни, во многом вынужденно и по инерции, он делал то, что ему было предписано сверху. Но при этом чиновничьей ретивости в продолжении репрессий он не проявлял. Как человек системы он выполнял то, что должен был делать, иначе вопрос с ним был бы решен незамедлительно.
В 1938 г. свои вынужденные действия он обосновывал следующим образом: «Мы проделали большую работу по очищению своих рядов и прежде всего рядов руководящего партийного состава. Нам при решении вопросов о руководителях некоторых организаций, как, например, о руководстве Баргузинского РК, пришлось решать вопрос непосредственно в обкоме без местной организации, но это было неотложной и вынужденной в наших условиях мерой, это нужно было сде- лать как можно быстрее. Последующее время показало, что обком не ошибся. Мы должны для дальнейшей работы из этих фактов сделать практические выво-ды»1.
Семену Денисовичу было свойственно тщательно взвешивать свои действия, прогнозировать последствия и делать соответствующие выводы.
В Иркутской области 26 апреля 1938 г. и. о. секретаря Иркутского обкома ВКП(б) Филиппов и начальник НКВД по Иркутской области Малышев в шифровке в ЦК ВКП(б) и НКВД (под грифом «Строго секретно») на имя Сталина и Ежова просили: «Ввиду значительной засоренности области правотроцкистскими, панмонгольскими и кулацко-белогвардейскими элементами, подпадающими под первую категорию, просим ЦК ВКП(б) разрешить дополнительный лимит по первой категории для Иркутской области 4 тысячи», их просьба была удовлетворена.
Тем временем в этом же 1938 г. 23 сентября первый секретарь обкома С. Д. Игнатьев написал в отдел руководящих парторганов ЦК ВКП(б) письмо о серьезных проблемах с законностью в работе прокуратуры республики, в котором подчеркивал, что «…надзор за деятельностью милиции и судебных органов осуществляется недопустимо плохо. Вследствие этого до сих пор имеют место случаи безнаказанного нарушения Конституции работниками этих органов, плохой надзор прокуратуры за работой органов приводит к незаконным арестам и длительной задержке рассмотрения судебных дел»2.
Всего за полгода кассационная коллегия Верховного суда прекратила дела 112 человек по Бурят-Монголии, сообщал Игнатьев. Он приводил следующие конкретные факты нарушений законности: был арестован глава райисполкома Агафонов, без всякого разбирательства обвинен во вредительстве по 58-й статье и просидел в заключении 8 месяцев. После вмешательства обкома партии он был освобожден (из-за отсутствия состава преступления) и восстановлен в партии. Другие факты беззакония, приведенные в письме Игнатьева: зоотехник Соколов просидел три месяца под стражей за «покровительство врагам народа», разобрались, обвинения были сняты, отпустили. Директор Хандагатайской узкоколейки Вигдорчик, пока шло следствие, просидел 8 месяцев за решеткой, за это время часть арестованного имущества была расхищена, в итоге обвинения были сняты и железнодорожник освобожден. В колхозе имени Коминтерна незаконно арестовали недавно избранного председателя, а в Джидинском аймаке оклеветали комсомольцев Хандажапова и Рампилова, проводивших антирелигиозную борьбу, после вмешательства обкома партии всех освободили.
Причины беззаконий секретарь обкома С. Д. Игнатьев видел в развале работы прокуратуры из-за низкого уровня юридической и образовательной подготовки прокуроров и просил ЦК ВКП(б) «срочно командировать в Бурят-Монголию 10–12 квалифицированных работников прокуратуры СССР для серьезной проверки органов прокуратуры Бурят-Монголии и оказания им помощи и устранения недостатков…»3.
Эти два диаметрально противоположных примера подходов к принятию политических решений секретарей соседних обкомов партии свидетельствуют о том, насколько много зависит от руководителя региона как человека, как самостоятельной личности, а также от занимаемой им позиции.
III Защитить бурятскую культуру и язык
Несмотря на то, что память о «панмонголизме» была совсем свежа и его «призрак» еще витал над республикой, Семен Игнатьев взялся за подготовку I Декады бурят-монгольского искусства, которая должна была состояться в Москве в конце октября 1940 г.
С 1938 по 1940 г. культурная жизнь Бурят-Монголии проходила под знаком подготовки к декаде бурят-монгольского искусства в Москве. В поисках наиболее одаренных певцов и музыкантов ведущие деятели культуры и искусства объездили все районы республики, прослушивая артистов из народа и приглашая принять участие в декаде лучших из них.
Для подготовки бурятских артистов в Улан-Удэ приехали ведущие деятели культуры СССР. Созданным оркестром бурятских народных инструментов руководил Исидор Рык. Балетмейстером был Игорь Моисеев. I Декада бурят-монгольского искусства дала старт истории ансамбля «Байкал» и многим другим ярчайшим явлениям национально-культурной жизни республики1.
Одним из организаторов подготовки декады в Москве был Маркиан Фролов, профессор Уральской государственной консерватории, председатель Свердловского отделения Союза композиторов, которого Семен Игнатьев в 1939 г. пригласил в Бурят-Монголию для работы над созданием первой национальной оперы «Энхэ-Булат батор». В 1942 г. в письме Семену Игнатьеву М. П. Фролов высказал ему теплые слова благодарности:
«Глубокоуважаемый Семен Денисович! …
Пользуясь представившимся случаем, я очень рад приветствовать Вас и Вашу семью, Семен Денисович, и сказать, что самые светлые воспоминания моей жизни связаны с той работой, которую под Вашим руководством я провел в памятные дни подготовки к декаде показа бурят-монгольского искусства в Москве.
Примите от меня и моей семьи сердечный привет.
Проректор М. Фролов»2.
В рамках I Декады бурят-монгольское искусство представляли в Москве Бурят-Монгольский музыкально-драматический театр, театрально-музыкальное училище, филармония, оркестр бурятских народных инструментов, а также самодеятельные коллективы — русский семейский колхозный хор села Большой Куналей, эвенкийский хор.
Декада стала крупным событием в культурной жизни Советского Союза и важной вехой в развитии профессионального искусства в Бурят-Монголии. Пресса активно освещала выступления гостей из Бурятии. 28 октября в Большом зале Центрального дома работников искусств прошел вечер участников декады и деятелей искусств столицы, а 30-го — прием в Георгиевском зале Кремля [5].
По итогам декады Бурят-Монгольский музыкально-драматический театр был награжден орденом Ленина, а его художественному руководителю Г. Цы-дынжапову присвоено звание народного артиста СССР. На присвоении этого звания Г. Цыдынжапову настаивал Семен Игнатьев, а против были специалисты и руководители от искусства, они предлагали ограничиться присвоением ему как еще молодому работнику звания народного артиста РСФСР. И только окончательное вмешательство Сталина решило спор положительно [5].
За создание первой национальной бурятской оперы «Энхэ-Булат батор» композитор М. П. Фролов был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Свои волнения и тревоги этих лет он отразил в очень личной по тону высказывания и любимой самим автором фортепианной сонате [5].
Звания заслуженного деятеля искусства РСФСР были удостоены драматург Н. Балдано и художник Ц. Сампилов, звания заслуженного артиста РСФСР — Н. Гендунова, Ч. Генинов. Н. Гармаева, А. Ильин, Н. Таров1.
По предложению Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) Совнарком Союза ССР постановил, что расходы на подготовку и проведение декады бурят-монгольского искусства в г. Москве возьмет на себя государство, участников и организаторов декады наградить денежной премией в размере двухмесячного оклада (до этого участников декад от других республик премировали месячным окладом), а детей, участвовавших в декаде, премировать путевками в дома отдыха и санатории2.
Немаловажным итогом декады стало решение Москвы о строительстве в Улан-Удэ здания для музыкально-драматического (ныне оперного) театра.
После проведения I Декады бурят-монгольского искусства в Москве в этом же 1940 г. правительство СССР приняло решение о подготовке к печати сводного поэтического варианта героического эпоса «Гэсэр» к намеченному юбилею эпоса в ноябре 1942 г.
В статьях секретарей Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) С. Игнатьева и А. Хахалова, опубликованных в центральной и местной печати, особо подчеркивалось значение самобытного эпоса бурятского народа в духовной культуре прошлого и настоящего [1, с. 31].
В июне 1941 г. бюро Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) утвердило редколлегию по подготовке к печати народного эпоса «Гэсэр» на бурят-монгольском языке в составе Г. Ц. Бельгаева — ответственного редактора, Ц. Г. Галсанова, Н. И. Поппе, А. А. Бальбурова и Х. Н. Намсараева3.
4 июня 1941 г. бюро обкома партии приняло постановление «О правительственной комиссии по подготовке и проведению 600-летия бурят-монгольского народного эпоса “Гэсэр”». Для руководства подготовкой и проведением 600-летия эпоса «Гэсэр» была создана правительственная комиссия во главе с председателем СНК БМАССР С. М. Ивановым.
В связи с этим ГИЯЛИ было поручено проведение с 10 по 15 ноября 1941 г. республиканского слета гэсэрчинов-улигерчинов — исполнителей произведений устного народного творчества, а в течение октября — проведение районных слетов в Баргузинском, Закаменском, Селенгинском, Хоринском, Джидинском, Тункинском, Окинском, Кяхтинском и Еравнинском аймаках1.
Семен Игнатьев высоко оценивал роль и значение науки, поэтому в этом же 1941 г. в целях повышения уровня научных исследований в республике обком партии утвердил состав ученого совета при дирекции Бурят-Монгольского государственного института языка, литературы и истории из представителей научных учреждений и общественных организаций и положение об институте2.
Коренизация аппарата управления, начатая и проводившаяся в 1920–1930-е гг. при Михее Ербанове, не достигла своих явно завышенных целей. В 1940 г. эту работу продолжил первый секретарь Бурят-Монгольского ОК ВКП(б) Семен Игнатьев. Однако после репрессий 1937 г. языковая ситуация в республике значительно усугубилась, как уже отмечалось, не только высшее руководство республики, но и многие другие ответственные партийные и советские работники, хозяйственные руководители подверглись арестам. В партийных и советских органах значительно сократилось количество работников-бурят, носителей бурятского языка.
В 1940 г. в Советском Союзе началась очередная языковая реформа — перевод письменности народов на русский алфавит, это непосредственно затронуло бурятский язык. До этой реформы в бурятском языке, не так давно ставшем литературным языком, первоначально использовалась старомонгольская письменность, затем латинизированный алфавит. И вот вновь в 1940 г. он подвергся очередному переводу — на кириллицу.
Многочисленные реформы бурятского языка отрицательно повлияли на его становление как языковой системы, особенно на широкое распространение в бурятских массах. В этих условиях и без того плохо приживавшийся в аппарате управления бурятский язык должен был теперь изучаться уже на основе новой письменности.
Обком партии издал директивные указания о переводе бурятской письменности на русский алфавит и направил их в наркоматы и аймаки республики. В аппаратах были составлены списки работников, знающих и не знающих язык, владеющих устным и письменным языком. Абсолютное большинство работников не знало бурятского языка, в том числе многие буряты не умели читать и писать на новом алфавите. Обком партии усилил контроль за ходом изучения языка в аппарате и организациях. Айкомы и айисполкомы регулярно отчитывались перед обкомом партии о ходе изучения бурятского языка3.
На основании вышеизложенного можно с уверенностью сделать вывод о том, что к двум годам пребывания на посту первого секретаря обкома партии четко сформировалась позиция С. Д. Игнатьева в отношении к пресловутому «панмонголизму» и в целом к будущему бурятской национальной культуры.
И это было закономерно, что в тот трагический период для республики именно Игнатьев как руководитель оказался наиболее подготовленным к особым условиям работы в Бурят-Монголии. Весь его предыдущий жизненный путь свидетельствовал о том, что он был готов к исполнению этой особой миссии, возложенной на него судьбой. Украинец по национальности, уроженец Херсонской губернии, в десятилетнем возрасте он оказался в Узбекистане, где в общей сложности прожил 10 лет. Рос в Бухаре, Термезе, где выучил узбекский язык и вместе с ним впитал в себя культуру Востока. Он говорил: «А если ты знаешь этот язык, ты можешь свободно говорить с киргизами, туркменами, таджиками, да и с татарами, башкирами…»1.
В 17 лет Семен Игнатьев вступил в комсомол, стал активистом, был избран секретарем райкома комсомола, был направлен на работу в ВЧК. Затем был избран секретарем Амударьинского обкома комсомола, а после стал лидером узбекских профсоюзов в Бухарской республике. За время работы в Узбекистане С. Д. Игнатьев сформировался как политработник-интернационалист, получил опыт руководящей работы, агитатора и пропагандиста [3, с. 404].
-
IV Мобилизовать народное хозяйство республики на нужды войны
Великая Отечественная война стала для Семена Игнатьева, первого секретаря Бурят-Монгольского обкома, суровым испытанием и проверкой его моральнополитических, волевых качеств и организаторских способностей.
На второй день после начала войны 23 июня 1941 г. на центральной площади перед Домом Советов г. Улан-Удэ состоялся многотысячный митинг трудящихся, на котором выступил первый секретарь Бурят-Монгольского обкома и Улан-Удэнского горкома ВКП(б) С. Д. Игнатьев, а также представители рабочих, колхозников, интеллигенции, Красной армии. Они заверили руководство Советского государства в том, что отдадут все силы и средства для отпора вероломному агрессору2.
Уже в ноябре 1941 г. обкомом партии в действующую армию для политической работы были направлены шестнадцать ответработников из Бурят-Монголии, в числе которых были нарком пищевой промышленности М. Г. Тюков, первый секретарь обкома ВЛКСМ В. А. Сахьянов, секретари райкомов партии Н. И. Зимин, Н. М. Писарев, П. Ш. Будажапов, Н. М. Мещенин, П. П. Морозов, Н. С. Шоболов, М. В. Юринский, заведующие военными отделами горкома и пригородного райкома М. Л. Этингов, С. И. Наталин, прокурор города Улан-Удэ А. Г. Хмелев, начальник политотдела милиции БМАССР А. Н. Иволгин, начальник спецчасти Управления связи Я. В. Карпов, начальник Бурстройтреста В. Б. Носкин, парторг Селенгинского пароходства И. Е. Фомин и другие3.
Семен Игнатьев возглавил всю работу по переводу органов управления и народного хозяйства республики на военные рельсы. На повестке дня совещаний и заседаний бюро обкома партии и Совнаркома стояли вопросы координации и контроля работы отраслей, предприятий и организаций по развертыванию производства военной продукции, размещению и запуску в эксплуатацию эвакуированных с запада промышленных предприятий. Бюро обкома партии рассматривало вопросы пошива обмундирования, теплых вещей для РККА и, например, вопрос производства на одном из предприятий республики гранаты «Ф-1».
Игнатьев был в курсе работы всех ключевых предприятий, производящих военную продукцию, знал, как работают цеха на заводе № 99, выпускающем истребители и бомбардировщики, фамилии начальников цехов и партийных активистов завода. Он также особое внимание уделял работе ПВРЗ, на котором кроме основной продукции — паровозов и вагонов — изготовляли минометы, снаряды и другое вооружение.
Выступая на одном из пленумов обкома партии, Игнатьев подчеркивал, что «священный долг каждой партийной организации Бурят-Монголии — найти силы для обеспечения боевой работы каждого предприятия, колхоза, совхоза и МТС, добиться, чтобы не было ни одного предприятия и колхоза, не выполняющего своего плана по графику. План должен выполняться каждый месяц и каждый день, чтобы давать фронту и стране продукцию…»1.
Даже в условиях военного времени Игнатьев постоянно уделял внимание вопросам подбора, воспитания и выдвижения перспективных кадров, особенно молодых работников. За время Отечественной войны в Бурят-Монголии из числа проверенных по деловым и политическим качествам много молодых товарищей было выдвинуто на партийную, советскую, хозяйственную, комсомольскую и профсоюзную работу. На должности, входящие в номенклатуру обкома ВКП(б), за это время было выдвинуто 457 человек, из коих кадров коренной национальности (бурят) — 22,7%, женщин — 38,9%2.
Современники, знавшие и работавшие с С. Д. Игнатьевым, поражались масштабностью его личности. Он обладал умением охватывать и держать на контроле большой круг вопросов, быстро улавливать суть дела, не упускать важные детали и наряду с этим вычленять главное и первостепенное, видеть перспективы.
Как партийный руководитель, он серьезно изучал теорию марксизма, свободно цитировал в своих устных выступлениях и докладах выдержки из произведений классиков. В отношении самообразования он был требователен к себе и добивался приобщения к чтению и самообразованию своих коллег и подчиненных. Так, говоря «о культурном горизонте кадров», он публично подчеркивал необходимость самообразования: «А между тем мы в своей среде имеем таких товарищей, которые, не понимая и недооценивая значения теории, увлекшись практической работой, считают, что в период отечественной войны, работа над овладением теории есть роскошь, свое нежелание овладеть теорией прикрывают занятостью и большой текущей работой. Не ясно ли, что такое непартийное отношение к теории может привести некоторых товарищей к деградации и вырождению в аполитичных деляг. К таким товарищам можно отнести некоторых работников СНК, аппарата ОК, ГК, некоторых секретарей АК ВКП(б), вроде Будаева, Филиппова, Николаева, Ильина и др. Разительный пример в этом отно- шении представляет секретарь Еравнинского АК тов. Цыдыпов. Он за три года (1938–39–40) прочитал только три книги. У себя же дома он не имеет ни одной собственной книги… Секретари АК, работники партийных органов, если они хотят быть действительными руководителями масс, обязаны учиться, как бы это трудно не было»1.
Сам Семен Игнатьев постоянно и много читал, знал и любил не только отечественную, но и зарубежную литературу, обладал широким кругозором, богатым словарным запасом. В отличие от многих прежних (и особенно нынешних) руководителей, которым доклады и выступления готовят подчиненные и аппарат, Семен Денисович все доклады и выступления на конференции и пленумы писал сам лично, об этом можно судить по тем оборотам речи и цитированию пословиц и поговорок, высказываний известных мыслителей прошлого, не привычным для бюрократического языка чиновника. Плодом его работы над собой и чтения многочисленной литературы, изучения трудов мыслителей различных эпох стала книга «Афоризмы», изданная в Улан-Удэ в 1972 г. и переизданная в 1975 г.
На фоне остальных руководителей Игнатьев заметно отличался своим стилем работы, манерами поведения и общения не только с коллегами и подчиненными, но и рабочими и колхозниками. Его отличала высокая внутренняя культура и личная скромность в быту.
Так, например, прибыв в Улан-Удэ осенью 1937 г., С. Д. Игнатьев был поселен (как это указано в его личном деле2) в «Доме ИТР» квартире № 6 по улице Куйбышева, сегодня это дом под номером 42, деревянный двухэтажный с двумя подъездами, в 1930-е гг. — без воды и удобств, с печным отоплением. Нигде в анкетных документах и автобиографиях он не указывал информации о своей семье, по отрывочным сведениям удалось только установить, что его супругу звали Милица Александровна, а сына Геннадий.
Дополняют индивидуальный портрет Семена Денисовича Игнатьева отзывы о нем его коллег по работе, которые содержатся в их письмах с фронта.
Из письма С. Д. Игнатьеву бывшего наркома пищевой промышленности БМАССР М. Тюкова, ушедшего в 1941 г. на фронт добровольцем:
«…Семен Денисович! Лично я должен поблагодарить Вас, Соломона Матвеевича и Степана Порфильевича за Ваше партийное и волевое воспитание, которое Вы привили мне в процессе моей работы совместно с Вами в Бурят-Монголии. Я вполне законно считаю себя Вашим воспитанником.
Если только предоставится возможность в будущем быть и работать в гражданских условиях (это я имею по окончанию войны и безусловно нашей победы), то я обязательно буду стараться работать вместе с Вами и под вашим руководством.
Остаюсь Ваш. М. Тюков. До свидания Семен Денисович!»3.
Игнатьевым был выдвинут на работу заведующим Отделом пропаганды и агитации Обкома партии, а затем главным редактором газеты «Бурят-
Монгольская правда» Шулукшин Максим Ильич, выпускник философского факультета ИМЛИ.
В 1942 г., находясь в армии, в письме С. Д. Игнатьеву Шулукшин так отзывался о нем: «Дорогой Семен Денисович! …зная Вас как партийного руководителя, отличающегося большевистской чуткостью (я не боюсь того, что Вы можете в этих словах заподозрить лесть, ибо Вы достаточно хорошо знаете меня. Откровенно говоря, я пристально изучал Ваш стиль работы и скажу прямо — многому научился. Я это чувствую теперь. Моя работа в Улан-Удэ была прекрасным вторым институтом, в котором я так нуждался)…»1.
Максим Шулукшин впоследствии стал одним из лидеров политического противостояния другому первому секретарю БМ ОК ВКП(б) А. В. Кудрявцеву. В 1947 г. Шулукшин, находясь в заключении в Джидлаге, писал друзьям в Улан– Удэ (содержание писем оперативным путем было прочитано органами МВД и передано спецсообщением А. В. Кудрявцеву): «Характеризуя бывшего секретаря Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) тов. Игнатьева, Шулукшин писал: «...Я его изучил до тонкости. Я молился на него, копировал каждый шаг, учился каждому его жесту. Это тончайший дипломат, в душе которого прекрасно уживались натура предприимчивого янки времен «Золотой лихорадки» в Аляске и коммуниста старой ленинской закалки…»2.
-
V Мобилизовать народное хозяйство на нужды войны
Семена Игнатьева как руководителя Бурят-Монголии отличала требовательность, деловая хватка и конкретность в руководстве народным хозяйством. Его инженерное образование и мышление, знание технологических процессов производства и техническая культура легли в основу компетентного руководства промышленностью республики. Говоря современным языком, его можно назвать менеджером высочайшего уровня, определявшим стратегические перспективы республики и готовившим кадры руководителей, которые в дальнейшем, по его задумке, должны были продолжить начатое им.
Он следующим образом обосновывал важность работы с кадрами: «Мы по существу не занимались вопросами воспитания кадров, плохо занимались вопросом выдвижения и выращивания молодых, новых кадров. Многие товарищи до сих пор склонны думать, что без привозных кадров из Москвы дело не выйдет. Это чепуха и сущая неправда. О том, что у нас есть свои хорошие кадры говорят примеры таких организаций, как Заиграево, Закаменск, Баунт. Стоило только приглядеться и кадры нашлись. Правда, некоторые товарищи не имеют опыта работы, но это дело наживное, преданность, честность, желание работать у наших вновь выдвинутых на ответственную работу товарищей есть, а опыт они приобретут при нашей помощи.
Выдвижение и выращивание молодых кадров есть основное условие в деле быстрейшей ликвидации последствий вредительства во всех областях нашей ра-боты»3.
Можно с уверенностью сказать о том, что Семен Денисович выдвинул и воспитал плеяду таких молодых руководителей, как С. М. Иванов, А. У. Хахалов,
Д. Д. Цыремпилон, И. Б. Борсоев, Г. А. Цыденова, М. И. Шулукшин, М. Г. Тюков, И. И. Болдогоев, В. Р. Филиппов, А. У. Модогоев, Б. С. Санжиев и другие, которые продолжили начатое им дело.
Он уделял пристальное внимание развитию ведущих отраслей народного хозяйства, которые должны были стать локомотивами экономики Бурят-Монголии. В интересах дела не игнорировал и не отбрасывал, а старался продолжить все то ценное, начатое его предшественниками (М. Ербановым и Д. Доржиевым) в народном хозяйстве Бурят-Монголии. В этом, несомненно, его большая заслуга.
Важное значение в социально-экономическом развитии республики он придавал максимальному и рациональному использованию богатых природных ресурсов Бурят-Монголии. 31 мая 1939 г. С. Д. Игнатьев в письме секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Андрееву по проблемам использования природных ресурсов Бурят-Монголии в развитии экономики республики писал: «…В советских органах республики без использования лежит большое количество материалов изучения богатств Б.-МАССР, проводившегося в разное время Академией наук и ее институ-тами»1.
В этом письме С. Д. Игнатьев ссылался на материалы первой научной конференции по изучению производительных сил Бурят-Монгольской АССР, организованной по инициативе Председателя Совнаркома БМАССР Дажупа Доржие-ва Академией наук СССР и состоявшейся в 1934 г. в Ленинграде, реализация которой не началась из-за ареста Доржиева в 1937 г.
Своеобразным подведением итогов работы Семена Игнатьева в республике и наказом для своих последователей стала брошюра «Экономические ресурсы Бурят-Монголии и задачи освоения их в условиях Отечественной войны», написанная им и изданная в Улан-Удэ в 1943 г.
Во всех своих выступлениях и докладах Игнатьев подчеркивал важность борьбы за экономию ресурсов, необходимость использования местных природных ресурсов республики: «…многие наши отрасли промышленности, особенно местная, пищевая, строительная, кустпромкооперация и др., имея огромные возможности с успехом выполнять план и расширять номенклатуру выпускаемых изделий за счет широкого использования местного сырья и материалов, все же продолжают сидеть на привозном сырье…»2.
Он всегда требовал планомерности в работе и четкой организации производственного процесса. Так, подводя итоги 1942 хозяйственного года и ставя задачи партийной организации, он говорил: «Я думаю, что наши задачи в этой области работы должны сводиться к тому, чтобы, осудив преступную, выбивающую рабочих и ИТР из нормальной колеи и из сил практику работы методом штурма, мы обязаны… организовать работу так, чтобы борьба за выполнение планов и заданий правительства велась одинаково напряженно, каждый день, каждый месяц в течение всего года, а не в последние его месяцы…»3.
Еще характерным для личности Семена Игнатьева как руководителя была его высокая внутренняя культура, она проявлялась во всем: в его культуре мыш- ления и культуре личного труда, и он старался убедить и донести до коллег, руководителей аймаков, промышленных предприятий, колхозов и рядовых тружеников важность и нужность культуры.
На одном из собраний партийно-хозяйственного актива, разбирая причины плохой работы машинно-тракторных станций, Игнатьев сделал акцент на важности привития культуры труда: «Дело в том, что огромное количество простоев тракторов является прямым результатом нашего бескультурья, которое царит у нас во всех, без исключения, машинно-тракторных станциях даже и некоторых передовых. Не надо быть инженером, не надо быть тем более профессором, чтобы уметь бороться с грязью, пылью и песком, забившими мотор трактора...
Для этого нужна простая систематическая культура, нужен уход за машиной, нужен такой же уход, как и за самим собой. А между тем у нас трактористы сами за собой не ухаживают… Надо привить им культуру, надо внушить им совершенно необходимые условия в их работе, бережное отношение к машинам, самый тщательный, любовный уход за этой машиной... Бескультурье в быту, бескультурье в работе в значительной степени влияет на всю работу»1.
Семен Игнатьев придавал большое значение роли человеческого фактора и умел убеждать людей, обращаясь к ним непосредственно живым словом. На примере письма к колхозникам Кяхтинского аймака видно его огромное желание решить проблемы конкретного колхоза и сельского хозяйства в целом. Так, в связи со сложившимся критическим положением в сельскохозяйственной артели им. Куйбышева Кяхтинского аймака он лично 3 января 1939 г. обратился к колхозникам с письмом, в котором, назвав проблемы и причины тяжелого положения хозяйства, призвал их взять управление колхозом под свой контроль и предложил пути вывода колхоза из кризиса2.
Необходимо отметить, что Семен Игнатьев продвинул дальше начатое Михеем Ербановым в 1930-х гг. развитие овощеводства в Бурят-Монголии и создание вокруг г. Улан-Удэ плодоовощных хозяйств, в частности в с. Сотниково. Подчеркивая важность развития овощеводства, Игнатьев говорил: «Мы уже 4 года не завозили в республику, а вывозили из республики овощи. Но этого мало. Мы во что бы то ни стало должны развить эту отрасль хозяйства до таких пределов, чтобы можно было вывозить овощи не только в сыром виде, но и построить несколько овощеконсервных заводов, организовать переработку овощей в консервы и удовлетворить ими свои потребности и потребности соседних областей. И мы это сделаем с Вами, обязательно!»3
Особое внимание С. Игнатьев уделял развитию животноводства — главной отрасли сельского хозяйства Бурят-Монголии: «Одной из причин, сдерживающих успешное развитие животноводства, — подчеркивал он, — является плохая забота... о максимальном расширении кормовой базы для общественного скота колхозов, который в силу этого до сих пор иногда пасется по снегу… мы обязаны обеспечить весь общественный скот колхозов теплыми помещениями на стойловый период.
У нас очень плохо движется дело метизации скота. Наш местный скот малопродуктивен, но при улучшении его высокопородным скотом он дает замечательные результаты... Наша первоочередная задача — максимально повысить продуктивность скота, превратив нашу республику в республику культурного высокопродуктивного и образцово поставленного животноводства…»1.
В феврале 1940 г. за выдающиеся успехи в сельском хозяйстве, в особенности за перевыполнение планов по животноводству, указом Верховного Совета Союза ССР Семен Денисович Игнатьев был награжден орденом Ленина.
По решению ЦК ВКП(б) 7 марта 1943 г. на заседании XIII пленума БМ ОК ВКП(б) С. Д. Игнатьев был освобожден от обязанностей первого секретаря и члена бюро Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) в связи с переходом на другую работу2. После Бурят-Монголии Семен Денисович Игнатьев с 1943 г. работал первым секретарем Башкирского обкома партии, в апреле 1946 г. был отозван «для использования на ответственной работе в ЦК ВКП(б)». С 1946 по 1947 г. — первый заместитель начальника Управления по проверке партийных кадров ЦК ВКП(б). С 1947 по 1949 г. — секретарь, второй секретарь ЦК КП(б) Белоруссии. С 1949 г.— секретарь Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б), уполномоченный ЦК ВКП(б) по Узбекистану. С 1950 по 1952 г. — заведующий отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК ВКП(б), специальным постановлением от 11 июля 1951 г. был назначен представителем ЦК в Министерстве государственной безопасности. С 9 августа 1951 по 15 марта 1953 г. — министр государственной безопасности СССР.
19 декабря 1953 г. он был вновь назначен первым секретарем Башкирского обкома. 27 июня 1957 г. назначен первым секретарем Татарского обкома, освобожден 3 декабря 1960 г. по состоянию здоровья. 1 июля 1967 г. решением Улан– Удэнского Горкома КПСС и горисполкома Игнатьеву Семену Денисовичу было присвоено звание «Почетный гражданин г. Улан-Удэ».
Не стало Семена Денисовича Игнатьева 27 ноября 1983 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Об С. Д. Игнатьеве написано много статей, особенно о татарском и московском периоде жизни, в 2012 г. в Казани вышла книга известного татарского профессора-историка Булата Султанбекова «Семен Игнатьев: Свет и тени биографии сталинского министра».
Семен Денисович Игнатьев, оказавшийся в трудное время во главе республики, оставил о себе добрую память в Бурятии как незаурядная и масштабная личность, чуткий, сильный организатор и мудрый руководитель!