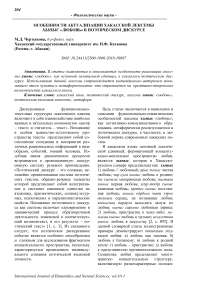Особенности актуализации хакасской лексемы хыныс "любовь" в поэтическом дискурсе
Автор: Чертыкова М.Д.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 10-1 (25), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье выявляются и описываются особенности реализации лексемы хыныс «любовь», как основной ментальной единицы, в хакасском поэтическом дискурсе. Использование данной лексемы сопровождается индивидуально-авторским пониманием этого чувства и метафоричностью, что отражается на креативно-творческих возможностях хакасского языка.
Хакасский язык, поэтический дискурс, лексема хыныс "любовь", поэтическая языковая личность, метафора, token of хыныс "love"
Короткий адрес: https://sciup.org/170184749
IDR: 170184749 | DOI: 10.24411/2500-1000-2018-10097
Текст научной статьи Особенности актуализации хакасской лексемы хыныс "любовь" в поэтическом дискурсе
Дискурсивные функциональнотекстовые структуры лексических единиц включают в себя взаимодействие наиболее важных и актуальных компонентов «автор - текст» и «читатель - текст». Возникшие в особом ценностно-эстетическом пространстве тексты представляют собой соотношение созидания и восприятия различных рациональных информаций в виде образов, событий, эмоций человека. Подобная линия динамических процессов встраивается в организованную дискурсивную систему речевого произведения. «Поэтический дискурс - это сложная, нелинейно организованная система поэтических текстов, образно-речевые элементы которой представляют собой интегративное и системно связанное единство их языковых, прагматических, социокультурных, психических и паралингвистических свойств. Понимание поэтического дискурса как системы включает одновременно и динамический процесс образноречевой деятельности, вписанной в соответствующий метаконтекст, и его результат - поэтический текст» [1, с. 3]. Из сказанного следует, что поэтическое дискурсивное событие является особенно своеобразным и сложным для исследования фрагментом концептуального пространства, поскольку характеризуется проявлением индивидуального сознания поэтической языковой личности.
Цель статьи заключается в выявлении и описании функционально-семантических особенностей лексемы хыныс «любовь», как когнитивно-коммуникативного образования, метафорически реализующегося в поэтическом дискурсе, в частности, в любовной лирике современных хакасских поэтов.
В хакасском языке основной лексической единицей, формирующей концептуально-ментальное пространство любви, является хыныс, которая в Хакасскорусском словаре представлена как хыныс 1) любовь // любовный; арыF хыныс чистая любовь; чир-суFа хыныс любовь к родине; iче хынызы материнская любовь; пастаFы хыныс первая любовь; удур-тод1р хыныс взаимная любовь; иртпес хыныс постоянная любовь; хыныс кöрбеен чиит чÿрек молодое сердце, не познавшее любви; хыныснац парарFа выходить замуж по любви; хыныс сарыны любовная лирика; 2) любовь, пристрастие к чему-либо; му-зыкаа хыныс любовь к музыке; искусстваа хыныс любовь к искусству [2, с. 892]. В данной словарной статье иллюстративные примеры демонстрируют несколько подвидов любви: а) любовь как таковая; б) любовь к ближнему; в) любовь к родной земле; г) любовь - пристрастие; д) любовь к представителю противоположного пола. Семантика любви представляет многогранную концептуальную структуру, включающую разнохарактерные положи- тельные эмоциональные чувства. Нас же в интерпретации значения лексемы хыныс «любовь» интересует когнитивносемантическая модель «любовь – лицо противоположного пола», поскольку наш фактический материал выдаёт наибольшее количество примеров, актуализирующих именно эту часть исследуемого концепта. Такое положение, возможно, объясняется тем, что любовь относится к «высоким» чувствам и более свободно маркируется в индивидуально-поэтическом словотворчестве, чем в «обыденном» дискурсивном пространстве
Удачную характеристику понятию романтической любви даёт Ю.Д. Апресян: «Идеальная любовь мыслится в русском языке как исключительно сильное и глубокое чувство, во многом необъяснимое и драматическое, испытываемое однажды в жизни по отношению к единственному человеку другого пола и сопровождаемое уверенностью субъекта, что в мире нет другого человека, который любил бы его предмет с такой же силой, как любит он сам, связанное с наличием физической близости и стремлением к ней и обычно взаимное, поднятое на бытом и способное дать человеку ощущение счастья» [3, с. 248]. Однако описанная автором идеальная любовь, в зависимости от характера протекания действия, может иметь различные свойства. С.Г. Воркачев, ссылаясь на работы современных западных социологов, выделяет такие подвиды романтической (эротической) любви: 1) эрос – страстная любовь, направленная на полное физическое обладание; 2) сторге – любовь – привязанность, любовь – дружба, «супружеская любовь»; 3) людус – любовь – игра; влюблённость; 4) прагма – рассудочная любовь, любовь по расчёту; 5) мания – любовь – одержимость, любовь – зависимость и 6) агапе – бескорыстная, жертвенная любовь [4, с. 44]. На наш взгляд, в хакасском поэтическом дискурсивном пространстве можно отметить все перечисленные подвиды любви, кроме пунктов 1 и 4.
В хакасском языке действует также лексема кööленіс «любовь, влечение, страсть, влюблённость, обожание; хыстың кööленізі любовь девушки; □ кööленістің кÿзі улуғ погов. у любви сила большая» [ХРС, 2006, с. 203]. Данная лексема сино-нимизируется с хыныс «любовь» в обозначении признака: «любовь к представителю противоположного пола»: Мындағ кööленіске тоғасханда, / пустығ чÿреем хайылды (Чкч, 337) – Встретившись с такой любовью [моё] ледяное сердце растаяло. Кööленіс сарыннарын сарнапчам, / изір парчам, хыстарзар кöре (Т, 83) – Пою песни любви и пьянею, глядя на девушек. Однако по критериям частотности, семантико-функциональных и формообразующих возможностей лексема кööленіс уступает лексеме хыныс.
Как известно, в поэтическом дискурсе наиболее ярко актуализируется метафора, как расширенный вариант взаимодействия креативно-творческих возможностей языка и индивидуально-авторского мышления. В творчестве хакасских поэтов мы встречаем такие ассоциативно-образные интенции концепта «любовь», как Абахай сÿрместіг хынызым (Тч, 23) – [моя] любовь с красивыми косами; Хыныстың та-дии халар чÿреемде (Чкч, 335) – привкус любви останется в моём сердце; Хыныстың ізіг салғаанда / часкалығ ла изір парчам (Чкч, 337) – В горячей волне любви [я] пьянею – счастливый; Че ол даа порааннығ чуртас хысхыда / хыныс чылии чох соохха тооп ылғир (Р, 82) – И он во вьюжной зиме жизни будет плакать, замерзая, без любовного тепла. Чÿрек чÿрекке учух чöрче хыныс (Т, 24) – Из сердца в сердце летает любовь и т.д. Данные примеры показывают, что метафоры, используемые поэтической языковой личностью как результат его образного мышления, хоть и отражают знакомые читателям коммуникативные события, но выходят за пределы системных смысловых структур. Коммуникативная схема «поэтическая языковая личность – метафорическое событие – читатель», обслуживая сложное когнитивно-экстралингвистическое целое знаний о мире, является обязательным фактором поэтического дискурса.
Речемыслительная специфика поэтической языковой личности обнаруживается также в его размышлениях о ценностной сущности любви: Хыныс – ол кии, хачан тының читпинче (Т, 79) – Любовь – это воздух, когда не хватает дыхания. Хыныс – хачан харда кöрчезің чахайахтарны (Т, 79) – Любовь – это когда на снегу видишь цветы. Хыныс – суғ осхас, кÿннің дее іссең, / ирікпессің – олох тадылығ (Р, 35) – Любовь – как вода, каждый день пей – не надоест, настолько она вкусна. Хыныс таа тööй хабах арағаа, / изіртіпче, теепче чÿрек-пасха (Р, 78) – Любовь похожа на водку, ударяет в голову и сердце. Хачан сын хыныс полбин парза, / тööй іскі соондағы пахпырға (Р, 78) – Если любовь окажется не настоящей, то это похоже на похмель после пьянки. Как видим, из примеров, образное сравнение любви с нехваткой дыхания, цветком на снегу, с вкусной водой, с водкой, ударяющей в голову и сердце, демонстрирует её скрытые от обыденного глаза сущностные характеристики. Это и есть присущий поэзии принцип построения метафоры, а именно, «… в метафоре противопоставлены объективная, отстраненная от человека действительность и мир человека, разрушающего иерархию классов, способного не только улавливать, но и создавать сходство между предметами» [5, с. 18].
К индивидуально-авторским проявлениям словотворчества поэтической языковой личности относится также использование лексемы хыныс «любовь» с аффиксом множественного числа -тар: хыны-стар «любови»: Піс кирекпіс хыныстарға / кÿннің сай чÿрек азарға. / Кÿннің сай, чылдаң чылға / хыныс от тамызарға (Т, 3) – Мы должны любовям каждый день открывать сердца. Каждый день из года в год зажигать огонь любви. Таразып учух- ханнар тигірзер хыныстар (Чкч, 58) – Врассыпную в небо улетали любови. Иртіп парар, иртіп парар / ам кöйчеткен хыныстар (Т, 16) – Погаснут, погаснут сейчас горящие любови. Наа чылда, хы-ныстарны сахтап, наа алчаастарны идіп, чуртирбыс (Т, 29) – Дождавшись любовей на новый год, [мы] будем жить, совершая новые ошибки. Очевидно, что в таких случаях действующим лицом является субъект, именуемый «мы», поскольку понятие любви связано с категорией единственности и, чаще, неповторимости объекта. Однако исключением является высказывание, повествующее от героя, выраженного в единственном числе: Мині хам кізее ысча-лар: – Ағырчазың! – чоохтапчалар. – Чох! – тіпчем мин арғыстарға. – Ағырчам мин… хыныстарнаң (Т, 66) – Меня отправляют к шаману: – Болеешь! – говорят. – Нет! – говорю [я] друзьям. – Болею я … любовями…
Таким образом, нами проанализированы особенности реализации лексемы хы-ныс «любовь», как основной ментальной единицы, в хакасском поэтическом дискурсе. Использование данной лексемы сопровождается индивидуально-авторским пониманием этого чувства, метафоричностью, что отражается на креативнотворческих возможностях хакасского языка. Однако поэтический дискурс исследователями признаётся как особенно сложный, концептуальный феномен взаимоотношения языка и мышления, носящий внесистемный и «не законсервированный» характер. И в национальном поэтическом словотворчестве, обусловленной индивидуальностью поэта, труднее всего выявить черты, свойственные для мировоззрения конкретного этноса.
Список литературы Особенности актуализации хакасской лексемы хыныс "любовь" в поэтическом дискурсе
- Чумак - Жунь И.И. Дискурсивное пространство поэтического текста: образное слово в русской лирике конца XVIII - начала XXI веков: автореф. … докт. филол. наук. Белгород. 2011.
- Хакасско-русский словарь = Хакас-орыс сöстiк / О. П. Анжиганова, Н.А. Баскаков, М. И. Боргояков, А. И. Инкижекова-Грекул, Д. Ф. Патачакова, О.В. Субракова, П.Е. Белоглазов, Р.Д. Сунчугашев, З.Е. Каскаракова, М.Д. Чертыкова. - Новосибирск: Наука, 2006. - 1114 с.
- Апресян Ю.Д. Исследования по семантике и лексикографии. Том I. Парадигматика. М.: Языки славянских культур. 2009. 568 с.
- Воркачев С.Г. Любовь как лингвокультурный концепт. М.: Гнозис. 2007. 284 с.
- Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры: Сборник: пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз. / Вступ. ст. и сост. Н.Д. Арутюновой; Общ. ред. Н.Д.Арутюновой и М.А. Журинской. М.: Прогресс, 1990. 512 с.