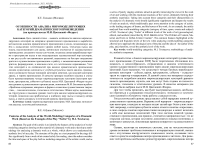Особенности анализа миромоделирующих категорий драматического произведения (на примере пьесы М.И. Цветаевой "Федра")
Автор: Гильяно Карина Евгеньевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
Цель данной статьи - выявить особенности анализа миромоделирующих категорий на материале драматического произведения и выработать методологию анализа драматического произведения в целом, позволяющую выйти к осмыслению эстетического уровня любой пьесы. Структура пьесы как текста, подготовленного для сцены, значительно отличается от художественного произведения, созданного только для чтения, поскольку автор прорабатывает время и пространство пьесы и как моделирующие художественный мир категории, и как ряд сугубо постановочных решений, нацеленных на быстрое погружение зрителя в художественное произведение и работу с эмоциональными реакциями зрителя, формирующих, в конечном счете, его эстетическое переживание. Учет этих категорий и их особенностей при анализе драматического произведения должен существенно дополнить и углубить результаты такого анализа, традиционно уделяющего больше внимания категории действия, как ведущей категории драмы, и героям произведения. В качестве примера подобного анализа в статье были проанализированы четыре миромоделирующие категории (категории времени, пространства, события и субъекта) пьесы М.И. Цветаевой «Федра» на разных уровнях художественного произведения, описанных М.М. Бахтиным в работе «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве», - гносеологическом, этическом и эстетическом. Общие черты, выделенные на структурном и языковом уровнях текста при анализе миромоделирующих категорий, позволили нам приблизиться к идейному ядру пьесы и замыслу автора пьесы, а значит, раскрыть эстетический уровень произведения.
Миромоделирующие категории, м.и. цветаева, методология анализа, эстетический компонент
Короткий адрес: https://sciup.org/149139044
IDR: 149139044 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_86
Текст научной статьи Особенности анализа миромоделирующих категорий драматического произведения (на примере пьесы М.И. Цветаевой "Федра")
В нашей статье «Анализ миромоделирующих категорий художественного произведения» [Гильяно 2020] была теоретически обоснована возможность и целесообразность отграничения и анализа эстетического уровня художественного произведения через анализ миромоделирующих категорий. Было выяснено, что существует четыре базовых миромоделирующих категории - субъект, время, пространство, событие - и рассмотрели их характер и корреляцию. В данной статье мы намерены сосредоточиться на подробном анализе миромоделирующих категорий драматического произведения, изучить, как они могут быть поданы на гносеологическом, этическом и эстетическом уровнях. В качестве материала для анализа были выбрана пьеса М.И. Цветаевой «Федра».
Для того чтобы прояснить, как будет выстраиваться анализ, необходимо обратиться к содержанию гносеологического, этического и эстетического уровней и обозначить этапы работы с каждым из них.
Гносеологический уровень представляет собой иерархию понятий художественного произведения. Вершина этой иерархии - миромоделирующие категории, в каждую из которых входит целый круг более узких понятий: например, к категории субъекта можно отнести понятие «персонаж», в свою очередь понятие персонажа также неоднородно и может включать в себя еще несколько подпонятий. При этом система понятий художественного произведения, как правило, отличается завершенностью: это не открытая система, которая постоянно дополняется новыми понятиями, а конечная и замкнутая, поясняющая правила конкретного художественного мира.
Однако, несмотря на конечность системы, уже на гносеологическом уровне возникает проблема понимания и интерпретации понятий, связанная с отсутствием конгруэнтности социального опыта, осознания этого опыта и средств кодификации автора произведения и читателя. Для решения этой проблемы необходимо реконструировать миропонимание автора

и, следовательно, привлечь внетекстовый материал.
Автор, как и его творение, существует в некотором культурно-историческом пространстве, которое диктует понимание базовых категорий и философских универсалий. Так, например, представление о человеке в XVII в. разительно отличается от представлений века XX-го, и эти отличия находят свое отражение не только в науке, но и в искусстве. Однако неверно утверждать, что автор художественного произведения является лишь передатчиком идей и понятий, закрепленных в какой-либо исторический промежуток времени в философии или науке. Автор - это творческая сила, которая способна преобразовать и иногда полностью переработать существующие понятия.
Исходя из вышесказанного, мы можем сформулировать этапы анализа миромоделирующих категорий на гносеологическом уровне.
Первый этап связан с определением круга понятий, через которые выражены миромоделирующие категории в тексте произведения. Второй этап - с анализом современных автору рецепций этих понятий. На третьем этапе исследователю необходимо провести анализ миромоделирующих категорий произведения и соотнести эти результаты с полученными на втором этапе: любые отличия в них являются значимыми. После проработки миромоделирующих категорий на гносеологическом уровне необходимо обратиться к этическому уровню.
На этическом уровне художественного произведения происходит оценка понятий. Но оценка эта имеет двойственную природу.
Всякая оценка существует только в рамках категории субъекта, однако в художественном произведении присутствуют два типа субъекта: «активный, действующий субъект, место которого занимает персонаж, или, пользуясь наиболее подходящим в данном случае термином нарратологии, актор, и созерцающий, пассивный субъект, место которого занимает читатель и нередко автор» [Гильяно 2020, 116]. Оценка актора всегда ситуативна и может меняться в процессе развития активного субъекта, оценка же пассивного субъекта предполагает полное знание о мире художественного произведения, а потому дана в качестве конечной, застывшей формы. Оценка пассивного субъекта, наслаивается, покрывает оценку актора, и в то же время вступает с ней в противоречие, порождая эстетическое переживание. Таким образом, в художественном произведении происходит удвоение этического момента.
Итак, анализ миромоделирующих категорий на этическом уровне должен сочетать в себе анализ с точки зрения активного и пассивного субъектов. Только через соотнесение этих двух позиций возможен выход на эстетический уровень художественного произведения, поскольку «эстетически значимая форма есть выражение существенного отношения к миру познания и поступка» [Бахтин 1986, 290], те. к гносеологическому и этическому уровням произведения.
Теперь обратимся непосредственно к анализу миромоделирующих категорий в пьесе М.И. Цветаевой «Федра».
Одна из особенностей анализа миромоделирующих категорий драматического произведения - учет раздвоенности категории времени.
В принципе, внимание к анализу категории времени в рамках драматического произведения может показаться необычным, поскольку ведущей категорией драмы является действие, те. категория события. Однако именно вопрос изучения времени кажется нам наиболее перспективным, поскольку в драме, как в произведении, созданном для сцены, категория времени отчетливо расслаивается на время зрителя (или читателя) и время персонажа (или любого действующего лица внутри произведения).
На эту характерную особенность категории времени в рамках драмы чаще всего обращали внимание при анализе пьес А.П. Чехова, поскольку привычный анализ, сосредоточенный на подробном разборе сюжетной составляющей той или иной драмы, не был применим к чеховским пьесам. А.П. Скафтымов в своей работе «К вопросу о принципах построения пьес А.П. Чехова» [Скафтымов 1972] неоднократно обращал внимание на то, что Чехов выводит на первый план бытовое и необратимое течение жизни, но никак не событийную канву; многие исследователи отмечали, что у Чехова особое значение имеет так называемое «чистое», т.е. субъективно воспринимаемое время.
В другом исследовании, посвященном одной из самых неоднозначных пьес в мировой литературе, был сделан акцент именно на зрительском восприятии произведения (в том числе и с точки зрения развития категории времени). Это позволило вывести разговор о «Гамлете» на новый уровень. Речь, конечно, идет о работе «Трагедия о Гамлете, принце Датском» Л.С. Выготского.
Выготский одним из первых обратил внимание на ряд сугубо постановочных решений Шекспира и проанализировал содержание пьесы с точки зрения театрального зрителя. В предисловии к «Психологии искусства» он сформулировал принципы этого анализа, который назвал «объективно аналитическом методом» [Выготский 2010, 7].
В нашем исследовании мы выстроим анализ миромоделирующих категорий драматического произведения, отталкиваясь от анализа категории времени, и покажем ее связь с другими категориями в пьесе М.И. Цветаевой «Федра».
Для корректного анализа пьесы «Федра» нам неизбежно придется привлечь другие драматические произведения, написанные на данный древнегреческий сюжет, выбранный М.И. Цветаевой в качестве основы («Ипполит» Еврипида и «Федра» Сенеки), поскольку любые отличия от них в пьесе М.И. Цветаевой могут быть значимыми.
Итак, сюжет о Федре имеет множество вариантов интерпретации.
Существовало две редакции «Ипполита» Еврипида, в одной из которых Федра открыто признается Ипполиту в своих чувствах (этот текст не дошел до нас), в другой же это делает за нее кормилица. Рассмотрим, как подается временной план в тексте второй редакции «Ипполита» [Еврипид 1999].

В прологе действие начинается ранним утром в Трезене, где Афродита раскрывает зрителю свой план мести Тесею. Важно, что Афродита обращается к уже свершившимся событиям: Федра впервые встретила Ипполита в Афинах, и Афродита внушила Федре любовь к пасынку Далее весь пролог только уточняет первое явление: мы действительно видим Ипполита, презирающего любовь и поклоняющегося Артемиде, и узнаем от хора (служанок Федры), что царица бредит.
Первое действие происходит в рамках того же дня, но уже в жаркий полдень. Внимание фокусируется на мучимой любовью Федре, и ее разговор с кормилицей становится одним из самых объемных эпизодов пьесы. Второе действие, где Федра слышит ответ Ипполита на признания кормилицы, напротив, показано очень коротко, почти отрывисто, хотя несет в себе едва ли не первое активное действие во всей пьесе, настоящее событие. Запомним это место, ведь не менее примечательно и то, что все события, произошедшие до признания, были поданы ретроспективно, в прологе. Это событие хотя и произошло здесь и сейчас, все равно оказалось спрятано за сцену, как будто автор намеренно хотел устранить сюжетную канву и выставить на первый план внутреннюю жизнь героев.
Следующее явление происходит в тех же временных рамках («жаркий полдень») и продолжает предыдущую сцену. Перед нами обличительный монолог Ипполита, снова разговор кормилицы и Федры, разговор Федры с Корифеем, из которого становится ясно, что Федра приняла некое решение для собственного спасения.
В третьем действии и далее по всей пьесе время никак не обозначается. Третье действие начинается за сценой (явление десятое), откуда мы узнаем, что Федра покончила с собой, и уже в следующем явлении прибывает Тесей и узнает о смерти жены. События сменяют друг друга очень быстро, и при этом как будто бы происходят в одном временном плане. После появления Ипполита действие снова замедляется: главное - разговор Ипполита и Тесея, в ходе которого Ипполит отвергает все обвинения и, смирившись с гневом отца, уходит на смерть.
В четвертом действии нам вновь пересказывают произошедшее за сценой - гибель Ипполита. В исходе же Артемида раскрывает Тесею правду, и основное действие сосредотачивается на предсмертном разговоре Ипполита с богиней и отцом.
Итак, почти все события трагедии подаются ретроспективно, а основное сценическое время уделяется вовсе не сюжетным перипетиям, но раскрытию внутреннего мира героев. Однако во многом иначе перед зрителем предстает трагедия Сенеки «Федра» [Сенека 1997].
Сенека не дробит трагедию на несколько действий и, открывая первую сцену ранним утром, больше никак не обозначает перемену времени. Также он не акцентирует внимание на том, как Федра полюбила Ипполита, и действие почти сразу начинается с ее стенаний и жалоб по поводу уготованной ей судьбы. Что удивительно, кормилица не уговаривает Федру поддаться страсти, а напротив, требует проявить стойкость («Уйми огонь безумный и не слушай // Надежды мерзкой. Кто любви противится // В ее начале - выйдет победителем» [Сенека 1997]).
Основное внимание Сенека уделяет разговору кормилицы и Федры, а затем - признанию Федры Ипполиту. После обвинений Ипполита кормилицей почти сразу же появляется Тесей, вернувшийся из путешествия в царство мертвых. В его монологе впервые появляется характеристика времени, показывающая, как долго Федра томилась страстью к своему пасынку («Четырежды сравняли ночь и день Весы» [Сенека 1997]).
Далее Федра клевещет на Ипполита, Тесей взывает к Посейдону и сразу же после этого на сцене появляется вестник, рассказывающий о гибели Ипполита. Действие развивается стремительно, хотя в реальности то же прибытие вестника должно было потребовать куда больше времени, чем отвел ему Сенека. Когда на сцену вносят тело Ипполита, появляется Федра и, сознавшись в клевете, убивает себя. Тесей, узнав правду, читает последние монологи и пытается собрать растерзанное тело Ипполита.
Как мы видим, смерть Федры, в отличие от трагедии Еврипида, не вынесена за сцену, как и многие другие сюжетные перипетии. Сенека больше внимания уделяет событийной основе и деталям, на которых держится сюжет (например, меч Ипполита служит поводом для его обвинения, затем -доказательством вины в глазах Тесея, и в конце - орудием самоубийства Федры).
Теперь перейдем к анализу «Федры» М.И. Цветаевой.
Пьеса разбита на четыре картины и, в отличие от трагедий Еврипида и Сенеки, никаких характеристик времени в начале пьесы не приводится. Также Цветаева дает сцену первой встречи Ипполита и Федры, когда та влюбляется в своего пасынка. У Еврипида мы узнали о произошедшем благодаря пересказу Афродиты, у Сенеки же и вовсе нет этого эпизода.
Во второй картине из разговора кормилицы, Федры и прислужниц мы узнаем, что прошла ночь («Всю ночь протряслися // Над твоей, краса, трясяся // Жизнью, - всю ночь протряслася!») [Цветаева 1994, 646]. Необходимо отметить, что вся вторая картина посвящена уговорам Федры кормилицей - с точки зрения сценического времени, этот эпизод является самым длинным и объемным.
Третью картину можно разделить на две части: сначала Ипполит беседует со слугой и получает тайное письмо, затем - встречается с Федрой, которая признается ему в любви. Сцена признания обрывается на кульминации: здесь нет места долгим монологам и проклятиям Ипполита, свой ответ он вкладывает в одно слово - «Гадина».
Четвертая и заключительная картина гораздо более дробная, чем предыдущие, и включает в себя сразу несколько событий: во-первых, кормилица находит тело повесившейся Федры (сама смерть остается за сценой, и если у Еврипида самоубийство Федры предвещает хор, то у Цветаевой факт смерти следует сразу же после оборванного признания в третьей картине), далее возвращается Тезей, и кормилица обвиняет Ипполита в гибели Федры. Тезей проклинает сына и взывает к Посейдону, после чего сразу
же появляется вестник, сообщающий о смерти Ипполита. Слуги приносят тело и, в ответ на протесты Тезея, показывают табличку с посланием Федры. Кормилица признается во всем Тезею, который обвиняет во всем рок и волю богов.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что сюжет «Федры» М.И. Цветаевой приближен к сюжету «Ипполита» Еврипида, однако в подаче некоторых событий есть существенные отличия. Остановимся на них подробнее.
-
• Еврипид ретроспективно представляет роковую встречу Федры и Ипполита (в пересказе Афродиты), когда как Цветаева отдает под нее первую картину пьесы.
-
• Признание в «Ипполите» подано коротко и происходит за сценой (Федра прислушивается к разговору кормилицы и Ипполита и раскрывает его содержание зрителям). У Цветаевой же сцена признания одна из основных: она занимает большую часть третьей картины.
-
• Несмотря на то, что смерть Федры у обоих авторов остается за сценой, у Еврипида хор раскрывает намерение Федры в музыкальном антракте. У Цветаевой нет никакого перехода или паузы между признанием и смертью, во временном плане оба этих события сливаются в одно.
-
• Еврипид в конце трагедии выводит смерть Ипполита на сцену, Цветаева же исключает этот эпизод из пьесы.
То и дело прибегая к пересказу событий или выводя некоторые события за сцену, Еврипид создает ощущение одновременности происходящего (все, что происходит на сцене, в то же время и за сценой). В «Федре» Цветаевой события разворачиваются последовательно, и вплоть до четвертой картины между ними можно увидеть временной зазор: ночь проходит со встречи Ипполита и Федры до ее разговора с кормилицей, гибель Федры, поданная с помощью контраста с кульминацией в сцене признания, и вовсе выводится за пределы какого-либо временного плана (ясно, что она произошла не в момент оборванного признания и не когда кормилица находит тело Федры). Далее действие убыстряется, но все события по-прежнему подаются линейно, нанизываются одно за другим, а ощущение времени и вовсе разрушается в четвертой картине как таковое.
Заметим еще раз, что время, как категория, исчезает именно после смерти Федры. Но почему?
Если мы обратим внимание на современные Цветаевой концепции времени, то увидим, что наиболее влиятельными из них была предложенная А. Бергсоном, а также идея «вечного возвращения» Ф. Ницше. И если на содержательном уровне близкой цветаевскому тексту кажется концепция Ницще, поскольку в конце четвертой картины Тезеем проводится мысль о повторном наказании («Ко мне, за Наксоса разоренный сад. // В новом образе и на новый лад - // Но все та же вина покарана. // Молнья новая, туча старая» [Цветаева 1994, 686]), то форма диктует совсем иное представление: со смертью сознания главной героини (Федры) исчезает и переживаемое ею время, далее остается лишь последовательно фиксировать события, воспринимаемые одним сознание - сознанием зрителя.
Таким образом, первые три картины «Федры» - это постоянный диалог сознаний (что, впрочем, отражается и на уровне текста: герои часто подхватывают друг за другом реплики, разговор строится в формате диалога, тогда как в четвертой картине огромное внимание уделено монологам). Четвертая картина - подведение итогов (и на уровне сюжета, и на идейном уровне), выведенное за временные отношения пьесы и сделанное скорее для зрителя, чем для героев трагедии.
До сих пор за рамками нашего анализа оставались категории пространства и субъекта. Рассмотрим, как выстраивается пространство пьесы у Цветаевой относительно категорий времени и события.
Действие первой картины происходит в лесу, вотчине Ипполита. Это дикое, неусмиренное пространство, образы которого будут появляться на протяжении всей пьесы. Место действия второй картины прямо не обозначено, но из беседы кормилицы, прислужниц и Федры становится ясно, что они находятся во дворце. Дворец - это островок цивилизации, место, где Федра пытается одолеть чувства разумом. В этой сцене (сцене дознания) кроме метафор, отсылающих к лесу, появляется символика моря. Место действия третьей картины - логово Ипполита. Из текста можно сделать вывод, что логово Ипполита находится в пещере в лесу («Не ложница, а берлога!» [Цветаева 1994, ббб], «К шкуркам ланичьим ревную, // Устилающим пещеру» [Цветаева 1994, 670]), и даже языком героев в этой сцене снова становится язык леса («Для тебя меня растили // Дебри Крита!» [Цветаева 1994, 669], «Сколько вздохов - столько листьев. // Не листва-но-ва - жизнь сохнет! // Сколько листьев - столько вздохов: // Задыханий, удушений...» [Цветаева 1994, 670]). Действие четвертой картины, как следует из слов Тезея, вновь разворачивается во дворце, однако отправной точкой сцены становится деревце, на котором повесилась Федра. Здесь символика леса вновь соединяется с морской.
Но если образ моря связан с губительной для героев властью Афродиты, то образ леса, с одной стороны, становится символом беспросветной страсти (как чаща, из которой Федра не может найти выход в первой картине), а с другой - единственными способом коммуникации героев. Это подчеркивается и в финале пьесы: «Пусть хоть там обовьет - мир бедным им! - // Ипполитову кость - кость Федрина» [Цветаева 1994, 686]. О том, что для Цветаевой образ деревьев и леса связан с актом коммуникации, пишет и О.И. Ревзина в статье «Тема деревьев в поэзии М. Цветаевой»: «Это - все то же, и на этот раз предельно точно обозначенное, стремление к идеальной коммуникации, которая дает максимум информации (по существу своему неисчерпаемой и взывающей к расшифровке) и обогащает человека, не травмируя его» [Ревзина 1982, 143].
Обращаясь к образам героев пьесы, необходимо обратить внимание на то, что в каждой картине есть ведущее лицо, на котором фокусируется внимание Цветаевой, и на место которого может встать зритель пьесы.
Ведущее лицо или субъект первой картины - Ипполит. Об этом гово-
рит не только пространство, тематически связанное с ним, но и внимание ко сну Ипполита, рождающему ощущение тревоги. Благодаря этому чувству Ипполит резко противопоставляется своему окружению и проявляет себя не только как действующий, но и как активно созерцающий субъект.
Ведущее лицо второй картины, без сомнения, Федра. Цветаева фокусируются на смятении, на заведомо проигранной борьбе Федры, но не потому что Федра отвергает доводы разума (напротив, именно доводами разума она руководствуется, когда пытается отринуть мысли об Ипполите, и ими же - из уст кормилицы - когда все-таки решается послать ему тайное письмо), а потому как на уровне чувств она уже ее проиграла. Именно внутренняя жизнь, внутреннее чувство влечет за собой события - и это касается не только Федры, но и Ипполита, ведь он отказывает Федре, опять же, руководствуясь не разумом, а чувствами.
Третья картина делится надвое: в сцене со слугой ведущим лицом является Ипполит. Он снова возвращается к мыслям о своей матери, а затем уже вскрывает письмо Федры, и право вести достается ей.
Четвертая картина, как с точки зрения пространственно-временных характеристик, так и с точки зрения категории субъекта, оказывается самой сложной. Ни Федры, ни Ипполита больше нет, но их функции будто бы подхватывают кормилица и Тезей соответственно: повесившись, Федра пытается снять с себя и грех, и страсть, кормилица же своей ложью старается довести начатое до конца. Вернувшийся Тезей подхватывает роль обличителя, в которой Ипполит проявил себя в третьей картине. Но если в предыдущих картинах, как на уровне пространства, так и на уровне категории субъекта отчетливо прослеживается противопоставление, то в последней картине оно нивелируется. Тезей, узнав правду, отходит от роли обличителя, в которой так и остался Ипполит (мы помним, что третья картина кончилась обвинением Ипполита, и после он в пьесе не появляется), снимает вину с кормилицы и примиряет Федру и Ипполита после смерти. Четвертая картина - синтез, наконец случившаяся коммуникация, и эта коммуникация происходит не только на уровне героев, но и на уровне зрителя и автора: именно в четвертом действии Цветаева не таясь озвучивает идейное содержание пьесы («Ипполитовы кони и Федрин сук - // Не старухины козни, а старый стук // Рока. Горы сдвигать - людям ли? // Те орудуют. Ты? Орудие» [Цветаева 1994, 685]).
Таким образом, оттолкнувшись от анализа категории времени в пьесе М.И. Цветаевой «Федра», мы увидели, что идея диалога двух сознаний повторяется Цветаевой не только на уровне категории события, тесно связанной со временем, но и в других категориях: изменения пространства пьесы, поданные на уровне и структуры, и языка (метафоры, отсылающие к конкретным локациям, «лесная» образность), связаны с противопоставлением двух сознаний, которые пытаются, но так и не могут договориться - за них это делают Тезей и кормилица в последней картине пьесы; а смена действующего субъекта от картине к картине происходит по тому же сценарию, что и пространственные и временные перемены. Этот факт
(факт совпадения и созвучия базовых категорий пьесы) позволяет говорить о нашем приближении к идейному ядру пьесы, раскрытию замысла автора через последовательный анализ миромоделирующих категорий произведения.
Без сомнения, анализ каждой из миромоделирующих категорий пьесы М.И. Цветаевой «Федра» может и должен быть углублен, однако уже на этом этапе очевидно, что предложенный в данной статье подход к литературоведческому анализу позволяет охватить художественное произведение во всей его полноте и оценить, как взаимосвязаны, как влияют друг на друга и в какой системе находятся самые разные элементы пьесы, а также выйти к ее идейному содержанию.
Список литературы Особенности анализа миромоделирующих категорий драматического произведения (на примере пьесы М.И. Цветаевой "Федра")
- Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М.: Художественная литература, 1986. С. 26-89.
- Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Лабиринт, 2010. 352 с.
- Гильяно К.Е. Анализ миромоделирующих категорий художественного произведения // Филологические науки. 2020. № 3. С. 115-121.
- Еврипид. Ипполит // Трагедии: в 2 т. Т. 1. М.: Наука, Ладомир, 1999. URL: http://lib.ru/POEEAST/EVRIPID/evripid1_4.txt (дата обращения: 09.03.2021).
- Ревзина О.И. Тема деревьев в поэзии М. Цветаевой // Σημειωτκή - Sign Systems Studies. 1982. No 1. С. 141-148.
- Сенека. Федра // Греческая трагедия. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. URL: http://lib.ru/POEEAST/SENEKA/seneka1_1.txt (дата обращения: 09.03.2021).
- Скафтымов А.П. К вопросу о принципах построения пьес А.П. Чехова // Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. М.: Художественная литература, 1972. С. 339-380.
- Цветаева М.И. Федра // Собрание сочинений: в 7 т. Т. 3. М.: Эллис Лак, 1994. С. 633-686.