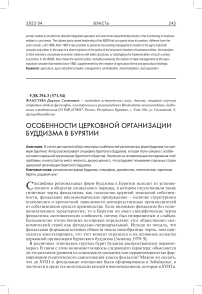Особенности церковной организации буддизма в Бурятии
Автор: Жамсуева Д.С.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье дан краткий обзор некоторых особенностей региональных форм буддизма (на примере Бурятии). Автор рассматривает специфику бурятского буддизма, которая тесно связана с особенностями социальной организации бурятского общества. Несмотря на основательные исследования этой проблемы, в ней остается много неясного, дискуссионного, что затрудняет понимание отдельных сторон церковной организации бурятского буддизма.
Региональная форма буддизма, специфика, духовенство, селенгинские, хоринские буряты, родовой культ
Короткий адрес: https://sciup.org/170199984
IDR: 170199984 | УДК: 294.3 | DOI: 10.31171/vlast.v31i4.9749
Текст научной статьи Особенности церковной организации буддизма в Бурятии
С пецифика региональных форм буддизма в Бурятии исходит из установленного в обществе социального порядка, в котором отсутствовали такие типичные черты феодализма, как господство крупной земельной собственности, феодальное внеэкономическое принуждение – наличие структурного подчинения и крепостной зависимости непосредственных производителей от собственников средств производства. Если возможен феодализм без основополагающих характеристик, то в Бурятии он имел специфические черты феодализма скотоводческих сообществ, потому был недоразвитым и слабым. Большинство отечественных историков определяют этот общественно-экономический строй как феодально-патриархальный. Исходя из посыла, что феодальная формация кочевых обществ имела своеобразные черты, нам приходится констатировать, что этот момент отразился и на основных аспектах церковной организации бурятского буддизма [Залкинд 1970: 9].
В различных этнических группах бурят буддизм распространялся неравномерно. В связи с этим возникают вопросы следующего характера: объясняется ли это различие уровнем их социального развития или неравномерностью формирования политического самосознания класса феодалов? Можно ли сказать, что до XVIII в. феодальные отношения были сформированы в Забайкалье, в частности в среде тех монгольских князей и военачальников, которые в XVIII в.
кочевали по Селенге, Хилку, Ингоде, Шилке и Онону вместе со своими подданными из числа монголов, омонголенных бурятских племен и родов других этносов Предбайкалья и Забайкалья? Так, например, Турухай-табун был зятем Сэцэн-хана, а Култуцин-царевич – вассалом первого.
Табангуты входили в число подданных Турухай-табуна, часть из них была передана в качестве приданого дочери Сэцэн-хана, выданной замуж за сына Тушету-хана, сам Тушету-хан в ХVII в. кочевал по территории, вплотную прилегающей к землям на средней Селенге. Однако те монголы и омонголенные племена и роды, которые ушли в Монголию, вновь появились на левобережье и правобережье Селенги в конце ХVII в. и в 20-х гг. ХVIII в. из уделов Тушуту-хана, Сайн-нойона и Сэцэн-хана. И в этот период они представляли собой разрозненные осколки военно-политических объединений, некогда возглавляемых монгольскими князьями [Залкинд 1958: 47-48].
В конце XVII в. и в 20-х гг. XVIII в. представители разнородного, пестрого состава этнических групп табангутов, сартулов, атаганов, цонголов, хатаги-нов, удзонов, оставшиеся на территории Забайкалья после разграничения границ между Россией и Китаем, в новых условиях должны были как бы заново налаживать свой общественный быт, приспосабливаться к порядкам, законам и требованиям царской администрации. В бурятском обществе «монгольским выходцам» пришлось перейти с «княжеского» уровня на «родовой», но прежний социальный опыт не мог исчезнуть без следа [Ламаизм… 1983 : 14].
Буддизм первоначально утверждается у селенгинских бурят монгольского происхождения не случайно и не только потому, что они и в XVII в. были уже буддистами. Становление церковных форм буддизма у селенгинских бурят связано с попытками политической консолидации правящих кланов. Нойоны селенгинских монголов прибегают к испытанному методу идеологического укрепления власти через церковный аппарат, поскольку мировая религия обладает пропагандистской силой верховного авторитета в хаосе противоборствующих сил феодального общества. Верховная элита стремится продвинуть сыновей или родственников, своих приближенных из богатых семей на высокие посты церковной организации. Не случайно тайшинский дом цонголов, претендовавший на главенство среди селенгинских монгольских родов, стремится занять главенствующее положение в церковных делах забайкальских бурят.
Церковная организация бурятского буддизма прошла несколько стадий в своем развитии: первоначально появились личные молельни в ставках монгольских князей, затем – общественные сумэ в родовых ведомствах. К 1741 г. таких сумэ насчитывалось 11, с 30-х гг. начинается их преобразование в дацан-ские комплексы. Первый дацан был основан в 30-х гг. XVIII в. вторым цон-гольским тайшой Ширапом Лубсаном вместе с цонгольскими родоначальниками: сначала выстроен войлочный дуган в Эргэ-Бургэ, затем он был перенесен в Хилгантуй. Уже в 1732 г. нойоны цонгольского административного рода ходатайствуют о присвоении звания главного ламы Агвану Пунцуку. В 1741 г. Хилгантуйский дацан признан главным среди 11 «ламских капищ» [Летописи селенгинских бурят 1936: 18].
Образование сети первых дацанов в Забайкалье характеризуется борьбой за власть между различными группировками нойонов административных родов. В 1741 г. лама Жимба Ахалдаев (сын Ахалдая, главы хатагинов) отделился от ведомства Хилгантуйского дацана и основал Гусиноозерский (Тамчинский) дацан, под верховенством которого объединились родовые сумэ атаганов, сартулов, табантутов, кочевавших в левобережье Селенги. Правобережные селенгинские дацаны – табангутский Бултумурский и ашабагатский Аракиретуевский – остались в ведомстве Хилгантуйского дацана.
С 50-х гг. XVIII в. началась напряженная борьба между группировками духовенства и нойонства правобережных и левобережных селенгинских родов за звание главного ламы над всеми забайкальскими дацанами. В XIX в. в эту борьбу включаются ламы и нойоны хоринских родов, т.к. со второй половины XIX в. к хоринским родам переходит ведущая роль в развитии культовой системы бурятского буддизма. Это церковное соперничество по своему содержанию шире, чем борьба за власть в рамках религиозной иерархии. В Забайкалье не было феодальных государственных образований и сильных ведущих влиятельных кланов. Формы борьбы за власть определялись условиями подчинения российской государственности и уровнем социального развития бурятского общества, его патриархальностью.
В развитии сети дацанов, административной структуры ламской общины и дацанского прихода обнаруживаются специфические закономерности, связанные с так называемым родовым принципом в социальной организации, пережитки которого действительно сказывались продолжительное время в бурятском обществе. От родовой структуры административных ведомств селенгин-ских, хоринских и других этнических группировок зависело количественное развитие сети дацанов.
В XVIII в. цонголы, табангуты, атаганы, хатагины, сартулы, ашебагаты и шесть предбайкальских родов селенгинских бурят основали 10 дацанов, территория прихода которых совпадала с границами ведомств административных родов. От Ацайского дацана атаганов отделились булагатские и эхиритские роды и основали свой Загустайский дацан, от него в XIХ в. отпочковались Иройский и Янгажинский дацаны по причине расселения и численного увеличения этих родов. От Цонгольского дацана отделился Кударинский дацан ашебагатов.
Иное территориально-религиозное распределение сложилось у хорин-ских бурят. Поскольку все земельные угодья, земля в целом принадлежала всем хоринцам, то здесь не было поместной обособленности родов. Первые три дацана – Худунский, Тугнугалтаевский, Анинский – обслуживали всех хоринских буддистов. В XIХ в. у хоринских бурят появилось около 10 дацанов (кроме 6 дацанов Урульгинской Степной думы с ее смешанным хоринским и хамниганским населением). Необходимость возведения культовых объектов в Бурятии, таким образом, диктовалась прежде всего необходимостью размещения их в непосредственной близости расселения верующих.
Так, стремление ведущих этнических групп иметь свои дацаны поблизости от родовых кочевий способствовало увеличению числа дацанов у хоринских бурят. В приходе Худунского дацана, по данным второй половины XIX в., числилось 10 родов, из них численно преобладали 4 рода – барунхуасай, после них галзуты, худай и хальбин. От Худунского дацана отпочковался Чесанский, в приходе последнего преобладал род зун-кубдут1. Кроме того, по принципу культового обособления ведущих этнических групп хори-бурят от Анинского дацана отпочковались Эгитуевский с преобладанием рода барун харгана, и Ацагатский, в приходе которого преобладал род худай, а в приходе Анинского перевес имели галзуты2. Эти примеры можно было бы продолжить по осталь- ным хоринским дацанам. Наиболее ранней организационной формой ламской общины было деление ее на аймаки, в которые ламы зачислялись по своему родовому происхождению. А.М. Позднеев, ревизовавший бурятские дацаны в 1909 и 1916 гг., изучив материалы дацанских архивов, сообщал, что ламская община Худунского дацана делилась на 4 аймака – галзут, худай, хальбин и хуасай. Ламы каждого аймака селились отдельно, прихожане содержали лам своего родового аймака и отдавали сыновей для посвящения в хувараки в свой ламский аймак. С наиболее важными религиозными требами прихожане обращались к ламам своего родового аймака [Жамсуева 2016: 15].
С течением времени этот порядок подвергался изменению одновременно с процессом перехода от родовой общины к соседской. В последней четверти ХIX в. территория прихода хоринских дацанов делилась по четырем сторонам света независимо от родового происхождения прихожан.
Административный род селенгинских бурят монгольского происхождения в силу большой этнической пестроты его состава еще в ХVIII в. был прежде всего территориальным объединением, а в основе деления дацанского прихода и ламской общины на аймаки была не родовая, а сельская, соседская община и ее земельная дача. Этим объясняется и стабильность числа дацанов у селенгинских бурят – выходцев из Монголии. Вместе с тем в культовой, идеологической организации общественного и семейного быта первичных социальных ячеек наследие патриархально-родовых отношений не теряло своего значения. Более того, буддийская церковь использует, укрепляет и консервирует родовые пережитки, например, родовой культ обо , или, точнее, культ семейно-родовых и родоплеменных покровителей бурят, которых буддийская церковь ассимилировала и ввела в систему бытовой буддийской обрядности. Наиболее значимые общественные культы ведущих этнических групп были кодифицированы в качестве главных приходских обо , на которых дацанское духовенство совершало торжественные сезонные обряды. Культ хозяев местности – покровителей родовой общины, а затем и соседской был введен в храмовую обрядность, в частности, в мистерии цам участвовали маски местных сабдаков – хозяев земли. Бурятская система культа обо отличается от монгольской и тибетской, хотя обрядовые действия, ритуальные тексты не имеют принципиальных отличий.
Таким образом, можно сказать, развитие и укрепление сети дацанов у селен-гинских бурят определились в основном уже в XVIII в., а у хоринских бурят – в начале XIX в. Буддийская церковь в своей деятельности затронула буквально все стороны жизни бурятского населения, разнородного по своему социальному составу; она оказала существенное влияние на его мировоззрение, обычаи и традиции, уклад жизни; стала центром культуры и образования, развития буддийского искусства и архитектуры. Региональные же отличия в области культовой организации и ритуальной деятельности сформировались прежде всего в бытовой религии, т.е. в тех представлениях и обрядах, которые отвечают характеру мировоззрения прихожан и обслуживают социальные, хозяйственные, семейные и другие нужды повседневной жизни народа. Но это тема для отдельного исследования.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-18-00074 «Миры махаянского буддизма в контексте мировых цивилизационных процессов»,
Список литературы Особенности церковной организации буддизма в Бурятии
- Жамсуева Д.С. 2016. Трансформация северного буддизма в условиях российского государства (по материалам дацанов этнической Бурятии). Часть 1. Иркутск: Оттиск. 231 с.
- Залкинд Е.М. 1958. Присоединение Бурятии к России. Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство. 319 с.
- Залкинд Е.М. 1970. Общественный строй бурят в XVIII - первой половине XIX в. - М.: Наука. 398 с.
- Ламаизм в Бурятии XVIII - начала XX века. Структура и социальная роль культовой системы. 1983. Новосибирск: Наука. - 232 с.
- Летописи селенгинских бурят. 1936. Вып. 1. Хроника Убаши Дамби Джалсан Ломбо Цэрэнова 1868 г. (изд. текста Н.Н. Поппе). М-Л.: Изд-во АН СССР. 55с.