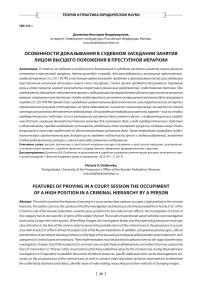Особенности доказывания в судебном заседании занятия лицом высшего положения в преступной иерархии
Автор: Долженко В.В.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 1 (82), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются особенности доказывания в судебном заседании занятия лицом высшего положения в преступной иерархии. Автор приходит к выводу, что расследование и раскрытие преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ, в настоящее время вызывает проблемы у правоприменителей: расследование преступлений указанной категории имеет свою специфику с точки зрения предмета доказывания. Огромную роль в этом процессе играют результаты оперативно-розыскных мероприятий, следственная тактика. При предъявлении обвинения следственные органы и надзирающий прокурор должны уделить пристальное внимание времени совершения преступления, чтобы предотвратить возможное возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. Кроме того, проведение сравнительных фоноскопических, культурологических экспертиз перманентных рисунков (татуировок) на теле обвиняемого, психолого-психиатрических экспертиз по таким категориям уголовных дел является необходимым. Их проведение необходимо намечать заранее - еще на стадии предварительного следствия. Если в материалах уголовного дела имеются фото- и видеоматериалы в свободном доступе, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, в ходе предварительного следствия в обязательном порядке необходимо установить владельцев этих интернет-ресурсов, которые могут быть допрошены в качестве свидетелей по обстоятельствам уголовного дела. Также необходимо проводить видеотехническую и фототехническую экспертизу на предмет подлинности фото- и видеоизображений, выявления следов видеомонтажа, ретуши и прочих методов изменения изображений.
Высшее положение в преступной иерархии высшее положение в преступной иерархии, доказывание, уголовная ответственность, судебная практика, государственное обвинение, предварительное следствие
Короткий адрес: https://sciup.org/14132912
IDR: 14132912 | УДК: 343.1
Текст научной статьи Особенности доказывания в судебном заседании занятия лицом высшего положения в преступной иерархии
В целях обеспечения эффективного противодействия организованной преступности уголовноправовыми средствами законодателем были внесены поправки в нормы действующего Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), что обусловило возможность привлечения к уголовной ответственности по ст. 210.1 УК РФ1 отдельной категории лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии («воров в законе»). Обладание вышеназванным статусом не регламентировано уголовно-правовыми нормами, находится за его пределами, то есть является в значительной мере неопределенным. В связи с этим имеющаяся диспозиция уголовно-правовой нормы вызывает сложности в правоприменительной практике.
Одним из таких проблемных вопросов является наличие правовых оснований для привлечения к уголовной ответственности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, продолжающих осуществлять противоправные действия после вступления в законную силу приговора суда, которым данное лицо осуждено за совершение указанного преступления.
Как следует из текста апелляционного определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2018 № 51-АПУ18-4232, «вор в законе» – это лицо, занимающее высшее положение в криминальной иерархии, в связи с чем обладает непререкаемым авторитетом в криминальном мире со всеми его представителями, находящимися ниже его самого. Подтверждением того, что лицо занимает высшее положение в уголовной иерархии, может выступать «…осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества и его участников; подбор и вербовка руководителей, входящих в его состав структурных подразделений, а также контроль их действий; планирование и координация деятельности преступной организации и др.».
Указанное позволяет сделать вывод, что в рамках диспозиции ст. 210.1 УК РФ законодатель не сводит субъекта данного преступления к какому-либо конкретному представителю криминальной иерархии; речь идет о функции, предопределяющей преступный и наказуемый характер деяния. То есть уголовно наказуемым является не только сам факт наличия у лица «наивысшего криминального статуса», но и совершение им активных противоправных действий на основании имеющегося «статуса».
Аналогичные позиция изложена в официально опубликованном информационном письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15.05.2023 № 12-17-2023 «О результатах анализа причин, послуживших основанием к вынесению судами оправдательных приговоров и решений о прекращении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 210 и 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». Расследование и раскрытие таких преступлений по-прежнему, вызывает проблемы у правоприменителей. Проиллюстрируем на конкретном примере способы преодоления трудностей в доказывании вины лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии.
Приговором Новгородского областного суда от 16.06.2022 Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет со штрафом в размере 3000000 рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием первых 5 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима3.
Залогом достигнутого результата стала слаженная работа органов предварительного расследования и прокуратуры.
Прежде, чем осветить данный аспект, приведем некоторые сведения о личности Г., которые необходимы, чтобы восстановить картину совершенного им преступления. Как следует из приговора и материалов уголовного дела, Г. статус «вор в законе» при- обрел умышленно в один из дней ноября 1999 года в неустановленном месте города Великий Новгород путем так называемой коронации лицами, имеющими статус «воров в законе», то есть путем формальной процедуры, символизирующей принятие высшего положения в преступной иерархии. Г., занимая высшее положение в преступной иерархии, совершал умышленные преступления и был осужден вступившими в законную силу приговорами Московского районного суда города Санкт-Петербурга от 22.03.2005, Замоскворецкого районного суда города Москвы от 17.09.2007, Первомайского районного суда города Ростов-на-Дону от 21.05.2015 и мирового судьи судебного участка № 125 города Санкт-Петербурга от 28.07.2017. Исполнив наказание, Г. на путь исправления не встал и продолжил занимать высшее положение в преступной иерархии. От своего статуса в преступном мире он не отказался, за что впоследствии и был привлечен к уголовной ответственности.
Согласно материалам уголовного дела после наделения данным статусом Г. неоднократно осуждался за совершение умышленных преступлений, не входящих в число деяний, неприемлемых для «вора в законе» в свете показаний специалиста и допрошенных по делу свидетелей. В характеристике из учреждения уголовно-исполнительной системы указано, что Г. за период отбывания наказания зарекомендовал себя с отрицательной стороны, был поставлен на учет как лицо, склонное к дезорганизации, признан злостным нарушителем режима содержания и переведен в строгие условия отбывания наказания, а в дальнейшем – на тюремный вид режима сроком на 3 года, а также водворялся на одиночное содержание. На проводимые в его отношении мероприятия не реагировал, положительных выводов не делал. Придерживался обычаев и традиций преступного мира, причислял себя к касте авторитетов преступного мира. За период отбывания наказания Г. многократно привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушения режима.
Уголовное дело в отношении Г. возбуждено следователем СУ УМВД России по Новгородской области в 2022 году. Основанием к принятию данного процессуального решения послужили результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. ОРМ были направлены на документирование образа жизни Г. и его взаимоотношений с заключенными, которые придерживались криминальных понятий.
Сотрудниками правоохранительных органов тщательно изучалась переписка Г. с другими заключенными. Отличительной чертой его общения стали так называемые прогоны, то есть обращения к осуж- денным, сделанные с позиции авторитета, и «маля-вы» – письма, или записки, которые незаконно передаются заключенными из камеры в камеру или за пределы исправительного учреждения.
Обратим внимание на стилистику данных бумаг. Все начинается с обращений к коллективу осужденных или конкретному лицу. «Быть добру»! «Приветствую весь порядочный люд (подчеркнуто одной линией), арестантов, всех, кому не безразлично Люд-ское»(подчеркнутооднойлинией).«Обращаюсь к Вам с данным посланием дабы не получилось еще одного наказания». Есть человек, зовут «К», за ним числятся следующие проступки: интригантство, сталкивание лбами братву, вынос наших арестантских моментов за пределы камеры» (две звезды, подчеркнутые двумя волнистыми линиями). «В связи с тем было принято решение коллективное, решение от Старшего Брата Вора» (подчеркнуто двумя линиями), «поставить в курс весь Порядочный Арестантский Люд» (подчеркнуто одной линией). «На том желаю всем Вам только самого лучшего прервусь. Живите дружно. Крепкого здоровья всем, золотой свободы Матушки. Возврат бумаги 100 %. С теплом и арестантским уважением. P.S. По всем хатам строгий контроль». На оборотной стороне имеется рукописный текст с отметками об ознакомлении.
В матрасе одного из осужденных обнаружен и изъят тетрадный лист с рукописным текстом, начинающимся со слов «Жизнь Ворам» и заканчивающийся словами «За запал данного обращения строгий подход».
В конце апреля 2020 года на «сходняке» (собрании криминальных элементов, который разбирает конфликты между заключенными, решает вопросы, связанные с жизнью заключенных, объявлением забастовок, подготовкой бунта, изменением некоторых норм поведения осужденных), где был зачитан «прогон», предписывавший выпить за здоровье «воров», родившихся в апреле. В списке этих «воров» фигурировал и Г.
Помимо переписки, скрупулезно фиксировались контакты Г. и его переговоры с осужденными (отметим, что, находясь в местах лишения свободы, он регулярно имел доступ к телефонной связи).
В разговоре от 21.04.2020 заключенный А.С.В. здоровается с М. и передает трубку Г., который продолжает разговор. Г. высказывает недовольство действиями М.: «Че ты там, косячишь потихоньку, да?.. в одной хате сидите и не можешь разобраться?» М. пытается оправдаться, говорит про написание «курсовой». Г. перебивает его и в претензионной форме спрашивает: «А зачем ты ее пускал-то вообще? Ты же не имеешь права, тебе сказал С., что поставь в известность этих бродяг. Надо было до бродяг просто маля-ву пустить». М. признает свою ошибку: «Ну вот, батя, видишь, вот косяк». На вопрос Г. о том, что дальше, М.
поясняет, что бродяга по прозвищу М. просит Г. быть в курсе этой ситуации.
Г. выясняет, с кем из воров общается <МТ>, а затем говорит, что <МТ> от его (Г.) имени позвонит С. и разрешит ситуацию. Далее Г. поучает М. и отчитывает: «Не беги вперед паровоза, когда тебе говорят что-то, ты должен делать то, что тебе говорят. И нас туда тянешь с С. Че, ума нет что ли? Ты хочешь нас под 210ю подвести?» Обращаясь к Г., М. вновь уважительно называет его батя.
Исходя из содержания данного разговора, Г., несмотря на то, что является значительно младше М., осуществлял общение с последним с позиций авторитета и власти, отчитывал М., с чем последний безропотно соглашался и обращался к подсудимому так, как следует обращаться к вору в законе. Обращает на себя внимание, что Г. выяснил, с кем из «воров» общается М. подробно разъяснил М., как правильно следовало поступать в данной ситуации с точки зрения «воровских понятий» и пообещал разрешить ситуацию через С., который должен позвонить М. от его (Г.) имени.
Доказывание этих полномочий Г. было чрезвычайно важным, ведь для занятия высшего положения в преступной иерархии в контексте уголовно-правового запрета, установленного ст. 210.1 УК РФ, одного факта так называемой коронации недостаточно – в рамках разбирательства по уголовным делам данной категории надлежит устанавливать выполнение обвиняемым определенных криминальных функций.
Текст прогонов, а также содержание телефонных переговоров Г. содержал такие важные для уголовного дела термины, как «батя», «воры», «бродяги». В расшифровке данных терминов помощь органам предварительного расследования и суду оказал специалист, подробно рассказавший о преступной иерархии, костяк которой составляют лица со статусом «вора», «положенца», «смотрящего», «бродяги» и др. (приведены по нисходящей).
В результате успешно проведенных ОРМ – наблюдения и прослушивания телефонных переговоров – удалось установить, что Г. пользовался непререкаемым авторитетом среди осужденных, которые ссылались на него как на блюстителя криминальных порядков и называли «вором», «батей».
Большое доказательственное значение возымели справки, подготовленные сотрудниками правоохранительных органов о том, что Г. имеет статус «вора в законе» в криминальном мире.
Кроме того, к ходе производства предварительного следствия по уголовному делу было допрошено значительное количество свидетелей. Условно их можно разделить на заключенных (отбывавших на тот момент наказание и отбывших его), иных представителей криминального мира и сотрудников правоохранительных органов (МВД России и ФСИН России).
Заключенные и иные представители криминального мира допрашивались на предмет статуса Г. в местах лишения свободы и его социальных связей. Сотрудники правоохранительных органов давали развернутые справки о криминальной иерархии и месте в ней Г., рассказывали о его поведении в исправительных учреждениях и отношении к режиму.
С целью исключить незаконное воздействие к некоторым свидетелям были применены положения Федерального закона от 20.08.2004 №119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Данные об их личности были засекречены, в судебном заседании они давали показания в условиях, исключающих визуальное наблюдение. Тактически органы следствия делали ставку на противоречия, которые сложились между Г. и рядом свидетелей. В целом, такой подход оправдал себя. К тому же, из материалов уголовного дела следует, что Г. через доверенных лиц курировал движение денежных средств, полученных от участия в азартных играх, и разрешал возникающие в этой области споры.
Далеко не все осужденные соглашались с решениями Г., полагая, что тот поступал несправедливо, некоторые рассказывали о вымогательствах и притеснениях. Такие осужденные как раз давали стабильные показания против Г., изобличая его в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Допрос сотрудников ГУФСИН России по Новгородской области подтвердил сведения, полученные в результате ОРМ: Г. в период отбывания наказания в виде лишения свободы собрал вокруг себя осужденных, которые придерживались криминальных понятий, признавали в нем «вора». По мере возможности Г. руководил преступным миром на территории Новгородской области, замыкая на себе вопросы, предмет которых совпадает с тематикой его «прогонов» и «ма-ляв». Более того, в своем отряде он установил особые порядки. Например, в определенные даты на деньги из «общака» устраивалисьтрапезы в честь дней рождения криминальныхэлементов.Денежнымисредствами распоряжался Г., а хозяйственными работами занимались другие осужденные в соответствии со своим статусом.
Иные свидетели по уголовному делу в процессуальном отношении вели себя по-разному. Думается, что это объясняется особым положением Г. и наличием в его руках рычагов давления на участников уголовного судопроизводства, в том числе находившихся на свободе.
Так, некоторые лица давали последовательные показания, как на предварительном следствии, так и в суде, демонстрировали свою осведомленность о преступной иерархии и о понятиях, обозначающих ее элементы, сообщая при этом о роли Г. в ее установлении и поддержании.
Определенную специфику имел допрос лиц, в отношении которых были приняты меры государственной защиты. Вызывать таких лиц на судебное заседание требовалось строго конфиденциально. Судя по поведению Г., он догадывался, кто может свидетельствовать против него, и потому совместно со своим защитником пытался получить оперативную информацию о планах на предстоящий процесс. Располагая такой информацией, Г. мог через «своих лиц» оказать влияние на участников уголовного судопроизводства. Также требовалось следить и за ходом самого допроса. Периодически Г. и его защитник задавали таким свидетелям вопросы, которые позволили бы их дезавуировать. Пресекая подобные вопросы, государственный обвинитель способствовал сохранению в тайне данных о личности допрашиваемых лиц.
Некоторые свидетели занимали двойственную позицию: в ходе предварительного следствия давали однозначные показания против Г., а в суде явно пытались смягчить положение подсудимого. Тогда на передний план выходили такие факторы, как полнота допроса на предварительном следствии и умение государственного обвинителя подчеркнуть противоречие в позиции, избранной свидетелем.
Были и такие, кто от начала до конца отстаивали невиновность подсудимого. Делалось это по «идейным» соображениям ввиду того, что данные лица, будучи криминальными элементами, в лице Г. защищали свои взгляды и свое сообщество. По итогам их допроса сторона обвинения представила суду сведения из личных дел, заведенных на соответствующих лиц в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы. Выяснилось, что администрацией исправительных учреждений они характеризовались отрицательно, являлись злостными нарушителями режима, имели негативное влияние на других осужденных, не делали должных выводов из мероприятий воспитательного характера, находились в близких отношениях с Г. Для суда это стало веским поводом критически отнестись к показаниям в защиту Г.
Подсудимый Г. свою вину в судебном заседании не признал и показал, что «вором в законе» он не является и не являлся, ни в какой преступной иерархии не состоит и не состоял. В 1999 году он не принимал участие в так называемой процедуре коронации, поскольку в 1998 году ему была произведена операция на позвоночнике.Выписан из больницы он был только в феврале 1999 года и мог передвигаться исключительно на костылях, постоянно болел, до 2001 года находился дома. Никаких преступных действий он не совершал, к назначению «смотрящих», формированию «воровского общака» и разрешению конфликтных ситуаций отношения не имеет.
В подтверждение этих показаний стороной защиты представлены медицинские документы в отно- шении Г., из которых следует, что в 1998 году подсудимому действительно была произведена операция. При этом указанные сведения не позволяют сделать вывод, что по состоянию на конец 1999 года Г. не имел возможности занять высшее положение в преступной иерархии, и не способны опровергнуть предъявленное подсудимому обвинение, основанное на совокупности доказательств.
Отсутствие у Г. на период 1999 года судимостей, исходя из показаний специалиста, также не является обстоятельством, которое бы могло препятствовать ему получить указанный статус. Напротив, как показал специалист, в криминальном сообществе приветствуются лица, которые, принося преступный доход, никогда не попадались правоохранительным органам.
Кроме того, подсудимый Г. в судебном заседании проявлял полную осведомленность относительно ситуации в отношении М.; выстраивал разговор в соответствии со своим статусом, в том числе демонстрировал озабоченность возможностью привлечения к уголовной ответственности ввиду своего фактического, а не изображаемого положения в преступной иерархии; активно давал разъяснения по вопросам тюремной субкультуры, демонстрируя познания в этой сфере, как и в вопросах этики взаимоотношений в рамках преступной иерархии, что полностью укладывается в общую картину собранных по делу доказательств.
Независимо от позиции, занятой подсудимым в судебном заседании, его виновность подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств (показаниями свидетелей, показаниями специалиста, а также иными материалами уголовного дела, в том числе предметами с воровской символикой и атрибутикой, изъятые по месту жительства подсудимого при производстве обысков при его задержании).
Опровержение показаний Г. стороной государственного обвинения осложнялось тем, что в материалах уголовного дела отсутствовала фоноскопическая экспертиза. В случае если подсудимый отрицает факт соответствующих переговоров, проведение сравнительных фоноскопических экспертиз является необходимым. Их проведение необходимо намечать на стадии предварительного следствия.
Кроме того, стороной обвинения в качестве подтверждения наличия у Г. статуса «вор в законе» представлены также материалы, находящиеся в свободном доступе на интернет-ресурсе, в которых содержится информация о «коронации» Г., приведены фото- и видеоматериалы, в том числе те, на которых он сам признает себя «вором в законе». Суд счел, что сами по себе эти материалы, полученные из неизвестных источников и размещенные неустанов- ленными лицами, не могут рассматриваться как доказательства, подтверждающие предъявленное подсудимому обвинение. Необходимо было установить администратора интернет-ресурса, допросить его в качестве свидетеля по обстоятельствам настоящего уголовного дела, а также провести видеотехническую и фототехническую экспертизу на предмет подлинности фото- и видеоизображений, выявление следов видеомонтажа, ретуши и прочих методов изменения изображений.
Не можем согласиться и с имеющей место практикой, связанной с непроведением психологопсихиатрической экспертизы, которую также необходимо проводить в отношении данной категории подсудимых. Так, в тексте приговора Г. судом указано, что «каких-либо сомнений во вменяемости подсудимого Г. при производстве по уголовному делу не возникало, в связи с чем он в соответствии со ст. 19 УК РФ подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление». Считаем, что доказательственное значение имели бы показания эксперта по личностной характеристике подсудимого.
Еще один нюанс связан со временем совершения преступления. Анализ конструктивных непрерывных противоправных действий, совершаемых лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, на стадии оконченного преступления позволяет отнести данное деяние к длящимся преступлениям. Принимая во внимание, что какими-либо нормативно-правовыми актами не установлен порядок самостоятельного прекращения лицом имеющегося у него «статуса в криминальном мире», момент окончания преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ, связан с его выявлением (возбуждением уголовного дела в отношении лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии).
Повторное привлечение лица к уголовной ответственности по ст. 210.1 УК РФ является возможным в случае дальнейшего осуществления им непосредственно обусловленных имеющимся у него «криминальным статусом», связанным с занятием высшего положения в преступной иерархии. По смыслу текста приговора Г. с 1999 годаявляется лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Иными словами, время как элемент предмета доказывания в данном случае задано периодом, который на момент принятия судебного решения еще не завершился. Это объясняется тем, что Г. не отказался от статуса «вора в законе», из чего следует, что соответствующее криминальное посягательство является длящимся.
Так, Г. вменяется указанное преступление в период с ноября 1999 года по 04 июня 2020 года. В контексте постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12.12.2023 № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях»4 соответствующая оценка представляется оправданной. Тем не менее формулировка обвинения по принципу «с известного момента по настоящее время» не является универсальной.
Приведем пример. Так, фабула обвинения в отношении гражданина О. указывает на длящийся характер преступления. Излагая обвинение, прокурор указал следующее. Несмотря на то, что ст. 210.1 УК РФ появилась много позже того, как О. стал «вором в законе», то есть произошла «криминализация самого факта занятия высшего положения в преступной иерархии», О., «желая осуществлять функции «вора в законе», осознавая противоправность своих действий, продолжил занимать высшее положение в преступной иерархии и находиться в криминальном звании, придерживаясь правил и обычаев, принятых в преступной криминальной среде». Из обвинительного заключения также следовало, что «в дальнейшем, доказав свою приверженность к преступной идеологии, желание соблюдать и пропагандировать правила криминальной субкультуры, проявив психологические лидерские качества, в точно не установленный следствием период времени, но не позднее января 2013 года, на территории Ростовской области гражданин О. лидерами преступного мира, так называемыми ворами в законе неоднократно судимыми гражданином Б., гражданином Х., гражданином С. был признан (коронован) вором в законе, а именно лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, тем самым совершив преступление, предусмотренное ст. 210.1 УК РФ»5.
Верховный Суд РФ, исследуя вопрос о том, каким же образом надо применять положения ст. 10 УК РФ к длящимся и продолжаемым преступлениям в случае, когда одна часть действий (бездействия) совершена до вступления в силу нового закона, а другая после этого, утвердил «Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению федеральных законов от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»6.
В своих ответах Верховный Суд РФ указал, что судам необходимо руководствоваться общими положениями ч. 1 ст. 9 УК РФ о том, что преступность и наказуемость деяния определяются законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Если часть объективной стороны длящегося или продолжаемого преступления совершена в период действия нового закона (независимо от того, является он более мягким или более строгим), то применяться должен новый уголовный закон. Вместе с тем указанный аспект не отменяет необходимость четкого установления времени начала и конца инкриминируемого деяния.
Приведение в обвинении таких формулировок, как «в точно не установленное время, но не позднее 10.12.2011 гражданин О. решил придерживаться традиций криминального мира», «в точно неустановленное время, но не позднее января 2013 года гражданин О. был признан вором в законе» не может прямо свидетельствовать об установлении времени совершения преступления. Иными словами, ни следователь, ни прокурор не могут определить, когда же появились все четыре признака состава преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект), на протяжении какого времени оно длилось, кем и когда было пресечено.
К примеру, пересматривая не вступивший в законную силу приговор суда первой инстанции, Первый апелляционный суд общей юрисдикции нашел, что в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указано, что Б. «с 12 апреля 2019 года по настоящее время» (то есть без окончания периода) занимает высшее положение в преступной иерархии. Отменяя судебное решение, принятое на основании вердикта, суд возвратил уголовное дело прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, отметив, что «в нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ орган предварительного следствия не установил такое существенное обстоятельство (из апелляционного определения Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 10.01.2023 № 55-4/2023).
Общепринято, что длящееся преступление начинается с момента совершения преступного деяния, а заканчивается по воле самого виновного лица либо в результате наступления таких юридических фактов, которые препятствуют дальнейшей реализации преступной деятельности (например, пресечение преступления правоохранительными органами).
Как отмечают С.А. Бажутов, А.А. Кунашев, если исходить из буквального толкования нормы, объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ, должна выражаться в получении и обла-
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.06.2012) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 11.
дании лицом соответствующего криминального статуса – высшего положения в преступной иерархии. Таким образом, лицо совершает активные действия, направленные на вхождение в преступную иерархию, занимает высшее положение и удерживается в нем. Юридически деяние будет окончено с момента, когда лицо получило этот статус и имеет возможность влиять на преступную среду, будучи наделенным специфическими криминальными функциями и полномочиями. Фактически же деяние будет окончено в момент лишения лица этого статуса либо прекращения выполнения им указанных функций и полномочий. В этом проявляется длящийся характер преступления, заключающийся в непрерывном осуществлении его объективной стороны [1].
В отличие от других длящихся преступлений (к примеру, связанных с незаконным хранением оружия, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) при привлечении лица к уголовной ответственности по данной статье не происходит прекращения «преступного состояния» ни в момент предъявления обвинения, ни в момент заключения под стражу, ни после отбывания наказания. Более того, государство в принципе не способно лишить обвиняемого его положения в преступной иерархии.
По мнению В.Г. Степанова-Егиянца, лицо, которое после осуждения сохраняет свое высшее положение в преступной иерархии, не должно нести уголовную ответственность при условии, что оно не использует вновь свой статус в преступных целях [2, с.57]. Эта проблема в будущем может быть разрешена внесением соответствующих поправок в ст. 210.1 УК РФ и дачей разъяснений Пленумом Верховного Суда РФ.
Подводя итоги, отметим, что расследование и раскрытие преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ, вызывают проблемы у правоприменителей. Расследование преступлений указанной категории имеет свою специфику с точки зрения предмета доказывания [3]. Огромную роль в этом процессе играют результаты ОРМ и следственная тактика. При предъявлении обвинения следственные органы и надзирающий прокурор должны уделить пристальное внимание времени совершения преступления, чтобы предотвратить возможное возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.
Кроме того, проведение сравнительных фоноскопических, культурологических экспертиз перманентных рисунков (татуировок) на теле обвиняемого, психолого-психиатрических экспертиз по таким категориям уголовных дел является необходимым еще на стадии предварительного следствия.
Если в материалах уголовного дела имеются фото- и видеоматериалы, находящиеся в свободном доступе, в ходе предварительного следствия в обяза- тельном порядке необходимо установить владельцев интернет-ресурсов, которые могут быть допрошены в качестве свидетелей по обстоятельствам уголовного дела, а также провести видеотехническую и фототехническую экспертизу на предмет подлинности фото-и видеоизображений.
Список литературы Особенности доказывания в судебном заседании занятия лицом высшего положения в преступной иерархии
- Бажутов С.А., Кунашев А.А. Особенности уголовной ответственности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии (ст. 210.1 УК) // Законность. 2022. № 11. С. 25-33.
- Степанов-Егиянц В.Г. К вопросу о криминализации занятия лицом высшего положения в преступной иерархии // Российский следователь. 2011. № 5. С. 57-61.
- Противодействие организационной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии / П.В. Агапов, С.А. Бажутов, А.С. Васнецова [и др.]. Москва, 2022. 192 с.