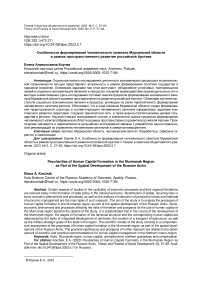Особенности формирования человеческого капитала Мурманской области в рамках пространственного развития российской Арктики
Автор: Корчак Елена Анатольевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 5, 2023 года.
Бесплатный доступ
Отдельные аспекты исследований цикличности экономических процессов и их региональной ограниченности сегодня представляют актуальность в рамках формирования политики государства в народном хозяйстве. Основными задачами при этом выступают: обнаружение устойчивых, повторяющихся связей в социально-экономических явлениях и процессах, изучение взаимодействия производительных сил и методов хозяйствования. Цель исследования составил анализ процессов формирования человеческого капитала Мурманской области в рамках пространственного развития российской Арктики. Объектами изучения выступили социально-экономические явления и процессы, влияющие на риски перспективного формирования человеческого капитала региона. Обосновано, что в ходе освоения Мурманской области стадии формирования территориальной структуры и соответствующего человеческого капитала определялись задачами комплексного развития территорий, создания транспортной сети, а также военно-стратегическими целями государства в регионе. Научная новизна исследования состоит в комплексной оценке процессов формирования человеческого капитала Мурманской области в рамках пространственного развития российской Арктики. Практическая значимость и перспективность дальнейших исследований связаны с разработкой научно-практических рекомендаций по управлению человеческим капиталом в северном макрорегионе.
Арктика, мурманская область, человеческий капитал, безработица, северные гарантии и компенсации
Короткий адрес: https://sciup.org/149142976
IDR: 149142976 | УДК: 332.1(470.21) | DOI: 10.24158/tipor.2023.5.7
Текст научной статьи Особенности формирования человеческого капитала Мурманской области в рамках пространственного развития российской Арктики
Кольский научный центр Российской академии наук, Апатиты, Россия, ,
Введение . В рамках формирования экономической политики государства особую актуальность имеют исследования общих тенденций и закономерностей экономической истории человечества, в частности, цикличности региональных процессов на основе установления повторяющихся связей в социально-экономических явлениях и процессах, а также анализа взаимодействия производительных сил и методов хозяйствования. В связи с чем цель настоящего исследования состояла в изучении особенностей формирования человеческого капитала Мурманской области в рамках пространственного развития российской Арктики.
Материал и методы исследования. Работа осуществлена на основе анализа существующих концептуальных подходов к изучению регионального человеческого капитала, нормативных правовых документов, регулирующих различные аспекты его развития, а также официальных данных Росстата. В ходе исследования применены методы теоретического анализа и обобщения литературных источников, статистического анализа.
Результаты исследования и их обсуждение . В 20-е гг. ХХ века были заложены рыночные принципы освоения арктических территорий за счет создания интегрально-хозяйственных органов, обладающих экономической самостоятельностью и единством управления производственных и отраслевых звеньев (Мурманский промышленно-транспортно-колониальный комбинат) (Развитие производительных сил Севера СССР ..., 1991). Широкое применение получили такие методы формирования человеческого капитала, как мобилизация и вербовка. В 30-40-е гг. прошлого века комсомольские организации Ленинграда и Новгорода мобилизовывали своих лучших представителей на строительство в Хибинскую тундру (трест «Апатит»). В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. развитие Мурманской области носило в основном военностратегический характер (Современные векторы социально-экономического развития арктического региона - Мурманской области - через призму истории ..., 2012: 754); человеческий капитал формировался преимущественно за счет жертв массовых репрессий (Развитие производительных сил Севера СССР …, 1991). Так, промышленное освоение Аллуайвского месторождения в Ковдорском районе осуществлялось вольнонаемными, в 1941 г. на стройку металлургического завода по переработке лопаритового концентрата были направлены 17 тыс. заключенных (военнослужащих, побывавших в плену во время финской войны) (Вопросы экономики народного хозяйства Мурманской области ..., 1973).
После 1945 г. широкое распространение получили обращения партийных, комсомольских и профсоюзных организаций промышленных предприятий к демобилизуемым воинам Советской армии с призывом помочь в освоении арктических территорий. Привлекаемые такими методами рабочие кадры не имели специальной профессиональной подготовки; для ее обеспечения на стройках и предприятиях функционировала сеть организаций, ориентированных на производственно-техническое обучение новичков. В дальнейшем распространение получили индивидуальные приглашения заинтересованных в работе в Арктике специалистов из других регионов страны и переселение трудоспособного населения по собственной инициативе. Производительность труда таких специалистов была в 1,5-2 раза выше (Вопросы экономики народного хозяйства Мурманской области ..., 1973: 121).
Ведущую роль в развитии арктических территорий страны играли промышленные узлы. Так, на территории Мурманской области возникли разные по численности населения и экономическому потенциалу территориально-производственные комплексы - Кировско-Апатитский, Мончегорский, Оленегорский, Ено-Ковдорский. Самую многочисленную группу прибывающих в такие комплексы мигрантов составляли граждане в возрасте 20-24 лет; свыше 35 % - население трудоспособного возраста (в основном мужчины); более 60 % - из Европейской части РСФСР (Вопросы экономики народного хозяйства Мурманской области ..., 1973: 121).
Воздействие государства на формирование человеческого капитала арктических территорий осуществлялось средствами плановой организации хозяйства. Одно из них - нормативное регулирование стимулов материальной заинтересованности (прав на пользование разными видами преимуществ, установленных дополнительно к общим нормам трудового законодательства СССР). Объем льгот определялся суровостью природно-климатических условий и степенью территориальной освоенности. Доля выплат по районному коэффициенту и процентным надбавкам в структуре фонда заработной платы составляла более 40 %. В Мурманской области в 1988 г. в горно-химической промышленности ее значение не превышало 19,3 %, по северным надбавкам -26,2 %. В 1988 г. установленные районный коэффициент и процентные надбавки на комбинате «Печенганикель» составляли 2,3 (Социально-экономическое развитие Мурманской области в переходный период: современное состояние и прогнозы ..., 1992).
Положительной тенденцией процессов формирования человеческого капитала арктических регионов страны в 1970–1989 гг. стал рост показателей образовательного уровня населения. В частности, в Мурманской области в 1959 г. на 1 000 чел. занятого населения приходилось 34 чел. с высшим образованием, в 1987 г. треть рабочих и служащих имела высшее и среднее специальное образование (Социально-экономическое развитие Мурманской области в переходный период: современное состояние и прогнозы …, 1992).
С середины 60-х гг. ХХ в. основную цель государства составило обеспечение индустриального комплекса страны ресурсами Арктики: основным лозунгом стало «получение необходимых видов природных ресурсов, исходя из отраслевых критериев эффективности освоения арктических территорий» (Развитие производительных сил Севера СССР …, 1991: 84). Практически реализация этого лозунга привела к максимизации объемов добычи при сдерживании затрат на инфраструктурное обустройство арктических территорий: социальная сфера формировалась на остаточном принципе финансирования на фоне отсутствия «продуманной стратегии формирования и развития систем расселения» (Развитие производительных сил Севера СССР …, 1991: 86). Так, в Мурманской области в 1970 г. уровень обеспеченности населения школами составлял 55,1 % от нормы, детскими дошкольным учреждениями – 61,4 %, больницами – 89,2 % (Экономические проблемы развития производительных сил Мурманской области …, 1975: 127).
Отрицательное влияние на развитие социальной инфраструктуры оказало отсутствие научно обоснованных нормативов товарного обеспечения платежеспособного спроса, рациональных потребительских бюджетов. Узость местных сетей специального образования не способствовала закреплению местной молодежи в Арктике. Окончившие профессионально-технические учреждения граждане распределялись по районам страны в плановом порядке, редко возвращаясь в регионы своего проживания. Такое положение не могло не отразиться на миграционных настроениях. В течение длительного периода в Мурманской области соотношение между выбывшим и прибывшим трудоспособным населением по абсолютной величине прироста было сравнительно постоянным. Однако в 1981–1985 гг. ситуация стала меняться. По сравнению с первой половиной 70-х гг. прошлого века на 20 % сократилось положительное сальдо миграции населения в трудоспособном возрасте, уменьшилась численность молодежи, значительно возросла доля работников в возрасте старше 50 лет (Экономические проблемы развития производительных сил Мурманской области …, 1975: 89).
Потери человеческого капитала региона в 80–90-е гг. прошлого века были связаны с падением рождаемости в являющихся традиционными источниками формирования трудовых ресурсов регионах Европейского Севера и особенностями цикличного возобновления поколений.
Немаловажную роль в этом отношении сыграло снижение экономической привлекательности трудовой деятельности в регионе: в 1976–1980 гг. рост размера заработной платы в РСФСР в этот период составил 13,7 %, в Мурманской области – 3,5 % (Экономические проблемы развития производительных сил Мурманской области …, 1975). К концу 80-х гг. ХХ в. северные надбавки в значительной мере утратили стимулирующую приток и закрепление рабочих кадров функцию. Главным мотивом увольнений стала низкая заработная плата. В профилирующих отраслях промышленности стал нарастать дефицит квалифицированных рабочих кадров.
Переход к рыночным отношениям привел к негативным последствиям в регионах российской Арктики – снижению объемов производства на действующих предприятиях, закрытию убыточных и неперспективных предприятий и поселков при них. Снижение рентабельности производств на арктических производствах привело к сокращению возможностей в инвестиционной сфере и к массовому отказу от содержания объектов социальной инфраструктуры и ЖКХ. Сокращение доходов местных бюджетов затруднило их муниципализацию и эксплуатацию (Гарантии и компенсации населению Севера России …, 1993: 12–15). Резкий рост потребительских цен, ухудшение продовольственного снабжения, обесценивание сбережений, рост безработицы и снижение трудовых доходов спровоцировали миграционный отток населения, в том числе трудоспособного.
В 1989–1999 гг. численность населения Мурманской области снизилась на 16 %. Естественная убыль стала устойчивым явлением; резкое снижение рождаемости привело к возникновению процесса депопуляции населения и обусловило усиление темпов демографического старения. Под влиянием миграционного оттока населения в трудоспособном возрасте и снижения рождаемости трансформировалась половозрастная структура населения (Скуфьина, 2012: 139). Характерными чертами демографического развития стали малодетность и рост внебрачных рождений. Смертность населения в трудоспособном возрасте увеличилась практически в 2 раза. Проявилась тенденция снижения образовательного уровня населения, особенно его молодежной составляющей. Ситуация на региональном рынке труда характеризовалась постоянным ростом напряженности (табл. 1).
Таблица 1 – Отдельные показатели рынка труда Мурманской области, %1
|
Регион |
1992 |
1995 |
2000 |
2008 |
2010 |
2015 |
2020 |
2021 |
|
Уровень зарегистрированной безработицы, % |
2,0 |
5,7 |
3,3 |
2,4 |
2,7 |
1,9 |
2,7 |
1,3 |
|
Нагрузка незанятого населения н а 1 заявленную вакансию, чел. |
6,2 |
19,9 |
5,2 |
2,5 |
2,6 |
1,3 |
0,4 |
0,2 |
|
Отношение среднемесячной заработной платы к средней по РФ, % |
191 |
180 |
169 |
137 |
140 |
135 |
134 |
132 |
В 1992–1995 гг. уровень регистрируемой безработицы в Мурманской области вырос в 2,8 раза; социальная напряженность на рынке труда – в 3,2 раза. Негативными стали тенденции сокращения численности работающих в отраслях материального производства и разграничения территорий по уровню безработицы2: количество занятых в строительстве сократилось в этот период в 3,6 раза, в промышленности и на транспорте – в 1,6 раза. Напряженность на рынках труда усиливалась удаленностью и ограниченной транспортной доступностью малых населенных пунктов, узостью сферы приложения труда, особенно в моногородах (Гущина, Довиденко, 2011: 79). С 1996 г. уровень безработицы постепенно начал снижаться в связи с ужесточением порядка регистрации и снятия с учета в службах занятости в соответствии с новой редакцией 1996 г. Закона РФ «О занятости населения»3. Ограниченность бюджета Федерального фонда поддержки занятости обусловила сокращение размеров пособий по безработице, что также сказалось на уменьшении ее уровня безработицы. Необходимо сказать о появлении скрытой безработицы, выразившейся в неполной занятости. Так, в 1995–1997 гг. на предприятиях региона трудилось около 12 % среднесписочной численности работников Мурманской области. В 1997 г. около 20 тыс. работников находилось в отпусках без сохранения заработной платы по причинам частичной или полной остановки производств. Ориентированность арктических экономик на рыночные отношения усилила процесс стратификации профессиональной занятости, сопровождавшийся формированием групп новых рыночных профессий (коммерческие агенты, торговые представители) и привела к возникновению тенденции сегментации рынков труда (появились профессиональные группы риска, отличающиеся высоким уровнем безработицы, – работники сфер строительства, граждане с низкой квалификацией). С другой стороны, дефицит средств Федерального фонда поддержки занятости привел к сокращению масштабов профессионального обучения и ограничению возможностей в оказании содействия трудоустройству безработных.
Кризис переходного периода проявился и в значительном снижении уровня жизни населения арктических регионов. Дифференциация размеров оплаты труда в материальном и бюджетном секторах измерялась десятками раз: в 1980–1992 гг. рост размера минимальной заработной платы в Мурманской области составил 34 раза, стоимости минимального потребительского набора – 92,3 раза. В 1980 г. удельный вес такого набора в среднемесячной заработной плате составлял 34,5 %, в 1992 г. – 94,2 % (Проблемы и тенденции формирования рыночных отношений в экономике Кольского Севера …, 1995: 45). Практически 2/ 3 работников региона получали заработную плату меньше прожиточного минимума. В целях нивелирования таких последствий в 1996 г. одним из принципов государственной политики в Арктике был закреплен селективный государственный протекционизм в части установления льготного режима для отраслей арктических экономик, ориентированных на обеспечение государственных нужд в производимой здесь продукции4. В 1997 г. было объявлено о поэтапном реформировании системы государственной поддержки районов Арктики в части ее усиления5. Тем не менее, несмотря на декларируемые приоритеты и принципы, государство фактически ушло из социальной сферы региона, что привело к появлению таких негативно отразившихся на человеческом капитале тенденций, как усиливающееся социальное расслоение населения и деградация потребительских стандартов.
В 2000 г. была акцентирована необходимость формирования внутренних факторов экономического развития арктических территорий: в число основных задач государственной арктической политики вошла трансформация существующей практики гарантий и компенсаций1. Длительное время система районного регулирования оплаты труда была направлена на обеспечение северных территорий необходимым для их освоения человеческим капиталом с помощью гарантированных государством материальных стимулов. С 2004 г. ситуация изменилась2: регулирование оплаты труда было передано непосредственно регионам, муниципалитетам и предприятиям. В результате эффективность действующей системы гарантий и компенсаций существенно снизилась. В бюджетной сфере при низком уровне оплаты труда районные коэффициенты перестали компенсировать затраты на воспроизводство рабочей силы. Большинство предприятий частной сферы начали устанавливать оплату труда в фиксированных размерах без учета районного коэффициента и процентной надбавки. По сути, начался процесс «вымывания» северных гарантий: в Мурманской области среднемесячная заработная плата в 2000 г. превышала среднероссийскую в 1,69 раза, в 2008 г. – в 1,37 раза, в 2021 г. – в 1,32 раза (Скуфьина, 2012).
На следующей стадии формирования пространственной структуры Арктики и соответствующего человеческого капитала (2000–2008 гг.) обозначились крупнейшие корпоративные сектора в базовых отраслях арктических экономик. Лидерами промышленного роста стали нефтегазовые регионы – развитие добычи энергоресурсов значительно увеличило объемы промышленного производства в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах (Харитонова, Вижина, 2004: 172). Динамика среднедушевых денежных доходов населения в этот период была неоднородной: наиболее высокими темпами их прироста за счет роста заработной платы нефтяников и золотодобытчиков отличались автономные округа российской Арктики. Среди аутсайдеров оказалась Мурманская область «по причине низких темпов роста заработной платы из-за доминирования обрабатывающих отраслей и сокращения скрытых доходов» (Гаджиев, Акопов, 2013). Среди негативных тенденций в этот период оставалась миграционная убыль населения Мурманской области, составившая 60,5 тыс. чел. (из них 67 % – население в трудоспособном возрасте) (Гаджиев, Акопов, 2013).
В 2008 г. в качестве цели государственной арктической политики было закреплено расширение ресурсной базы Арктики3. В 2013 г. для улучшения качества жизни населения были предусмотрены: модернизация объектов отраслей социальной инфраструктуры, обеспечение сбалансированности рынка труда, уточнение государственных социальных гарантий и компенсаций4. В качестве основного механизма реализации данных мероприятий была предложена государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ»5, в которой цель повышения уровня социально-экономического развития арктических регионов отошла на второй план (Лексин, Порфирьев, 2021: 26–27).
Современный период формирования пространственной структуры Арктики и соответствующего человеческого капитала (с 2008 г. по настоящее время) сопровождается волнообразными кризисными явлениями 2008 г., 2014 г., обострившими проблемы участия корпораций в социальноэкономическом развитии регионов российской Арктики (Лаженцев, 2010: 46), а также социальную напряженность на рынках труда. Негативным образом на ситуацию с безработицей в регионах российской Арктики повлияло также распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Однако в целом ситуация на рынках труда регионов российской Арктики остается контролируемой за счет реализации региональных мероприятий по созданию временных рабочих мест. В 2021 г. регионы российской Арктики по уровню безработицы вышли на допандемийный уровень1. Однако мы согласны с позицией известного североведа профессора В.Н. Лаженцева, согласно которой «антикризисные мероприятия – это экстренная реакция на уже случившееся… После завершения антикризисной поддержки арктические производства снова станут неконкурентоспособными» (Лажен-цев, 2018: 361). Проблемы безработицы, в том числе в силу временного характера создаваемых рабочих мест, также не исчезнут.
Несмотря на то, что Мурманская область имеет значительный потенциал развития, «для экономической активности региона характерен низкий уровень ее проявления при преобладающей активности государства и бизнеса» (Бажутова, 2020: 49). Такая ситуация формирует риски эффективной реализации арктического вектора государственной политики РФ на территории региона и ограничивает возможности формирования человеческого капитала. В 2008–2021 гг. численность населения области снизилась на 17,4 % (54,7 % убыли населения составил миграционный отток), в том числе трудоспособного – на 26,3 %2. Сокращение среднегодового количества занятых в региональной экономике составило 17 % на фоне роста потребности в рабочих кадрах в 3,4 раза. Негативными характеристиками человеческого капитала остаются высокий уровень безработицы (5,8 % в 2021 г.), в том числе в возрасте 15–19 лет (35,8 % против 21 % в 2008 г.), большое количество нетрудоустроенных граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование (20,8 % и 52,6 % соответственно)3. Угрозу формированию человеческого капитала составляют проблемы занятости выпускников образовательных организаций, получивших среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. В 2021 г. уровень безработицы среди такой категории граждан составил 12,7 %, трудоустройства – 45,3 %4.
Заключение . Таким образом, в рамках нашего исследования определено, что каждая стадия формирования пространственной структуры Арктики и соответствующего человеческого капитала Мурманской области определялась задачами комплексного освоения, создания транспортной инфраструктуры, а также военно-стратегическими целями государства. На начальной стадии хозяйственного освоения региона человеческий капитал формировался за счет привлечения трудовых ресурсов для работы вахтовым и экспедиционным методами, а также за счет жертв массовых репрессий. Этап комплексного хозяйственного освоения сопровождался появлением постоянного населения как источника формирования человеческого капитала. В условиях переходной экономики и с последующим формированием неолиберальной модели государственного регулирования государственный протекционизм в Арктике достиг минимального уровня, значительно сократились объемы федеральных обязательств в сфере возмещения удорожания функционирования систем жизнеобеспечения; проявились процессы деградации человеческого капитала.
На современной стадии формирования пространственной структуры Арктики процессы формирования человеческого капитала Мурманской области приобретают черты восстановительного характера. Тем не менее актуальными остаются такие особенности формирования регионального человеческого капитала, как миграционная убыль населения, а также профессионально-квалификационные дисбалансы на рынке труда региона.
Список литературы Особенности формирования человеческого капитала Мурманской области в рамках пространственного развития российской Арктики
- Бажутова Е.А. Экономическая активность в Мурманской области: особенности проявления и условия оптимизации // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2020. № 2 (68). С. 49-63. https://doi.org/10.37614/2220-802Х.2.2020.68.005.
- Вопросы экономики народного хозяйства Мурманской области / ответ. ред. В.А. Федосеев. Апатиты, 1973. 151 с.
- Гаджиев Ю.А., Акопов В.И. Формирование денежных доходов населения в северных регионах России // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2013. № 1 (33). С. 182-198.
- Гарантии и компенсации населению Севера России / под ред. П.Х. Зайдфудима. Таганрог, 1993. 85 с.
- Гущина И.А., Довиденко А.В. Некоторые аспекты социальной жизни в малых городах северного региона // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2011. № 2 (28). С. 79-82.
- Лаженцев В.Н. Социально-экономические проблемы Севера России // ЭКО. 2010. № 12 (438). С. 40-53.
- Лаженцев В.Н. Социально-экономическое пространство и территориальное развитие Севера и Арктики России // Экономика региона. 2018. Т. 14, № 2. С. 353-365. https://doi.org/10.17059/2018-2-2.
- Лексин В.Н., Порфирьев Б.Н. Государственная арктическая политика России // Федерализм. 2021. Т. 26, № 1 (101). С. 15-43. https://doi.org/10.21686/2073-1051-2021-1-15-43.
- Проблемы и тенденции формирования рыночных отношений в экономике Кольского Севера / ответ. ред. В.В. Васильев. Апатиты, 1995. 98 с.
- Развитие производительных сил Севера СССР / отв. ред. А.Г. Гранберг. Новосибирск, 1991. 232 с.
- Скуфьина Т.П. Мурманская область: современный профиль и основные вехи развития // Северы и рынок: формирование экономического порядка. 2012. № 3 (31). С. 137а-142.
- Современные векторы социально-экономического развития арктического региона - Мурманской области - через призму истории / С.В. Баранов [и др.] // Фундаментальные исследования. 2012. № 11 -3. С. 750-754.
- Социально-экономическое развитие Мурманской области в переходный период: современное состояние и прогнозы / под ред. Г.П. Лузина. Апатиты, 1992. 218 с.
- Харитонова В.Н., Вижина И.А. Трансформация государственной социально-экономической политики на Севере // Регион: экономика и социология. 2004. № 2. С. 164-176.
- Экономические проблемы развития производительных сил Мурманской области / под ред. В.А. Федосеева. Апатиты, 1975. 179 с.