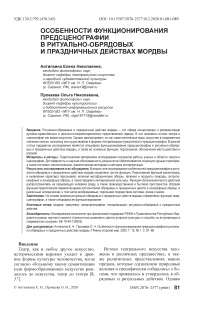Особенности функционирования предсценографии в ритуально-обрядовых и праздничных действах мордвы
Автор: Антипкина Елена Николаевна, Прокаева Ольга Николаевна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 1 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. Ритуально-обрядовые и праздничные действа мордвы - это сфера концентрации и репрезентации духовно-нравственных и ценностно-мировоззренческих представлений народа. В них заложены истоки театра и сценографии как видов искусства. Однако рассматривать их как самостоятельные виды искусства в современном значении нельзя, поскольку они существовали в формах театрализации (предтеатра) и предсценографии. В данной статье предметом исследования является специфика функционирования предсценографии в ритуально-обрядовых и праздничных действах мордвы, а также ее основные функции: персонажная, обозначения места действия и игровая. Материалы и методы. Теоретическим материалом исследования послужили работы ученых в области театра и сценографии. Достоверность и научная обоснованность результатов обеспечиваются социокультурным подходом, а также системно-типологическим, аналитическим методами и методом интерпретации. Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования особенностей предсценографии в ритуально-обрядовых и праздничных действах мордвы выделены три ее функции. Персонажная функция заключалась в выявлении характера персонажей, включая метафорические образы, явления и продукты природы, антропоморфные и зооморфные образы, а также предметы материальной культуры. Функция обозначения места действия распространялась на окружающую человека среду, а также производственное и бытовое пространства. Игровая функция предполагала перевоплощение исполнителей обрядовых и праздничных действ в зооморфные образы, в различные человеческие, в том числе воображаемые, персонажи посредством костюма, грима и маски. Заключение. На основе анализа ритуально-обрядовых и праздничных действ мордвы определены функции предсценографии, а также специфика ее функционирования. Ключевые слова: мордва; предтеатр; предсценография; театрализация; ритуально-обрядовые и праздничные действа.
Короткий адрес: https://sciup.org/147217951
IDR: 147217951 | УДК: 130.2:792 | DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.01.081-089
Текст научной статьи Особенности функционирования предсценографии в ритуально-обрядовых и праздничных действах мордвы
Театр, как и любое другое искусство, историческими корнями уходит в древние формы культуры человечества, когда согласно «большому закону семантизации (или формообразования)» искусство рождалось до искусства, театр до театра [8, 57 ].
Истоки театрального искусства заложены в различных празднествах, а также религиозных представлениях наших предков, которые одушевляли природные явления и специфически «общались» с богами, что проявилось и утвердилось в обрядовых и ритуальных действах. Однако сами по себе такие действа являлись не театром в современном понимании, а театрализацией (другими словами, предтеа-тром). Театр и театрализация, по мнению В. Н. Всеволодского (Гернгросса), - «разные фазы в развитии одного и того же явления» [4, 58], но в их основе заложено игровое начало и в своем распоряжении они имеют общие способы «подмены, постановки, отождествления» [7, 21].
Понимая под театрализацией «разную степень театральности народных действ», надо иметь в виду, что в одних обстоятельствах это будут «только элементы театрализации в обряде (они со временем могут стать частью искусства, свободного от обрядности), а в других – театрализованные действа (представления в аграрных празднествах более позднего периода)» [3, 16– 17 ].
Театрализации свойственны черты традиционного искусства: коллективность, устная передача опыта, импровизацион-ность, вариативность, каноничность. Ее особыми признаками можно считать бифункциональность (связь с мифологией) и неразрывность драматургии и представления, танца, песни и музыки. Равноценной и тождественной данным видам единого ритуально-обрядового действа и празднества была предсценография, трансформировавшаяся впоследствии в сценографию как вид искусства.
Предсценография в ритуально-обрядовых и праздничных действах выступала в качестве их оформления и охватывала «материально-вещественную часть» представления. Выявляя особенности пред-сценографии в названных действах мордвы, в качестве методологической основы мы использовали функциональную систему крупного отечественного театроведа В. И. Березкина, выделившего три основные функции сценографии.
Игровая функция предполагает непосредственное участие сценографии и отдельных ее элементов (костюма, грима, маски, вещи) в преображении облика актера и его игре. Функция обозначения места действия - организацию (создание, изображение, воспроизведение и т. п.) места, где происходят события спектакля. Персо- нажная функция - разнообразное включение сценографии в сценическое действие, в том числе в качестве материально-вещественного, пластического, изобразительного, всякого иного «персонажа», воплощающего в контексте спектакля тот или другой его идейно-художественный мотив, тему, обстоятельства, силы драматического конфликта [2, 9]. По мнению автора, первым типом функционирования предсценографии является персонажный, представляющий некую вещь как персонаж ритуально-обрядового и праздничного действа, как материализованное метафорическое воплощение образа; вторым - определение места действия обрядов и празднеств исходя из условий жизни и окружающей среды того или иного народа; третьим – игровой, трансформирующий внешний вид исполнителей и их игру с помощью костюма, грима, маски и т. д. [2,12].
Данная функциональная система имеет универсальный характер и в предлагаемом исследовании используется для анализа предсценографии «театральных» действ мордвы.
Обзор литературы
Теоретическим и методологическим материалом работы послужили исследования, в которых прослеживаются этапы становления театра от предтеатра и сценографии от предсценографии. Это фундаментальные труды отечественных историков театра В. И. Березкина и В. Н. Всеволодского (Гернгросса). Терминологический корпус статьи позволили выстроить работы французского театроведа П. Пави, а также советского фольклориста О. М. Фрейденберг и российского этнографа И. А. Морозова.
Одним из первых комплексных исследований ритуально-обрядовых действ мордвы стала работа П. И. Мельникова-Печерского «Очерки мордвы». Важное значение в изучении народного театрального искусства мордвы имеет фундаментальный труд искусствоведа и театроведа В. С. Брыжин-ского «Народный театр мордвы», в котором творчество народа представлено в диахронном и синхронном аспектах. От- дельные элементы драматического искусства в традиционной культуре мордвы, а также специфика определенных обрядов рассмотрены в статьях Ю. Г. Антонова и Г. А. Корнишиной.
Материалы и методы
Материалом исследования явились особенности функционирования пред-сценографии в ритуально-обрядовой и праздничной культуре мордвы. Основу методологии исследования составил социокультурный подход, интегрирующий накопленный исследовательский материал из различных областей гуманитарного знания (истории, этнографии, театроведения, искусствоведения и т. д.), а также метод интерпретации, раскрывающий смысловое содержание понятий «театрализация», «предтеатр» и «пред-сценография». Системно-типологический метод позволил выявить основные функции предсценографии, аналитический - раскрыть их особенности на примере ритуально-обрядовых и праздничных действ мордвы.
Результаты исследования и их обсуждение
Основные функции предсценографии самобытно выражены в предтеатре мордвы и зафиксированы в различных регионах проживания народа в России. Они проявлялись в земледельческих, семейно-бытовых, поминальных обрядово-ритуальных и других действах, основываясь на мифологических представлениях и магических ритуалах и постепенно приспосабливаясь к православию. Со временем все эти действа преобразовались «в праздничные театрализованные представления, соединив магические воззрения, церковные элементы и эпизоды из реальной жизни народа» [1, 320 ].
Первая функция предсценографии – персонажная, включающая разнообразные материально-вещественные компоненты. Это мог быть определенный метафорический образ, который раскрывал то или иное содержание действа. Таким персонажем являлся, например, огонь как символ солнца. Перед Рождеством мордва в обря- довых действах обращалась к ритуальному огню, что могло означать его рождение в начале года от солнечной энергии, воплощением которой выступала зажженная священная свеча.
Модификация образа огня - «рождественское полено», которое хозяйка дома обычно зажигала в сочельник, когда приступала к приготовлению праздничной трапезы. Разведение огня требовало соблюдения определенных ритуалов: свечой зажигали березовую лучину, при этом просили у богов хороший урожай, а затем «горящей лучиной зажигали дрова в печи и головню от прошлогоднего полена. На головню клали новое березовое полено, которое тлело в загнетке печи три дня» [5, 83 ].
Важным персонажем того или иного действа могли выступать различные явления и продукты природы, например дерево, связанное с древним культом растительности и плодородия, чаще всего береза. В некоторых свадебных обрядах березовыми ветками декорировали повозку молодоженов, а их самих хлестали прутьями данного дерева. Праздник «Проводы весны» («Тундонь ильтямо») включал карнавальное шествие, состоявшее из многочисленных ритуальных и игровых действ. Обязательным персонажем в них была наряженная цветными лентами и платками береза как олицетворение весны. Праздничная процессия несла ее до хлебного поля или реки, где и завершалась церемония проводов весны.
Особое место в предсценографии занимали антропоморфные и зооморфные персонажи, созданные специально для календарных обрядово-ритуальных и праздничных действ. Антропоморфным образом можно назвать хлебный сноп. После окончания жатвы народ устраивал поминальный обряд, отражающий заботу об умерших родственниках и возможность обращения к богам с пожеланием иметь богатый урожай в следующем году. Участники обряда срезали колосья с выделенного места на поле и вязали их в сноп, который символизировал поминаемых людей. Сельский староста ставил сноп на середину участка, служившего местом действия, при этом плакальщицы причитывали. В то же время сеяльщики – третьи участники обряда – «засевали» место мякиной, означавшей зерновые семена. Ритуал завершался хороводом вокруг снопа и песнями в память умерших предков.
Сноп как персонаж был представлен на популярном празднестве мордвы осеннего цикла «Дом девичьего пива» («Тейтерень пия кудо»), который посвящался окончанию полевых работ. Из отборных пшеничных и просяных колосьев вязали два снопа, олицетворявших в драматизированных действах главных персонажей-молодоженов: «мужа» (пшеничный сноп) и «жену» (просяной сноп). В конце действа появлялись «дети» – «мальчик» (чашка пшеницы) и «девочка» (чашка проса). Необмолоченные снопы символизировали «хлебных подруг», управлявшие ими молодые люди, образовывая круг и медленно двигаясь, имитировали хлебное поле [3, 68 ].
Некоторые персонажи символизировали уходящее время года, плодородие и др. Так, персонаж Сношеньки ( Потишкат ), участвовавший в празднестве «Проводы весны», означал тесную связь человека с природой. Крапивная Сношенька олицетворяла молодую цветущую женщину, детородящую мать и представляла собой чучело, одетое в отдельные элементы женского традиционного костюма. В качестве охраны персонаж сопровождали ряженые, державшие в руках крапиву. Участники празднества должны были пробиться через них к Сношеньке и дотронуться до нее, чтобы получить «определенные блага». Конопляная Сношенька – это образ зрелой женщины, одетой в праздничный национальный костюм. Такое чучело, изготовлявшееся пожилыми мордовками, ассоциировалось с прощанием с весной, в том числе с их молодостью.
Пример зооморфного персонажа – конь. С ним были связаны надежды на благосклонность природы и щедрость солнца. У мордвы во многих обрядах чучело животного поднималось на верхушку дерева и почиталось как солнце. Конь являлся центральной фигурой многих весенних обрядовых празднеств (Масленица, Пасха, Троица). Так, в обрядах Троицкого цикла мужчина, возглавлявший шествие, нес на палке голову «животного», сделанного из двух палок, соединенных свитыми из мочала жгутами.
Персонаж коня занимал важное место в празднестве «Рождественский дом» («Роштовань кудо»). Чучело изготавливали из грубого полотна, рогожи, прутьев, обручей и лесенки. Голове придавали максимальное сходство с реальным животным. В других случаях насаживали на палку настоящий череп лошади, на который натягивали разрисованный холст. Конструкция приводилась в движение молодыми людьми.
В качестве персонажей предсценогра-фии могли выступать различные предметы материальной культуры мордвы: орудия труда, домашняя утварь и др. Являясь частью обрядового действа или празднества, они несли в себе определенные смыслы. Например, украшенный лентами плуг во время «Моления плуга» («Кереть озкс») означал начало пахоты весной.
Все названные персонажи неотделимы от исполнителей обрядов и празднеств, в игре которых зарождалось режиссерское и актерское мастерство. Режиссером-организатором ( аньдямот, покшкеть, отоманкат, казакт ) и одновременно исполнителем «главных ролей» в ритуально-обрядовых действах, а позднее в празднествах мордвы были люди, которые хорошо знали процесс их проведения, обладали творческим талантом, находчивостью, импровизационными и организаторскими способностями.
Важно отметить, что персонажная функция предсценографии была тесно связана с игровой, они могли переходить друг в друга, демонстрируя то и другое одновременно и образуя так называемую персонажно-игровую функцию [2, 30 ].
Вторая функция предсценографии предполагала обозначение места, в котором разворачивались обрядово-ритуальные и праздничные действа мордвы. Она предусматривала не просто разъединение (или объединение) зрителей и исполнителей в определенном пространстве, а заранее выбранные «священные места» проведения обрядов или игровые площадки.
Местом действия могла быть окружающая человека среда (лес, роща, поляна, поле, улица, гумно, двор, дом и т. д.).
Важную роль в жизни мордвы играли религиозные обряды – сельские общинные моления ( вель-озкс ), проводимые в лесах, рощах и на лесных полянах. В ходе обряда участники заручались покровительством богов в получении необходимых жизненных благ для общины в целом и семьи в отдельности. Подобные действа, отличавшиеся массовостью, зрелищностью, сложностью и красочностью церемоний, разворачивались на поляне в окружении священных деревьев, на специальных площадках. П. И. Мельников-Печерский отмечал служившую для этих целей «небольшую четырехугольную ровную площадку, сажен в 20–30 длины и столько же ширины» [6, 444–445 ].
Мордвой Саратовский губернии общинные моления совершались на чердаке специального ритуального дома – места, предназначенного для организатора празднества и исполнителя роли того или иного бога ( озатя ), реализующего «божественную миссию». Выбор места в данном случае определялся тем, что почитаемые божества были невидимыми для людей, поэтому озятя скрывался от участников представления на чердаке.
В поминальных обрядах местом проведения драматизированных представлений были специальные сценические площадки, которые в зависимости от сюжета сооружались на гумне, улице, во дворе, в доме и др. Руководил действом так называемый заместитель поминаемых предков (васта-озай). Так, на гумне разыгрывалась сцена «рубки леса», необходимого для строительства в загробном мире. В середине расчищенного круга в землю закапывали ветки деревьев, означавшие участок строевого леса и являвшиеся персонажем. Вокруг всей площадки «располагались зрители, которые наблюдали как “заместитель” заготовлял “бревна” для перевозки их “на тот свет”, где лес не произрастал» [3, 45–46]. Затем срубленные ветки переносили в дом, где разыгрывалась вторая сцена. В центре избы ставили маленькую бочку, к которой вертикаль- но прикрепляли ветки, а рядом зажигали небольшой костер. Через него участники обряда должны были прыгать, тем самым проходя специфическое очищение. Существовали и зрительские места, размещенные вокруг площадки.
Полевые работы мордвы завершались важным осенним празднеством – «Дом девичьего пива». Для его проведения подбирали большой дом для представлений, который тщательно убирали и украшали вышитыми полотенцами. В центре помещения сооружали сценическую площадку. Специальный дом как место действия выбирали и для зимнего празднества «Дом плясок» («Кштимань кудо»), где также оборудовали сцену, костюмерную, устанавливали занавес.
В драматизированных весенних празднествах «Зазыв весны» («Тундонь сеере-мат»), посвященных жаворонку ( норов-жорч ), игровыми площадками служили первые проталины и плоские крыши. На них девушки имитировали полет птиц и исполняли песни, в которых зазывали жаворонков, отождествляя их прилет с приходом весны.
Местом действия могло быть пространство, в котором подлежали обыгрыванию отдельные природные элементы (например, дерево). Вель-озксы у мордвы Нижегородской губернии проходили на специфических «площадках-возвышениях», т. е. на дереве. Выбор «сцены» определялся статусом бога, которому посвящалась та или иная часть обряда. Главному богу предоставлялась самое высокое место – крона дерева, откуда ему необходимо было вести диалог с людьми. Человек, игравший эту роль, в зависимости от расстояния до зрителей должен был повышать или понижать голос.
Разновидностью вель-озксов являлись сараз-озксы – общинные моления, в основе которых лежало прошение исполнителями ритуального действа у священных деревьев (липы, дуба, березы) о покровительстве домашним животным и хорошем урожае. Озатя, преобразившись в божество, исполнял определенные роли согласно сценарию, а игровой площадкой служили названные деревья. Спрятавшись в ветвях, на словесную просьбу народа он отвечал символическими подарками: листья липы, имитировавшие оладьи, означали хлеб; недоуздки – лошадей; напиток из меда – дождь и т. д.
Участниками действа обязательно были музыканты, от игры которых зависело настроение празднества. Выступали они на специальных площадках, которыми могли быть дверь, ворота и др. Исполнители становились на них сначала на колени, по ходу действа вставали во весь рост, а в кульминационный момент мужчины поднимали их вместе со «сценой» с земли и держали над головой [3, 28 ].
Таким образом, предсценическое место обрядовых и праздничных действ мордвы представляло собой окружающее человека природное, производственное и бытовое пространство, в котором сознательно выделялись специальные места для проведения обряда и игровые площадки, нередко обособленные от зрителей.
Третья функция предсценографии – игровая, в которой на первый план выходил элемент перевоплощения исполнителей обрядовых и праздничных действ в те или иные образы посредством костюма, грима и маски.
В игровой предсценографии была широко распространена имитация зооморфных существ, прежде всего медведя и коня.
Медведь - это тотемное животное мордвы, носитель добра в человеческих отношениях. Данный образ часто встречался в свадебных обрядах. Роль медведя исполняла пожилая женщина (свекровь, крестная мать жениха и др.), с помощью разнообразных ритуалов способствовавшая «привлечению» богатства и плодородия к новобрачным. Под руководством «медведя» ряженые разыгрывали различные сцены, цель которых заключалась не только в том, чтобы приобщить новобрачную к хозяйству, но и в том, чтобы научить ее строить отношения в семье.
Существовало два вида маскировки медведем («Рождественский дом», «Дом плясок», «Проводы весны»). Первому виду соответствовал следующий костюм: овчинная шапка, вывернутая наизнанку овчинная шуба, подпоясанная пеньковой веревкой, черные шерстяные варежки и подшитые валенки; на лицо накладывался грим из сажи, который оставлял «медвежьи метки». Второй вид составлял тот же костюм, но вместо грима применялась так называемая личина (чамакс) – белый тюль с отверстиями для глаз [3, 94].
Повсеместное развитие у мордвы получили обряды, в которых конь как объект поклонения был представлен ряженьем в животное. Так, во время празднества «Проводы весны» мужчины наряжались конем, на шею которого вешали колокольчик.
Костюмно-масочное ряженье могло предполагать перевоплощение в те или иные человеческие персонажи. Так, у мордвы существовал обряд «Свадьба по умершему», который был связан с игрой и преображением его участников в жениха и невесту, не успевших до своей смерти обрести семью. Если умирала девушка, роль невесты обычно исполняла близкая подруга покойной, а роль жениха – юноша (иногда настоящий жених). На исполнителей надевали свадебные костюмы.
В поминальном обряде мордвы «заместитель» покойного ( васта-озай ) исполнял роль «посредника» между потомками и мудрыми, авторитетными предками. Внешне он должен был походить на умершего человека, что требовало в процессе ряженья максимума фантазии и создания узнаваемых черт, например усов, очков, а также привычек и т. д. Данный персонаж въезжал в село на коне, спина которого была покрыта белым траурным полотном, или приходил в образе странника с посохом в руке, что означало дальнюю дорогу. В другом поминальном обряде, устраиваемом после жатвы хлеба, традиционные образы - староста, сеяльщики и плакальщицы – имели специфические детали в костюме. Так, на лицо старосты надевали конопляную бороду, на шею - круглую дощечку, что означало власть, а также длинный кафтан и широкий кушак, на шею плакальщиц – белые холщовые полотенца, что символизировало траур, а на сеяльщиков – подпоясанные рубахи, старые шапки и лапти.
Игровая функция предсценографии представлена игровым преображени- ем исполнителей обрядовых и праздничных действ в тот или иной воображаемый образ, например в образ Весны как символ любви и плодородия. В молодежных празднествах, посвященных ей, девушки рядились в мужчин, а мужчины – в женщин. Те и другие одевались в рваную одежду, к которой подвешивали различные предметы из металла и листья папоротника, а лица покрывали масками лесных жителей. Традиционный образ Старика – участника празднества «Проводы весны» требовал наличия у исполнителя в одних случаях седой бороды из кудели, усов, шапки-ушанки, холщовой рубахи, подпоясанной пеньковой или мочальной веревкой, залатанных ватных брюк, подшитых валенок или лаптей, а в других – старой капроновой шляпы, поношенного кителя, брюк-галифе, ботинок с обмотками [3, 141].
Существовали костюмы, отражающие особое положение исполнителя среди других участников праздничных действ. Так, костюм Отоманкат – режиссера и главного действующего лица осеннего празднества «Дом девичьего пива» включал войлочную шляпу, расшитую бисером, мишурой и блестками, ожерелье из серебряных монет, красную фату, черный каф-тан-восьмиклинку, подпоясанный кушаком, и сафьяновые сапоги. Обязательным атрибутом образа была нагайка с бисерными ручками, в других случаях – шашка.
Одним из древних способов игрового преображения являлись маски. В них с наибольшей наглядностью концентрировалась театрально-игровая форма многих обрядов и празднеств, и использовались они не только «в связи с антропологическими мотивами… но и по многим другим соображениям, в частности, чтобы иметь возможность наблюдать за окружающими…»1.
В обрядовых и праздничных действах мордвы маски служили для того, чтобы показать существ, олицетворяющих добро или зло. По сути они в концентрированной форме отражали воззрения народа и содержание ритуала.
В отдельную группу масок можно выделить так называемые маски страха, призванные, во-первых, «бороться» со стихийными бедствиями, с различными страхами (голода, болезни или смерти) и побеждать их, а во-вторых, выступать положительной воспитательной силой, направленной на искоренение нарушений норм народной этики. Так, «Моление от эпидемий» («Стака мор-озкс») включало борьбу с маской холеры, созданной из бересты. Болезнь отождествлялась с обликом злой женщины (некрасивое сухое лицо с большими глазами и широким ртом). На маску наносили грим: щеки красили сажей, глаза и рот подводили углем, прикрепляли волосы, изготовленные из спутанной конской гривы. В «Молении от саранчи» («Цирькун-озкс») олицетворением зла являлась маска саранчи. Символизирующая голод саранча изгонялась раздетыми донага женщинами во время исполнения танца-заклинания [3, 52 ].
Маски страха встречались в молодежных представлениях, организуемых в период Страстной недели перед Пасхой, для передачи страшных мифологических образов. Помимо масок применялся грим, состоявший из сажи, муки, красок, свеклы, использовались также конский волос и картофельные зубы. Осенние маски страха изготавливались из полой тыквы, в которой вырезались глаза, нос, рот, острые зубы, а во внутрь вставлялась зажженная свеча. Затем она насаживалась на крестовидный стержень, облаченный в кафтан.
Бытование маски в аграрных празднествах мордвы постепенно трансформировалось и стало связующим звеном между древними обрядами и календарно-праздничными представлениями, имевшим этическое предназначение. В рождественских празднествах главным действующим лицом выступала Бабушка Рождества (Рош-това-баба). Ее маска и костюм были яркими, а роль исполнялась высоким худым молодым человеком, отличавшимся находчивостью и остроумием. Его лицо гримировалось до неузнаваемости: глаза подводились углем, щеки и губы красились свеклой, а лоб и уши – сажей. Костюм персонажа состоял из элементов традици- онной женской одежды: головного убора «панго», вывороченной шубы и лаптей с волочащимися по полу онучами. Обязательным атрибутом данного образа было «орудие наказания» – пест для устрашения нерадивых людей [3, 71]. Маска Бабушки Покрова (Покров-баба) использовалась на празднике в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В роли данного образа выступала обычно пожилая женщина, лицо которой покрывалось маской из куска холста с отверстиями для глаз, рта и носа. Костюм составляли шапка из овчины, драный пиджак или шуба, подпоясанная конопляным поясом, и валенки. Главным атрибутом служил банный веник, который предназначался для наказания ленивых женщин и озорных детей.
Таким образом, в театрализации обрядовых и праздничных действ мордвы было представлено довольно большое разнообразие костюмов, грима, масок, которые не только создавали внешний изобразительно-пластический образ персонажа, но и, соединяясь с исполнительским мастерством участников, становились важными элементами игры.
Заключение
В предтеатре мордвы специфически отражены три функции предсценографии: персонажная, обозначения места действия, игровая. В ходе исторического развития они охватили всю материально-вещественную часть видимого образа ритуально-обрядовых и праздничных действ, объединив все, что окружало участников и что служило преображению их внешности, а впоследствии трансформировались в сценографию как вид искусства.
Список литературы Особенности функционирования предсценографии в ритуально-обрядовых и праздничных действах мордвы
- Антонов Ю. Г. Элементы драматического искусства в мордовском календарно-обрядовом фольклоре // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2010. Вып. 5 (85). С. 319-325.
- Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра: От истоков до начала ХХ века. Москва: ГИИ, 1995. 252 c.
- Брыжинский В. С. Народный театр мордвы. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1985. 168 с.
- Всеволодский (Гернгросс) В. Н. История русского театра: в 2 т. Москва; Ленинград: Теа-Кино-Печать, 1929. Т. 1. 576 с.
- Корнишина Г. А. Дом и ритуал в традиционной культуре мордвы // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2012. № 2 (18). С. 80-85.
- Мельников-Печерский П. И. (Андрей Печерский). Очерки мордвы // Полное собрание сочинений. Санкт-Петербург, 1909. Т. 7. С. 410-486.
- Морозов И. А. "Игра" и "ритуал" в современном научном дискурсе // Традиционная культура: науч. альманах. Москва, 2001. № 1. С. 20-28.
- Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. Москва: Изд. фирма "Вост. лит". РАН, 1998. 800 с.