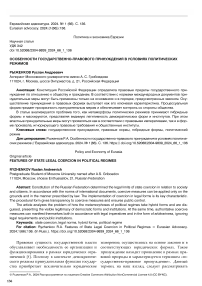Особенности государственно-правового принуждения в условиях политических режимов
Автор: Рыженков Р.А.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Политика и экономика Евразии
Статья в выпуске: 1 (66), 2024 года.
Бесплатный доступ
Конституция Российской Федерации определила правовые пределы государственного принуждения по отношению к обществу и гражданам. В соответствии с нормами международных документов принудительные меры могут быть применены только на основаниях и в порядке, предусмотренных законом. Осуществление принуждения в правовых формах выступает как его ключевая характеристика. Процессуальная форма придает прозрачность принудительным мерам и обеспечивает контроль со стороны общества. В статье анализируется проблема того, как метаморфозы политических режимов принимают гибридные формы и маскируются, представляя видимую легитимность демократических форм и институтов. При этом властные принудительные меры могут проявляться как в соответствии с правовыми императивами, так и в форме произвола, игнорирующего правовые требования и общественные институты.
Государственное принуждение, правовые нормы, гибридные формы, политический режим
Короткий адрес: https://sciup.org/140305937
IDR: 140305937 | УДК: 342 | DOI: 10.52068/2304-9839_2024_66_1_136
Текст научной статьи Особенности государственно-правового принуждения в условиях политических режимов
как правовую категорию, неразрывно связанную с особенностями конкретных политических режимов. Реализация государственно-правового принуждения и его социология отражают процесс адаптации государственного принуждения к уникальным особенностям режима.
Современные государства, проходящие непростой пусть в сторону демократизации политической среды, не могут отказаться от принудительной функции. Более того, принудительная функция государства становится неотъемлемым атрибутом, без которого выполнение других функций трудноосуществимо. Право выступает в данном контексте в качестве критерия обоснованности применения принуждения, определяя необходимость и законность используемых средств принуждения. Вместе с тем современное состояние государственности не исключает возможность произвола власти при осуществлении принудительных функций.
На наш взгляд, будет целесообразно уделить внимание не столько функциональной деятельности государственного принуждения, сколько его правовым аспектам. Легитимация государственного принуждения обосновывается общественным признанием неизбежности и безальтернативности его применения как неотъемлемого средства защиты, охраны, принудительных форм восстановления и защиты нарушенных прав и свобод человека и гражданина.
Проблема государственного принуждения поднималась различными авторами довольно давно. Так, существуют исследования, посвященные анализу функций государственного принуждения [2, с. 121], его разновидностей [3, с. 3; 4, с. 15], основных признаков [5, с. 199], рассмотрению государственного принуждения как метода осуществления государственной власти [6, с. 59] и современного государства [7, с. 18].
Особое внимание авторами уделялось особенностям осуществления государственного принуждения в условиях демократического режима [8, с. 74], анализу мероприятий государственного принуждения в области публичного права [9, с. 48], учету особенностей конституционно-правового принуждения [10, с. 9] Важным аспектом были также исследования моральных оснований властной деятельности, в том числе принудительной [11, с. 240].
Цель настоящей статьи обоснована особенностями рассматриваемой проблемы и направлена на исследование форм принудительной деятельности институтов власти, из которых единственной легитимной в правовом государстве высту- пает государственно-правовое принуждение. Специфика государственно-правового принуждения проявляется в его правовом содержании и характеристиках, которые должны рассматриваться в контексте эволюции политических режимов государств и отражать степень гарантирования государственно-правовыми механизмами реализации требований правовых принципов, норм и международных стандартов принудительной деятельности.
Особенность государственного принуждения в политико-правовом пространстве при переходе к демократии выражается в том, что прямое или косвенное воздействие на права и свободы граждан, независимо от того, оправдано оно или нет (является ли легитимным или нелегитимным), влечет за собой ограничение этих прав и свобод. Однако предметом юридически обоснованного принуждения считаются мотивы антисоциального поведения субъектов права, в котором принудительно снимаются противоречия между общей и индивидуальной волей.
Переходный этап политической и правовой системы может сопровождаться проявлением метаморфоз политического режима, что зачастую приобретает формы гибридизации и мимикрии с видимой легитимацией демократических форм и институтов. Принудительные границы властных структур в реальной практике могут иметь как правовое измерение, соответствующее принципам и нормам права (как, например, конституционно-правовая модель государственного принуждения), так и внеправовое измерение. В демократически ориентированном обществе эти грани проявляются в виде властного произвола, который на практике не ограничен верховенством права.
Это может выражаться в отсутствии реакции власти на общественное мнение, в искусственном формировании этого общественного мнения, неточной социологии опросов и др. Это явление отчасти может быть обусловлено недостаточной модернизацией национальной правовой системы, отсутствием демократически-правовых традиций и идеологического обоснования в организации и функционировании власти.
На протяжении длительного периода государственное принуждение ассоциировалось с деспотическим стилем управления. Традиционное восприятие этой необходимости связано с архаическими представлениями в общественном сознании, согласно которым государство воспринимается как способное самостоятельно и справедливо разрешить все человеческие противоречия (эта- тизм). В настоящее время эта ментальная традиция может выражается в форме социального инфантилизма, проявляющегося в слабости или отсутствии реальных институтов гражданского общества. Напротив, правовой нигилизм представляет собой отрицание социальной необходимости и ценности права, его смыслообразующего влияния на институты власти, их рациональноправовую организацию и этико-правовое воздействие на полномочных субъектов [11, с. 241].
На наш взгляд, в настоящее время акцент в управлении смещен на альтернативные методы регулирования, такие как убеждение и стимулирование. В этом контексте правовой формат функционирования государственной власти будет поддержан только при условии легитимного принуждения и связанных с ним ограничений прав и свобод. При этом принуждение должно быть направлено на обеспечение выполнения властно-правовых предписаний, а не служить только символом наказания за правонарушение.
Правовое признание государственного принуждения зависит от четко определенных правовых принципов и норм, которые регулируют виды и меры принудительных мер. Организация этого процесса (система институтов, полномочий и используемых правовых ресурсов) осуществляется в рамках правовых форм публично-властной деятельности и оформляется в соответствующих отраслевых нормативно-правовых актах. В условиях демократического транзита институтов публичной власти к этой системе добавляются этические стандарты, как международно-правовые, так и национально-правовые, инкорпорированные в современные этические кодексы поведения государственных служащих.
Понятие «государственное принуждение» тесно связано с характеристиками государственной власти и права. Оно представляет собой важный атрибут публичной власти и выражается в ее специальном механизме, функциях и формах осуществления, а также в ее исключительных свойствах. С другой стороны, право по своей природе предполагает принуждение. Связанные с принуждением определение, сущность и основные формальные признаки права делают последнее формальными признаками принуждения. Если рассматривать отношения права и государственного принуждения, то последнее выступает как первичное свойство, воплощающее стимулирующий и ограничивающий потенциал, связанный с волевой природой права, его нормативностью и системностью. Оно также лежит в основе определения основных признаков (свойств) права и производных явлений и институтов, в частности юридической ответственности.
Само по себе принуждение не противоречит основам правового государства, а напротив, находит свое обоснование в этих принципах, поскольку: а) в рамках такого государства имеется монополия власти, осуществляющей всякое принуждение через свои органы, делегированные ей государственными и муниципальными структурами (принудительные функции, порученные государством); б) принцип ограничения государственной власти подразумевает законность и справедливость требований государства, которые общество воспринимает как легитимные, считая подчинение власти добровольным; в) право, представляющее собой волю общества, служит справедливым обоснованием государственного принуждения, чей потенциал вложен в само право и поддерживается государством; г) принуждение является востребованным, так как оно эффективно преодолевает социальные конфликты [12, с. 17]; д) принуждение становится актуальным в свете усиления проблем терроризма и экстремизма в мировом масштабе, характеризующегося жестокостью и транснационализацией; е) расширение области принуждения в международных отношениях, где отрицательные процессы подтолкнули к появлению жестких форм воздействия с целью разрешения вооруженных конфликтов и умиротворения сторон в религиозных, этнических и иных конфликтах [13, с. 106].
Исходя из принципа правового ограничения государственной власти, следует отметить, что ее принудительная функция должна иметь исключительно правовой характер, то есть реализоваться на основе правовых принципов и в рамках правовых форм. Такое принуждение обладает преимущественно правовой природой и находит выражение в термине «государственно-правовое принуждение» [14, с. 22]. Государственно-правовое принуждение представляет собой регулируемое законом воздействие, осуществляемое уполномоченными органами государственной власти с использованием юридических мер ограничения прав и свобод субъектов с целью обеспечения безусловного выполнения ими требований правовых норм [15, с. 28].
Принуждение проявляется в физическом и / или психическом ограничительном воздействии на конкретного человека, применяемом независимо от его согласия, и имеет своей целью переориентацию к положительным образцам поведения в соответствии с требованиями субъекта, осуществляющего такое воздействие. Представления классической правовой науки о государственном принуждении ранее сводились, главным образом, к насилию, наказанию и каре. Его основной задачей было политическое подавление оппозиции в рамках политического режима, и оно реализовывалось вне правовых форм. Это отличается от этатистской модели государственного принуждения.
Государственное принуждение необходимо рассматривать в контексте метаморфоз современных политических режимов, которые условно подразделяются на традиционалистские и модернизаторские. Каждый из этих режимов представляет форму модернизации авторитаризма. Поэтому реализация государственного принуждения и его социологии требует адаптации к специфике конкретного режима.
Применительно к традиционалистским режимам можно сказать, что для них характерно имитированное реформирование с целью демократизации власти при одновременном разложении традиционных структур. Такие режимы характеризуются увеличением использования репрессивных и нелегитимных средств властью для политических репрессий и социальных ограничений. Отмечается нарушение прав на свободу слова, общественное мнение, права на местное самоуправление и самоорганизацию граждан. Оппозиция вытесняется из политического пространства, подвергается дискредитации с использованием информационных и силовых методов. Власть отказывается от диалога с оппозицией, преобладает агрессивная тактика использования силовых ресурсов, включая физическое устранение оппозиционных фигур. Режим характеризуется персоналистскими тенденциями, где власть часто не институционализируется, а основывается на лидере, сопровождаясь героизацией радикальных формирований, поддерживающих правящую элиту.
Современные особенности государственного принуждения теперь умножены на характерные черты гибридных политических режимов, которые с трудом прогрессируют, легко адаптируются, приспосабливаются к изменениям в политическом курсе, ставят акцент на риторике стабильности и готовности поддержать любые политические повороты. Эти режимы используют свободу слова без идеологических ограничений, они формируют фейковое пространство для своего существования, основанное на распределении ограниченных ресурсов, становясь выгодополучателями новой информационной реальности.
Эффективность политического реформирования в рамках демократически ориентированных систем зависит от сохранения властью социально значимых приоритетов. Взаимодействие общественного мнения с властью в рассматриваемом нами случае становится объектом постоянных изменений. Современные информационные технологии, монополизация информационных ресурсов и средств распространения, контроль над интернет-ресурсами, запреты на политическую деятельность, а также официальные репрессии против оппозиционно настроенных личностей расширяют возможности для игнорирования и манипуляций со стороны режима.
Любые попытки критики властных структур за их антисоциальную деятельность воспринимаются властью как государственная измена с привлечением ответственности на основе своей скорректированной законодательной базы. Модель государственного принуждения и его роль в современном демократическом обществе следует рассматривать и исследовать с учетом его правовых ограничений и диалектических взаимосвязей с правом, обладающим ограничительной функцией, прежде всего, в отношении публичновластных учреждений.
Обратим внимание на правовую обоснованность государственного принуждения, легитимность которого обосновывается общественным признанием его использования, рассматриваемого как необходимый инструмент защиты, охраны и принудительных мер по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина. Право служит критерием обоснованности применения принуждения, определяя его законные и обоснованные методы. Поэтому в условиях правового государства государственно-правовое принуждение реализуется от имени государства и направлено на обеспечение выполнения субъектами требований правовых норм.
Государственно-правовое принуждение представляет собой законную государственно-властную деятельность уполномоченных лиц, заключающуюся в навязывании юридически признанной и легитимной государственной воли субъектам права [15, с. 34]. По своим правовым последствиям такое принуждение связано с прекращением, ограничением или лишением прав и свобод индивидов. Цели использования мер государственно-правового принуждения включают в себя прекращение противоправного поведения, восстановление нарушенных прав, обеспечение реализации общественно значимых потребностей и наказание правонарушителей.
Принуждение обусловлено конфликтом между государственной волей, выраженной в право- вых нормах, и волей субъекта применения; его основаниями являются факты совершения или угрозы совершения правонарушений и возникновение других нежелательных для общества и государства последствий [16, с. 816]. Основаниями и предпосылками применения мер государственно-правового принуждения являются девиантное поведение правонарушителя, а также обстоятельства, при которых предупреждение причинения вреда может привести к ущемлению прав других лиц вследствие противоправных действий. Важными моментами являются возникновение обстоятельств, создающих реальную угрозу для общества или отдельных лиц, а также необходимость достижения конкретного социально полезного результата и реализация общественно необходимых целей.
Частные характеристики государственно-правового принуждения, характер его применения зависят от ряда ключевых показателей: состава субъектов, характера используемых мер, природы юридических фактов, порождающих применение принудительных мер, характера регулирования процессов и процедур деятельности уполномоченных субъектов, специфики целей применения принудительных мер.
Характер применения государственного принуждения в правовом государстве проявляется в четком определении границ принудительного воздействия. Пределы любого явления – это тот рубеж, по которому данное явление прекращает свое существование, превращаясь в свою противоположность [17, с. 238].
Вопрос о пределах допустимого государственного принуждения остается неоднозначным, поскольку критерии допустимости также субъективны, как и объективные рамки возможного.
На наш взгляд, определение границ допустимости государственного принуждения должно учитывать полное использование других методов государственно-правового воздействия. Предполагается, что государственное принуждение следует применять лишь в случаях, когда эффективное воздействие на поведение участников общественных отношений с использованием других средств становится невозможным. Существенным признаком допустимости государственного принуждения должна служить его легитимность, причем обоснованность принуждения в первую очередь обусловливается легитимностью власти.
По мнению М.М. Магомедрасулова [18, с. 47], институт ограничения представляет собой комплексное образование, присутствующее как в частном, так и в публичном праве. Исследова- тель предлагает рассматривать этот институт как составную часть правовой системы. Введение обязанности государства возмещать ущерб, причиненный неправомерным принуждением, является существенным аспектом определения границ применения принуждения.
Пределы государственного принуждения зависят от уровня развития общества и государства. Наличие демократических традиций формирования зрелого гражданского общества разрешает минимизировать пределы внедрения принудительных мер государством. В то же время наличие существенных угроз, например, террористической угрозы и т. п., может расширить границы государственного принуждения и, соответственно, приводит к вытеснению государственным принуждением других методов государственного управления [19, с. 37]. В этом случае, на наш взгляд, принуждение, применяемое при реализации правоохранительной функции соответствующими органами правового государства, должно соответствовать принципам обоснованности, иметь процессуальный характер и быть справедливым.
Осуществление принуждения в рамках правовых форм представляет собой определяющую характеристику, демонстрирующую ограниченность власти законом. Правовая форма принуждения свидетельствует о возможности его применения исключительно на основе конкретных правовых норм, которые четко определяют виды мероприятий, условия и последовательность их применения к индивидуальным лицам [20, с. 51]. Процессуальная форма не только регистрирует факт применения принудительных мер, но и делает их публичными, предоставляя обществу возможность осуществлять контроль. Кроме того, процессуальный порядок обеспечивает контроль над применением принудительных мер и возможность их оспаривания.
Таким образом, правовая природа государственной власти обуславливает её организацию и функционирование в рамках правовых ограничений. Это подразумевает, что в условиях демократического режима её принудительная функция обладает исключительно правовым измерением, осуществляясь на основе законных норм и в рамках установленных правовых форм. Легитимация государственно-правового принуждения обусловлена общественным признанием его использования как необходимого инструмента защиты, охраны и восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина.
Особенности его правового содержания и свойства государственно-правового принуждения проявляются в динамике политических режимов государств и отражают состояние государственно-правового обеспечения реализации субъектами требований правовых норм и международных стандартов принудительной деятельности.
Проблему государственно-правового принуждения, на наш взгляд, следует рассматривать с учётом того, что легитимное принуждение всегда является неотъемлемой частью общественной жизни, и его морально-правовое обоснование должно базироваться, в первую очередь, на этических аргументах, интегрированных в правовую этику.
Список литературы Особенности государственно-правового принуждения в условиях политических режимов
- Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www. pravo.gov.ru/.
- Вершинина С.И. Функции государственного принуждения // Вектор науки ТГУ. 2011. № 1(15). С. 120-122.
- Латушкин М.А. Проблемы классификации государственно-правового принуждения // Вестник Волгоградского государственного университета. Юриспруденция. 2010. № 1(12). С. 1-7.
- Шевелева С.В. Виды мер правового принуждения // Пробелы в российском законодательстве. 2010. № 3. С. 11-34.
- Чашников В.А. Содержание и признаки государственно-правового принуждения // Образование и право. 2014. № 10(50). C. 197-205.
- Цыганкова Е.А. Принуждение как метод осуществления государственной власти: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010.
- Казаков В.Н., Анненков А.Ю. Государственно-правовое принуждение как метод реализации функций современного государства // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2017. № 4-2. С. 15-22.
- Жаренов И.П. Государственное принуждение в условиях демократизации общества: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006.
- Лапина М.А., Карпухин Д.В. Конструкция составов правонарушений и меры государственного принуждения в административном и бюджетном законодательстве // Административное и муниципальное право. 2015. № 1. С. 43-54.
- Овсепян Ж.И. Государственное принуждение как правовая категория (теоретическая формула отношения принуждения к государству и праву) // Государство и право. 2007. № 12. С. 5-14.
- Кушнаренко И.А., Малараева Ю.М. Нравственные основания правового принуждения // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 6. С. 238-243.
- Рогов А.П. Особенности государственного принуждения в правовом государстве: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2013.
- Рогов А.П. Правовое государство и государственное принуждение // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. 2011. № 2. С. 104-108.
- Олейников С.Н. К атрибутам правовой природы публичной власти // Электронный инновационный вестник. Периодический журнал научных трудов. 2021. № 1(18). С. 21-23.
- Латушкин М.А. Обеспечение законности применения мер государственно-правового принуждения: теоретико-правовой аспект: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2011.
- Сиренко Б.Н., Нелина М.В. Административное принуждение в деятельности органов государственной службы // Актуальные проблемы правового, экономического и социально-психологического знания: теория и практика: Материалы IV Международной научно-практической конференции: в 3 т. Т. 1. Донецк, 2021. С. 812-816.
- Макарейко Н.В. Государственное принуждение в механизме обеспечения экономической безопасности: теоретические и прикладные проблемы: дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2016.
- Магомедрасулов М.М. Особенности принуждения в правовом государстве: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010.
- Макарейко Н.В. Пределы государственного принуждения // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 1(25). С. 35-39.
- Старостин С.А. Административно-правовое принуждение: проблемы теории // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2021. № 6. С. 48-55.