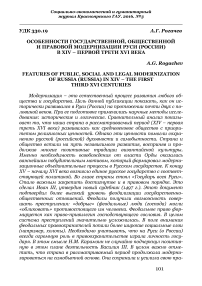Особенности государственной, общественной и правовой модернизации Руси (России) в XIV - первой трети XVI века
Автор: Рогачев А.Г.
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3 (3), 2016 года.
Бесплатный доступ
Модернизация - это естественный процесс развития любого об-щества и государства. Цель данной публикации показать, как он ис-торически развивался в Руси (России) на протяжении почти двух с по-ловиной веков. При ее подготовке применялись научные методы иссле-дования: исторические и логические. Сравнительный анализ показы-вает то, что наша страна в рассматриваемый период (XIV - первая треть XVI века) развивалась как средневековое общество с приори-тетом религиозных ценностей. Однако эти ценности помогли сохра-нению русской (российской) духовности и самобытности. Страна и общество встали на путь независимого развития, восприняв и про-должив многие позитивные традиции византийской культуры. Именно необходимость освобождения от власти Орды оказалась важнейшим побудительным мотивом, который формировал модерни-зационные объединительные процессы в Русском государстве. К концу XV - началу XVI века возникло единое русское государство с соответ-ствующей политикой. Во главе страны стоял «Государь всея Руси». Стало важным закрепить достигнутое и в правовом порядке. Это сделал Иван III, утвердив новый судебник (1497 г.). Этот документ подтвердил более высокий уровень феодализации государственно-общественных отношений. Феодалы получили возможность совер-шать преступления: «добрые» (феодальные) люди (господа) могли «обликовать» противостоящего им человека. Феодальное право фор-мируется как право-привилегия господствующего сословия. В целом система преступлений значительно усложнилась. В поле внимания феодальных правоохранителей попали более широкие социальные слои (например, холопы). Необходимо учитывать, что на Руси (в России) всегда огромную роль в правоохранительстве играла личность госу-даря. В этом смысле Н.М. Карамзин не случайно подчеркнул позитив-ную в этом плане деятельность Василия III. В целом важно отме-тить, что страна в рассматриваемый период продолжала модерни-зироваться на самобытной основе. Она сохранила и усилила свою пра- вославную гражданскую направленность. В условиях централизации успешно преодолевались прежние удельные порядки.
Модернизация, византия, Россия, московские князья, судебник 1497 г, централизованные государства, русская пра-вославная церковь
Короткий адрес: https://sciup.org/140205764
IDR: 140205764 | УДК: 330.19
Текст научной статьи Особенности государственной, общественной и правовой модернизации Руси (России) в XIV - первой трети XVI века
Традиционная цивилизация России всегда развивалась на собственной почве под воздействием внешних влияний: варягов, Византии, тата- ро-монголов и Золотой Орды, Ливонского ордена, Швеции, Англии и других народов, стран, культур, религий и цивилизаций.
Между тем в Европе с XII по XVII век шло складывание основ современной цивилизации. Л.И. Семеникова пишет: «В общественнополитической жизни боролись две тенденции.
Первая тенденция – сохранение средневекового общества с приоритетом католических ценностей. Священная Римская империя, или, как было сформулировано в XV веке, «Священная Римская империя германской нации», наиболее ярко представляла эту тенденцию.
Вторая тенденция – образование национальных территориальных государств светского типа с рациональным мировосприятием, автономией личности. Оно было связанно с формированием гражданского общества и ограничением прав власти законом. Эту тенденцию олицетворяли Англия, Франция, Швеция. Вторая тенденция побеждала» [1].
В XIV–XV вв. на территории Северо-Восточной Руси складывается централизованное государство. Можно согласиться с Л.И. Семенниковой в том, что становление и дальнейшее развитие русского государства пошло в соответствии с первой, средневековой тенденцией в Европе.
Как отмечает Л.Н. Гумилёв, прежняя Русь окончательно ушла в небытие. Ни политического, ни этнического единства русских больше не существовало. Люди остались, но сама система власти и организации между ними окончательно разрушилась. Единственной связующей нитью для всех русских людей XIV в. осталось православие. Всякий, кто исповедовал православие и признавал духовную власть русского митрополита, являлся своим, русским [2].
Православие оставалось мощным оружием централизации и модернизации русского государства и общества и в дальнейшим. О верности московской власти православию свидетельствует следующий исторический прецедент. Перед своим окончательным падением в 1453 г. Византия предприняла отчаянную попытку опереться в борьбе с турецкой агрессией на поддержку папы римского, христиан-католиков. 5 июля 1439 г. во Флоренции на церковном соборе Папская курия и Константинопольская патриархия согласились на принятие православной церковью католических догматов и верховенства папы при сохранении исполнения православных обрядов и богослужения.
Московский митрополит грек Исидор подписал Флорентийскую унию. В 1442 г. в Москве собор русских церковных иерархов по прямому указу великого князя Василия II сместил «латинского злого прелестника» и назначил митрополита Иону без ведома Константинопольского патриарха. В 1448 г. русская митрополия получила разрешение на самостоятельность (автокефалию) [3].
Ещё в XIV в. в российской модернизации активнейшее участие принимали выдающиеся церковные деятели митрополит Алексий и основатель святой Троицкой обители Сергий Радонежский.
Алексий стал первым в истории русской церкви митрополитом-москвичом. Его правление церковью и фактически государством в малолетство Дмитрия Донского осуществлялось в годы собирания сил перед Куликовской битвой [4].
Повзрослевший Дмитрий продолжил дело Алексия вместе с Сергеем Радонежским. После победы над Мамаем Дмитрий Иванович приезжает к преподобному Сергию помянуть погибших русских воинов. Так была положена традиция знаменитого Троицкого богомолья [5].
Можно с полной уверенностью утверждать: в духовном смысле ни одна русская российская модернизация невозможна без покаяния, иначе модернизация, оторванная от российской души православной, мусульманской, любой другой по вере искренной, в конечном итоге вела к серьезному как общественному, так и правовому провалу.
Православный подъем, поиск духовности в XIV–XV вв. обеспечил модернизационный процесс в обществе прочным идейным фундаментом. Надо заметить, что объединительные тенденции в этот период характерны для очень многих государств, прежде всего Западной Европы. А если совпадают модернизационные процессы, то они имеют и общие причины. Поэтому их сравнение позволяет лучше понять то, что происходило в тот период на Руси. Большинство современных исследователей подчеркивает, что первостепенное значение для объединения западных государств имело формирование национальных рынков в результате быстрого роста городов, производства и торговли. Одновременно отмечается значительная роль внешних угроз, необходимость противостояния которым усиливала стремление к объединению. Обращается внимание и на централизующую деятельность государственной власти. На русском востоке ситуация выглядит уже иначе. Говорить о росте товарного производства, а тем более зарождении национального рынка еще просто рано. Экономические причины к объединению в этот период – это нежелание русской верхушки делиться доходами с Ордой. Опасность растворения русской культуры в чужой среде, участие в решении задач, противоречащих национальным интересам, – всё это явные элементы из разряда внешних угроз.
Ликвидировать эту опасность оказалось невозможно в условиях разрозненности усилий. Лишь при наличии единства всех сил русского народа ордынская зависимость могла быть уничтожена. Поэтому именно необходимость освобождения от власти Орды оказалась тем важнейшим побудительным мотивом, который форсировал объединительные процессы в Русском государстве.
Однако превращение потребности в реальное объединение могло осуществиться лишь при наличии конкретных сил, борющихся за достижение этой цели. К тому же крайне стал необходим объединительный центр, вокруг которого могли бы сгруппироваться эти силы. В исторической литературе роль такого центра закрепляется за Москвой. В доказательство приводятся такие факторы, как центральное положение в рамках Северо-Восточной Руси, защищенность от набегов Орды, высокий уровень хозяйственного развития и гибкость политики московских князей. Но сравнение этих показателей с возможностями других княжеств показывает, что по ряду объективных параметров многие из них не только не уступали, но нередко превосходили Москву и могли так же претендовать на эту роль. Иными словами Москве отнюдь не предопределялось стать центром Русского государства. Эту возможность ей пришлось добывать в сложнейшей и упорнейшей политической и военной борьбе с другими претендентами. Наиболее сильным среди них было Тверское княжество, в течение всего XIV в. боровшееся с Москвой за право возглавить объединительный процесс. Этот процесс затянулся более чем на двести лет, пройдя в своем развитии три основных этапа, в первом этапе (первая половина XIV в.) произошло выделение основных центров притяжения, которыми стали Тверь и Москва. Если Тверь уже концу XIII в. представляла динамично развивающееся княжество, то Москва лишь в середине XIV в. усилиями московских князей, и прежде всего Ивана I (Калиты), проявляя «сверхлояльность» к Орде, сумела получить дополнительные преимущества в соревновании за первенство на Руси. Одним из важнейших среди них стало перенесение в Москву резиденции русского митрополита, что превращало ее в церковный центр Руси.
Все это привело к тому, что главным содержанием второго этапа стала упорная борьба Москвы и Твери, в которой победа осталась за первой. Если на первом этапе успех Москвы во многом обусловила поддержка Орды, то на втором, напротив, именно вступление московского князя Дмитрия в открытое военное противоборство с татарами обеспечило ему широкую социальную и политическую поддержку и в конечном счете победу в споре за лидерство. Успех в Куликовской битве (1380 г.) закрепил за Москвой статус центра национальноосвободительной борьбы по освобождению Руси от ордынской зависимости.
Фактически именно это привело к окончательному перемещению объединительного центра в Москву [6].
Успех Дмитрия Донского предопределил основы политики последующих московских князей на третьем этапе (XV в.), который можно охарактеризовать как собирание русских земель Москвой уже в качестве единоличного лидера, не имеющего себе равных противников. На пер- вый взгляд, этому противоречит разгоревшаяся во второй четверти XV в. феодальная война. Однако если глубже посмотреть на ее истоки, то обнаружится, что война – лишь династический конфликт. В нем решался вопрос о том, какая ветвь московского рода будет возглавлять процесс объединения. После его завершения ход объединения заметно ускорился, особенно после присоединения Новгорода Иваном III. Известное «стояние» на р. Угре (1480 г.) знаменовало переход от оборонительной к наступательной политике в отношении Орды и ликвидации зависимости от нее.
Таким образом, к концу XV – началу XVI в. Русь превратилась в единое государство с соответствующей политической структурой, которая мало чем отличалась от системы управления княжеством. Во главе Русского государства стоял «Государь всея Руси», как стал именоваться Иван III. Он в своей деятельности опирался на совет бояр, получивший название Боярской думы. Усложнение задач государственного управления привело к появлению новых органов – приказов, функциональных исполнительных учреждений, ведавших определенной частью государственных дел. Первые приказы еще мало напоминали учреждения, являясь фактически лишь должностью лица. Распределение должностей в системе государственного управления происходило при помощи весьма своеобразной системы местничества – порядка назначения на должность в соответствии со знатностью боярина, определявшейся сроком его службы московскому князю или родовитостью. Управление на местах передавалось в руки бояр-наместников, которые за осуществление своих обязанностей получали «корм» от населения в натуральной или денежной форме. Такая система, получившая название кормления, приводила к серьезным злоупотреблениям со стороны «кормленщиков» и вызывала протесты населения. Поэтому московские государи стремились ее ограничить. Одним из способов ограничения произвола стало укрепление системы права. В этих целях при Иване III разработали новый Судебник (1497 г.), устанавливающий единые правовые нормы ведения судопроизводства для всего Российского государства [7].
В основном в Судебнике 1497 г. содержатся нормы уголовного и уголовно-процессуального права. Вместе с тем Судебник включал целый ряд норм гражданского права, регулирующих обязательства из договора купли-продажи, займа, найма, порядок наследования, разрешение земельных споров и др.
Источники модернизированного в Судебнике права – Русская правда, Псковская судная грамота, текущее законодательство московских князей и законодательные материалы, накопившиеся в государстве к концу XV в. (указы и инструкции в области суда и управления, издававшиеся как в Московском, так и в других княжествах). Источниками служили также грамоты отдельных княжеств, устанавливавшие сроки отка- за крестьян (то есть перехода от одного феодала к другому), сроки исковой давности по земельным спорам [8].
В гражданском праве модернизационные изменения коснулись обязательного права. В ст. 55 содержался порядок заключения договора займа. Эта статья вводила новые термины: полетная грамота – договор об уплате долга в рассрочку; истина – стоимость товара или сумма денег, взыскиваемая истцом с несостоятельного должника. Более четко, чем в Русской правде, выделяются обязательства из причинения вреда. Статья 61 предусматривает имущественную ответственность за потраву. В Судебнике содержатся упоминания о договорах купли-продажи (ст. 46 «О торговцах» и ст. 47) и личного найма. Судебник вслед за Псковской судной грамотой предусматривал, что наймит, не дослуживший своего срока или не выполнивший обусловленное задание, лишался оплаты (ст. 54). Вносятся изменения и в наследственное право. Статья 60 устанавливает общую четкую норму наследования. При отсутствии завещания (духовной грамоты) вступало в действие наследование по закону. Наследство получал сын, при отсутствии сыновей – дочь. Дочь получала право наследовать не только движимое имущество, но и земли. За неимением дочерей наследство переходило ближайшему из родственников. В Судебнике по-новому определяется правовое положение феодально-зависимого населения. Статья 57 «О христианском отказе» юридически оформляет прикрепление крестьян к земле, узаконив общий для всего государства срок перехода крестьян от одного владельца к другому.
Уголовное право продолжало дистанцироваться от обычного права в сторону государственного. В отличие от Русской правды преступление понимается уже не как обида, то есть нанесение материального, физического и морального вреда, а как «лихое дело». Это уже совершение деяния, нарушающего интересы господствующего класса и государства. Перечисляя также известные ранее виды преступлений, такие как татьба, разбой, душегубство, лихое дело, ябедничество, ст. 8 Судебника вводит новое понятие – «иное какое лихое дело», предоставляя феодалам право подводить под это понятие любое деяние, посягающее на установленный в государстве порядок.
Ответственности подлежали все лица, совершившие преступление, в том числе и холопы. Если человек не мог сам вести дело, ему предоставляли право нанять наймита, то есть человека, ведущего процесс за него. В Судебнике 1497 г. проводится основной принцип феодального права – права-привилегии. Одно и то же преступление влекло за собой различную степень ответственности в зависимости от того, кем и по отношению к кому оно совершалось. В соответствии с этим в статьях Судебника подчеркивается социальная принадлежность виновного или пострадавшего: «А взыщет боярин на боярина...» (ст. 63).
Судебник вводит понятия «добрых» и «лихих людей». К «добрым» Судебник относит наиболее зажиточных представителей господствующего класса, которым предоставлялось право «облиховать», то есть признать виновным любого. Доказывать виновность оговоренного не требовалось. Человек, признанный добрыми людьми «ведомым лихим человеком», подлежал смертной казни.
В соответствии с изменением понятия преступления усложнялась и система преступлений. Государственным преступлением являлась крамола. Под крамолой понималась измена, заговор, призыв к восстанию и иные действия, направленные против правительства. Статья 9 Судебника, говоря о крамоле, выделяет таких преступников, как подымщик (подметчик) и зажигальник. Подмет означал подбрасывание чужого имущества с целью обвинения в краже. В статьях о государственных преступлениях под подметем понимался шпионаж, разглашение секретных сведений, призыв к заговорам и измене путем распространения «подметных писем». Зажигальниками называли людей, поджигающих города или крепости с целью передачи их неприятелю. Наказанием за государственные преступления являлась смертная казнь.
В Судебнике выделяются следующие преступления: убийство (душегубство), ябедничество, то есть злостная клевета или преступления против чести. Убийство в Судебнике делилось на простое и квалифицированное. К квалифицированному убийству, караемому смертной казнью, относилось убийство крестьянином своего господина и убийство, совершенное «ведомым лихим человеком». Простое убийство наказывалось продажей и наказанием, назначенным судьей.
Преступление против чести включало в себя оскорбление действием и оскорбление словом. Споры по данным искам решались полем и влекли для виновного обязанность уплаты продажи требуемого истцом вознаграждения. В случаях примирения сторон до проведения поля ответчик освобождался от уплаты продажи, но стороны возмещали судебные издержки.
Судебник предусматривал ряд преступлений против имущественных прав: разбой, похищение чужого имущества (татьба), истребление или повреждение чужого имущества, незаконное пользование чужим имуществом. В XV в. под разбоем понималось открытое нападение, производимое обычно шайкой, но не обязательно сопровождавшееся убийством. Ответственность за разбой оказывалась различной в зависимости от того, совершался ли он «ведомым лихим человеком» или нет. Когда разбой совершал «ведомый лихой человек», он карался смертной казнью. Если обвиняемый в разбое не являлся «ведомым», он возмещал пострадавшему нанесенный ущерб и наказывался «продажей», то есть денежным штрафом. Судебник 1497 г. делил татьбу, то есть кражу, на простую и квалифицированную. К квалифицированной краже, которая каралась смертной казнью, относилась кража из церкви, повторная кража, кража с поличным, кража людей и кража, совершенная «ведомым лихим человеком».
Кража, совершенная впервые, наказывалась торговой казнью, то есть битьем кнутом на торговой площади, и возмещением убытков истцу. Если обвиняемый не мог возместить убытки потерпевшему, он попадал к нему в зависимость. Большое внимание Судебник уделял охране прав собственности феодалов на землю. Он устанавливал ответственность за повреждение межевых знаков и запашку чужой земли. Наказанием за это преступление являлось битье кнутом и штраф в размере 1 рубля [9].
Судебник 1497 г. стал выдающимся памятником государю Ивану III, которого современники называли Великим. Подчеркивая успехи Иоанновы в российском общественном прогрессе, Н.М. Карамзин называл его героем «не только российской, но и всемирной истории» [10].
Л.И. Семенникова отмечает, что «существенным оказалось влияние Золотой Орды в общественной организации. Уже к концу XV в. (при Иване III) сложилась неограниченная единоличная власть Московского князя. В обществе устанавливались отношения подданства, как на Востоке, а не вассалитета, как на Западе. Западный институт вассалитета предполагал отношения двух договаривающихся сторон, которые обе были связаны взаимными правами и обязанностями» [11].
Она справедливо указывает, что вассальные отношения, утвердившиеся на Руси в древности, постепенно ликвидировались. Отменили привилегию менять сюзерена, упразднили иммунитет (автономию). Бояр, представлявших интересы земель, вытесняли в ХV–ХVI вв. служилые люди, будущие дворяне. Государственная бюрократия постепенно забирает власть, становится опорой государя. Боярская дума сохранилась до XVIII в., но роль ее в борьбе за автономию боярства постоянно уменьшалась.
Главное отличие модернизации русского общества от Запада: в Российском государстве шел неуклонный процесс нивелирования личности, уничтожения автономии общества и полного подчинения подданных власти великого князя и царя.
Н.М. Карамзин писал: «Ничто не удивляло так иноземцев, как самовластие государя Российского и легкость употребляемых им средств для управления землею. ”Скажет, и сделано, – говорит барон Гербер-штейн, – жизнь, достояние людей, мирских и духовных, вельмож и граждан, совершенно зависит от его воли. Нет противоречия, и все справедливо как в делах божества; ибо русские уверены, что великий князь есть исполнитель воли небесной“» [12].
В своем фундаментальном труде «История государство Российского» Н.М. Карамзин в сравнительном анализе князей Ивана III и Василия III показывает вклад каждого в модернизацию России.
Великий историограф пишет, что при Иване III Россия «как бы вышла из сумрака теней, где еще не имела ни твердого образа, ни полного бытия государственного» [13].
По мнению Карамзина, Россию теперь чтили от Рима до Копенгагена. Этот государь модернизировал всю внешнюю и внутреннюю политику. Иван создал благоразумнейшую систему войны и мира, основанную на дальновидной умеренности. Он искал орудие для решения собственных замыслов и не служил никому инструментом осуществления чужих планов. Иван III, не покидая Кремля, сумел создать прекрасное и сильное войско. «Он родился не воином, но монархом; сидел на троне лучше, нежели на ратном коне, и владел скиптром искуснее, чем мечом» [14].
Творения его и успех, отмечает Н.М. Карамзин, казались медленными, как бы неполными, но явились весьма прочными достижениями в становлении Российского государства.
Иоаннову линию не столько ярко и громко, но твердо продолжил его сын Василий III. В Российской истории он кажется незаслуженно мало заметным между двумя Иванами – его отцом и его сыном. Однако это не соответствует историческим фактам и обстоятельствам.
Н.М. Карамзин прямо утверждает: «Иоанны III творят, Иоанны IV прославляют и нередко губят; Василии сохраняют, утверждают державы и даются тем народам, коих долговременное бытие и целость угодны провидению» [15].
Н.М. Карамзин замечает, что законодательное право и «судная власть», как в самую глубокую древность, принадлежала при Василии III единственно государю. Все другие судьи от великокняжеских думных советников до тиунов сельских являлись лишь только временными или чрезвычайными поверенными. Сам Василий III нередко уничтожал их приговоры, и они не могли никого прямо лишить жизни «ни крестьянина, ни раба, ни холопа» [16].
Н.М. Карамзин отмечал также в это время успехи торговли, развития финансов, культурного заимствования европейских художественных и технических достижений. Москва и в первой трети ХVI в. действовала по принципу «хорошее от всякого хорошо». Западные предприимчивые и умелые европейцы находили в российской столице гостеприимство, мирную жизнь и хороший достаток.
В итоге можно утверждать, что русская и российская модернизация в ХIV – первой трети ХVI в. продолжала развиваться на самобытной основе, сохранила и усилила свою православную, гражданскую направленность. Именно последняя стала главной пружиной в создании нового государства «Россия» с центром в Москве. В условиях централизации преодолевались прежние удельные порядки, но существенные противоречия в социально политическом строе сохранились и проявили себя в последующий период.
Список литературы Особенности государственной, общественной и правовой модернизации Руси (России) в XIV - первой трети XVI века
- Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. -2-е изд., испр. и доп. -Брянск: Курсив, 1996. -С. 108-109.
- Гумилёв Л.Н. От Руси к России: очерки этнической истории. -М.: Экопрос, 1994. -С. 138-139.
- Рогачёв А.Г. Альтернативы российской модернизации: сибирский аспект (1917-1925-е годы)/Краснояр. гос. аграр. ун-т. -2-е изд., перераб. и доп. -Красноярск, 2008. -С. 23.
- Бушуев С.В., Миронов Г.Е. История государства Российского: исто-рико-библиогр. очерки. Кн. 1. IX-XVI вв. -М.: Кн. палата, 1991. -С. 167.
- Там же. -С. 184-185.
- Исторические модернизации государства и права в России в IX-XXI веках. -Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2015. -С. 22.
- Там же. -С 22-23.
- История отечественного государства и права: курс лекций: учеб. по-собие/И.В. Архипов, Ю.М. Понихидин, О.Ю. Рыбаков ; под ред. Ю.М. Понихидина. -2-е изд., доп. и перераб. -М.: Проспект, 2009. -С. 63.
- Там же. -С. 63-65.
- Карамзин Н.М. Об истории государства Российского. -М.: Просве-щение, 1990. -С. 167.
- Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. -С. 111.
- Карамзин Н.М. Об истории государства Российского в 12 т. Т. 1/под. ред. А.Н. Сахарова. -М.: Наука, 1989. -С. 181.
- Там же. -С. 168.
- Там же. -С. 169.
- Там же. -С. 179.
- Там же. -С. 182.