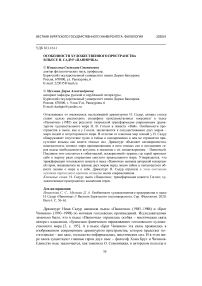Особенности художественного пространства в пьесе Н. Садур «Панночка»
Автор: Имихелова Светлана Степановна, Муллина Дарья Александровна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
Отталкиваясь от имеющихся исследований драматургии Н. Садур, авторы статьи ставят целью рассмотреть специфику пространственных координат в пьесе «Панночка» (1985) как результат творческой трансформации современным драматургом художественного мира Н. В. Гоголя в повести «Вий». Особенности пространства в пьесе, как и у Гоголя, заключаются в сосуществовании двух миров - мира людей и потустороннего мира. В отличие от классика мир земной у Н. Садур обнаруживает отсутствие чудес и тайны и одновременно в нем не отрицается присутствие ведьмы как власти темных сил. Драматург объясняет несовершенство, нецелостность земного мира проникновением в него темных сил и осознанием героя пьесы необходимости вступить в поединок с их олицетворением - Панночкой. Поединок этот состоится в «обветшалой, оскверненной» церкви, где герой приносит себя в жертву ради сохранения светлого православного мира. Утверждается, что трансформация гоголевского сюжета в пьесе «Панночка» вызвана авторской концепцией героя, оказавшегося на границе двух миров перед лицом тайны и пытающегося обрести знание о мире и о себе. Драматург Н. Садур отразила в этом состоянии человека переходного времени сознание своих современников.
Н. садур, пьеса «панночка», трансформация повести гоголя, художественное пространство, концепция героя
Короткий адрес: https://sciup.org/148316623
IDR: 148316623 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Особенности художественного пространства в пьесе Н. Садур «Панночка»
Имихелова С. С., Муллина Д. А. Особенности художественного пространства в пьесе Н. Садур «Панночка» // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 4. С. 56–61.
Драматург Нина Садур написала пьесы «Панночка» (1985–1986) и «Брат Чичиков» (1993–1998) по мотивам гоголевских произведений. Исследователями замечено было, что в пьесе «Панночка» отразилась особая – мистическая связь автора с классиком, «буквально физическое переживание» гоголевского художественного мира [5, с. 195]. А в пьесе «Брат Чичиков» эта связь проявилась в изображенном современным драматургом пространстве, которое предстает по-гоголевски – как хаос, господство инфернальных, мистических сил. И в этом мире хаоса существуют главные герои двух пьес – философ Хома Брут и Чичиков. Единство пьес заключается, как заметила О. Семеницкая, в авторском подходе к переработке «чужого» сюжета [4, с. 13]. Рассмотрим особенности художественного пространства в пьесе «Панночка», также подвергшегося авторской трансформации.
Как отмечал М. Ю. Лотман, исследовавший художественное пространство в прозе Гоголя, в повести «Вий» существуют два пространственных мира – «мир хаоса и мир космоса» [2, с. 278–279]. Н. Садур, следуя традиции классика, в своей индивидуально-творческой манере сталкивает два пространственных пласта – мир людей (реальный, светлый) и мир потусторонних сил (фантастический, темный), которые в определенной последовательности сменяют друг друга. На это указывают названия картин: «Козаки»; «Скачки»; «Люди днем»; «Ночь»; «С живыми», «Прощание», «Бой».
Каждый мир живет по своим законам, и каждому присущи свои характерные черты. Так, мир людей всегда ассоциируется со светом. В пространстве, населяемом казаками, всегда много солнца, света. Так, в словах Философа « Всё кругом ходит, гуляет, блестит, кудахчет… и на всё это светит солнышко»; «^солнце-то вон стоит, высоко, крепко [3, с. 251, 254; далее ссылки на страницы этого издания будут даны в тексте в круглых скобках] – подчеркивается сила жизни в окружающем мире, наполненном ярким солнечным светом. Этот мир населен людьми, чья жизнь бьет ключом – это Хвеська, Явтух, Дорош, Спирид. Они пьют горилку, едят галушки, обсуждают новости и часто разговаривают на отвлеченные темы, например, спорят в первой картине о том, есть ли на свете чудеса. Н. Садур, не прибегая к детальным описаниям казачьего быта в ремарках, воссоздает гоголевскую атмосферу казацкой жизни.
Отличие пьесы «Панночка» от гоголевской повести в том, что в мире земном нет ничего чудесного. Пришедший со стороны в этот мир Философ тоже не верит в чудо, считает, что только наука может объяснить все в мире. Споря с утверждением, что «кончились чудеса на свете», козак Спирид восклицает в поистине гоголевском понимании: « Боже ж мой, боже ж мой, что же это в мире делается? Как же человек без чуда жить теперь будет, если он один на всей земле и никакой ему истории не приключится? Ничто теперь ему не привидится, ни одна тайная красота не сверкнет в утреннем тумане, не поразит в самое сердце, и не пойдет он искать червонного клада под душную ночь Ивана Купа-лы? » (с. 227). Но, правда, отсутствие тайного чуда не может объяснить наличие ведьм, а ведь, по словам Спирида, «если тайны нету, и чудес нету, то и ведьм нету!». На что Философ дает твердый ответ: есть «твердая научная ограда», что «разумом своим человек от ведьмы огражден».
О том, что в этом мире есть ведьмы, свидетельствует рассказ козаков о Панночке, да еще то, что Хвеська, по общему мнению, ведьма. А это означает, что мир, в который попал Философ, на самом деле оказывается не таким здоровым, что в нем живут и активно действуют темные силы другого мира – потустороннего, темного. С приходом Философа, уверенного, что «в мире завелась густая научность» и потому ведьмы перестали водиться и причинять вред, становится заметно присутствие деталей мира потустороннего. Вот почему, как считает Н. И. Ищук-Фадеева, «ведьма – единственное, что связывает миры гоголевский и постгоголевский, и это – едва ли не единственное оставшееся чудо» [1]. Появление ведьмы – дочери пана предваряется словами Философа о тайной ды- ре, с помощью которой человек, осмелившийся заглянуть «в самое сердце земли», опалит там свои очи. И после упоминания о ведьме послышится вой волков. Олицетворением мира темных сил и становится Панночка, чья неземная красота заставила Философа, впервые увидевшего ее, сказать о ее непричастности к миру людей: «Не от людей такая красота. Аж душу свело» (с. 231).
Присутствие Панночки в мире земном стирает резкую границу между двумя пространствами, если еще учесть рассказанные истории, случившиеся с псарем Никитой и Шепчихой в первой картине, а еще полет Философа во второй картине «Скачки», где Панночка в облике Старухи втягивает его в другой мир – ночной, таинственный, наполненный звуками земного мира. Они исходят с неба, из воды, с земли, кружат в воздухе: лепеты, шепоты, звоны, смехи, чиханье, плеск. Все в этом пространстве «живое»: и земля, и голоса, «зовущие и дразнящие», способные вытянуть душу и разорвать сердце Философу. Как в повести «Вий», где Хома чувствует наслаждение от этого таинственного мира, так и в пьесе Н. Садур Философ высказывает умиление, полное согласие с этим миром, смеется «без всякой разумной причины». Правда, вместе с радостью, Философ чувствует боль, тошноту, потому что он здесь человек из дневного мира.
Потустороннее пространство притягательно, но схождение в него вытягивает душу Философа, потому что «не можно вынести этой сладости православному человеку» (с. 235) . Вернувшись в светлый мир людей («Люди днем») Философ пока еще живет по законам мира реального: заигрывает с Хвеськой, разговаривает с казаками о свиньях, горилке и колбасе, отвлекаясь от всего, что с ним произошло ночью. С известием о смерти Панночки снова в уютное пространство казаков врываются потусторонние силы, резко меняющие атмосферу. Непринужденное веселье сменяется испугом Хвеськи («Ой, лишечко!»), смятением казаков, страхом Философа («Отпустите меня!») . Пространство темных сил вновь напоминает о себе через звуки (визг свиней), через воспоминания о страшных случаях (история Шепчихи). Оно продолжает притягивать Философа, и уже вступивший в него и ощутивший его сладость, он оказывается в церкви. Сцены в церкви полностью написаны автором пьесы.
Церковь тоже подчеркивает присутствие темных сил в мире живых: («Видно, как заброшена церковь, как глухо и мрачно в ней» (с. 245); «…А там, возле церкви сам черт ногу сломит» (с. 255) . В центре церковного пространства находится черный гроб, в котором лежит Панночка. В ремарке это пространство подчеркнуто темное: «Посредине черный гроб. Потемневший иконостас, почти без позолоты. Темные лики святых. Перед темными образами свечи» (с. 245). Вступивший в обиталище темных сил Философ как житель земного мира пытается им сопротивляться, но «сам того не понимая», подходит ближе к гробу, заглядывает в него, смотрит в лицо Панночки.
Если у Гоголя панночка-ведьма – только часть той силы, которая сгубила Хому, и умирает он от взгляда на Вия, то в пьесе Н. Садур Философ, которого тоже смутила красота Панночки, погибает в поединке с ней. Жуткое пространство церкви начинает оживать вместе с мертвой Панночкой, гроб срывается с места, свист, визг, крик заполняют все пространство, образуя хаос. После этого в картине «С живыми» Философ предстает совершенно другим человеком.
Теперь пространству живых людей он почти не принадлежит и жизнь постепенно из него уходит: «Сам не пойму, какая слабость пронзила все мои жилы и кости. Дрянь я стал совсем» (с. 250). Однако ему удается на какой-то миг вернуться к жизни, в этом ему помогает Хвеська. Она заводит разговор о женитьбе, и мотив ухаживания и решения героя жениться перед второй ночью отличает пьесу от повести «Вий». Тем самым в пьесе подчеркивается оппозиция двух миров: если Панночка представляется Философу символом смерти, то Хвеська отгораживает его от нее и мира мертвых возможностью спастись и быть живым. Но с воем волков вновь врываются темные силы в мирное пространство, и смена миров происходит во время пляски Философа.
Свое разрешение конфликт находит в пространстве мира потустороннего. Картина пятая «Бой» является кульминацией и одновременно развязкой. В борьбе Философа и Панночки, пытающихся друг друга уничтожить, также видится отличие от гоголевской повести: в пьесе Н. Садур нет Вия, поэтому у нее другое название. Конфликт разрешается тем, что оба погибают: Философ как заслонивший мир света от мира мрака уходит в преисподнюю вместе с Панночкой («медленно оседают вниз») и вместе с ними рушится церковь, ставшая средоточием темных сил на земле, «обветшалая и оскверненная». В развязке появляется икона Богоматери с Младенцем, которой не было у Гоголя.
Уже после второй ночи в церкви становится очевидным, что Философ не жилец в мире людей. Это понимают все, в том числе и он сам. Ночь страшно изменила его: он стал седым, затвердевшим или, по выражению Спирида, «обмерзлым», говорит совершенно чуждым для живого человека языком. И голоса этого мира, живые и радостные, звучат одновременно со стоном, который рождает у Философа важный для пьесы вопрос: «Что нужно сделать, чтоб одни только радостные голоса остались на всей земле и не пугались бы этого стона, который идет аж из сердца земли и скоро уже наверное расколет землю на кусочки?» (с. 259).
На этот вопрос Философ не отвечает и не может ответить днем, потому что только ночью в церкви, оказавшись на границе между жизнью и смертью, он приближается к «самому сердцу земли». Последний монолог героя перед уходом в третью ночь показывает готовность принести себя в жертву ради сохранения мира живых. Принимая мудрость Господа, Философ согласен, что именно он, «самый никчемный человек», должен быть брошен во «мрак разъяренный», чтобы закрыть собою «черную дыру».
Обнаружится, что только причастность пространству темного мира и зов из «сердца земли» позволят Философу задать этот вопрос и найти на него ответ: чтобы уничтожить «мрак гнойный и мерзость смердящую», он должен «заткнуть проклятую бесовскую рану», поскольку выбор Божий пал на него. Как затем произойдет и в пьесе «Брат Чичиков», герой Н. Садур, только перемещаясь из одного мира в другой, способен осознать свою выделенность из мира людей и выпадение из него. А значит, постепенно приходит к обретению понимания мира - его устройства и его несовершенства. Появление иконы Божьей матери приближает философа к спасителю, как считает Н. И. Фадеева-Ищук [1]. И как в подтверждение этому в пространстве людей православного мира «один только Лик
Младенца сияет почти нестерпимым радостным светом и возносится над обломками» (с. 270) .
Финал пьесы может быть рассмотрен как катарсис, потому что своей жизнью Философ смог «заткнуть черную дыру», из которой «в наш божий мир», «наш светлый милый мир» проник мрак как «нелюдское низкое явление». Чтобы провести последнюю ночь с Панночкой, Хому в повести Гоголя ведут чуть ли не под конвоем, а в пьесе Философ добровольно идет, соглашаясь отдать свою жизнь за свет и добро в мире людей. Позднее в пьесе «Брат Чичиков» гоголевского героя тоже искушает женщина – Незнакомка, не то Панночка, не то Утопленница. Но и благодаря ей, живой в отличие от окружающих мертвецов, муляжей, свиных рыл, «братец» Чичиков идет на бунт – рвет купчие списки, становится личностью поистине героической и примет смерть. Заканчивается новая версия «Мертвых душ» уходом из мира мертвых, возвращением к началу, к новому рождению Чичикова-младенца, который обращается к Матушке-земле: «Матушка, когда я рожусь?». Этот вопрос звучит в контексте пьесы так: «Теперь я могу найти выход и дорогу в настоящий и живой мир?»
Таким образом, трансформация гоголевского сюжета и конфликта в пьесе «Панночка» Н. Садур может быть объяснена авторской организацией художественного пространства, продиктованной концепцией героя. В осознании Философом себя как героя в пограничной ситуации – между жизнью и смертью видится переосмысление классического сюжета и художественного пространства. Столкновение двух разных миров, одинаково несовершенных, нецелостных, заставляет драматурга поставить вопрос познания современным человеком «самого сердца земли», обретения главного знания о мире и о себе. И это состояние соответствует переходному времени, когда и была написана пьеса «Панночка», – времени активного поиска подлинной самоидентичности человека, решению вопросов глубоко актуальных – и вечных.
Список литературы Особенности художественного пространства в пьесе Н. Садур «Панночка»
- Ищук-Фадеева Н. И. "Все/все" как знак целостности в повести Н. Гоголя "Вий" и пьесе Н. Садур "Панночка" [Электронный ресурс]. URL: http://domgogolya.ru/ science/researches/1537/ (дата обращения: 23.09.2020).
- Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя // Ю. М. Лотман. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь: кн. для учителя. М.: Просвещение, 1988. 352 с.
- Садур Н. Н. Панночка // Н. Н. Садур Обморок. Вологда, 1999. С. 225-270.
- Семеницкая О. В. Поэтика сюжета в драматургии Н. Садур: автореф. дис. … канд. филол. наук. Самара, 2007. 21 с.
- Цыпуштанова М. А. Пьеса Н. Садур "Брат Чичиков": опыт диалога с классикой // Вестник Удмурт. гос. ун-та. 2008. Вып. 3. С. 193-200.