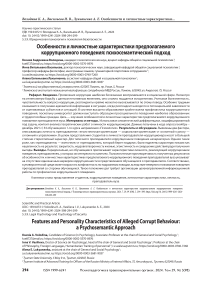Особенности и личностные характеристики предполагаемого коррупционного поведения: психосемантический подход
Автор: Володина К.А., Васильева И.В., Лукьяненко А.Е.
Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd
Рубрика: Психология правонарушающего поведения
Статья в выпуске: 3 (98), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. Проявления коррупции наиболее болезненно воспринимаются в социальной сфере. Несмотря на интенсивную борьбу с данным негативным явлением, оно сложно поддается искоренению. Учитывая болезненность, чувствительность вопроса коррупции, респонденты крайне неохотно высказываются по этому поводу. Особенно трудным оказывается получение адекватной информации в ситуации, когда респондент находится в потенциальной зависимости от оцениваемых субъектов и ситуаций. В системе высшего образования крайне важна профилактика коррупционного поведения, поскольку университет должен выступать образцом просоциального поведения наиболее образованных и трудоспособных граждан. Цель - изучение особенностей и личностных характеристик предполагаемого коррупционного поведения преподавателя вуза.
Представления студентов, коррупционное поведение, личностные характеристики, личность, преподаватель вуза
Короткий адрес: https://sciup.org/149146191
IDR: 149146191 | УДК: 159.9.072 | DOI: 10.24412/1999-6241-2024-398-294-299
Текст научной статьи Особенности и личностные характеристики предполагаемого коррупционного поведения: психосемантический подход
Ksenia А. Volodina, Candidate of Science (in Psychology), Associate-Professor at the chair of General and Social Psychology 1; ;
Inna V. Vasilieva, Doctor of Science (in Psychology), head of the chair of General and Social Psychology 1; Professor at the chair of Philosophy, Foreign Languages, Humanitarian Training of personnel 2; ; Аlena Е. Lukyanenko, assistant at the chair of General and Social Psychology 1;
;
Актуальность, значимость и сущность проблемы. В ХХI в. коррупция остается социальной проблемой общества, несмотря на обсуждение законов против коррупции, введение новых мер борьбы и профилактики как на местном, так и на государственном уровнях [1]. В августе 2021 г. был утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 гг. 1 Согласно этому документу все образовательные организации высшего образования обязаны проводить мероприятия, направленные на предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений. Понятие «коррупция» определяется нами с опорой на правовые документы как «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами» 2.
Представления обучающихся о личности преподавателя, который потенциально может реализовать коррупционное поведение, отражаются в представлениях о ситуациях, действиях, направленных на получение выгоды и (или) преимуществ в обход формальных процедур в системе высшего образования. В ходе исследования представлений обучающихся об особенностях и личностных характеристиках преподавателей вуза оцениваются комплексы представлений, складывающиеся в стереотипы и установки по отношению к ситуации коррупционного взаимодействия, которые распространены в информационном поле обучающихся. В си- стеме высшего образования крайне важна профилактика коррупционного поведения, поскольку университет должен выступать образцом просоциального поведения наиболее образованных и трудоспособных граждан [2]. Результаты настоящего исследования могут послужить основанием для создания программы по профилактике коррупционного поведения в системе высшего образования.
Цель — изучение особенностей и личностных характеристик предполагаемого коррупционного поведения преподавателя вуза методами психосемантики.
Теоретические предпосылки и изученность проблемы. Высшее учебное заведение как социальный институт является важным этапом социализации в юношеский период [3]. Формальные и неформальные сообщества в вузе формируют социальные представления, транслируют нормы, традиции, правила поведения [4; 5]. Концепция социальных представлений С. Московичи указывает на то, что для составления полной картины мира и построения на ее основе эффективной коммуникации человек создает конструкты, категории, на которые он мог бы опираться в изменяющихся условиях мира и которые, таким образом, способствовали бы его психологической устойчивости [6]. Эти конструкты формируют социальную норму, выполняющую регулирующую функцию, настраивая студента определенным образом воспринимать и действовать по отношению к конкретному объекту или ситуации. Так, социальные нормы могут регулировать поведение студентов в момент встречи с коррупцией «лицом к лицу» [7; 8]. Отношение микросоциума (семьи, друзей, однокурсников) и макросоциума (преподавателей, руководства вуза) к проявляемому коррупционному поведению также служит сигналом для студента к формированию собственного социального представления, построению собственного отношения и поведения в таких ситуациях. Если в вузе коррупция — приемлемый способ решения трудностей, то коррупционное поведение может быть принято обучающимися в качестве социальной нормы [9; 10], так как «правовые нормы осознаются как общественно и личностно-необходимые, внутренне принимаются некритично и в результате очень быстро становятся убеждениями» [11]. Молодые люди не обладают достаточным жизненным опытом, на который они могли бы опереться для адекватной квалификации ситуации, распознания ее как коррупциогенной [12].
Проявления коррупции наиболее болезненно воспринимаются в социальной сфере: медицине, образовании, социальной помощи, обеспечении общественной безопасности [8; 13; 14]. В связи с болезненностью, чувствительностью вопроса коррупции респонденты крайне неохотно высказываются по этому поводу. Особенно трудно получить адекватную информацию в ситуации, когда респондент находится в потенциальной зависимости от оцениваемых субъектов и ситуаций. Прямой вопрос относительно опыта участия в коррупционных ситуациях невозможен, поскольку положительный ответ угрожает репутации самого респондента. Прямой вопрос также не дает адекватных результатов в случае, когда испытуемый вытесняет, скрывает информацию о ситуациях, связанных с коррупционным поведением людей, от которых напрямую зависит его благо- получие [15]. Возникает необходимость снижения эффекта социальной желательности при организации исследования коррупции. Это может быть реализовано посредством использования методов психосемантики, основанных на идее о том, что вербализуемые представления о социальной реальности отражают саму реальность [16].
Так, в исследовании T. K. Agbota, I. Sandaker, G. Ree, был изучен язык коррупции, а именно метафоры, позволяющие проходить коррупционному поведению «незаметно» относительно закона. «Язык коррупции» обеспечивает коррупционное поведение, потому что он не оскорбляет и не смущает, он «узаконивает» коррумпированное поведение и делает его приемлемым [17]. Таким образом, было показано, что особенности поведения (в данном случае коррупционного) отражаются в языке, а значит, могут быть зафиксированы и стать диагностическими маркерами.
Материалы и методы
Выборка. В исследовании приняли участие 54 девушки, обучающиеся первого курса в возрасте от 17 до 19 лет. Участие испытуемых в исследовании было анонимным, добровольным и не финансировалось. Сбор данных реализован посредством заполнения документа в Microsoft Exсel, размещенного на Google-диске. Участники исследования были проинформированы, что данные будут представлены в обобщенной форме. Конфиденциальность участникам гарантировалась. Сбор данных проводился в ноябре–декабре 2021 г. Студенты первого курса, находящиеся в самом начале обучения, могут продемонстрировать те представления, с которыми они пришли в вуз, не подвергшись еще в полной мере влиянию вузовской среды. Сроки проведения исследования — первый семестр первого курса обучения, т. е. до начала первой сессии, поэтому предполагается, что студенты объективно не попадали в ситуации коррупционного давления.
Методы. Исследование базировалось на следующих теоретических подходах: номотетическом (поиск закономерностей, характерных для изучаемой группы респондентов), когнитивном (исследование представлений), психосемантическом (изучение смыслов, отражающихся в представлениях). Подробнее рассмотрим этапы проведения исследования.
На первом этапе посредством теоретического анализа работ, посвященных исследованию коррупционного поведения, были выделены качества личности коррупционера. С помощью контент-анализа такие качества были объединены в характеристики, описывающие особенности и личностные качества преподавателя вуза, демонстрирующего коррупционное поведение. Данные характеристики были оценены экспертами, изучающими психологические особенности проявления коррупционного поведения. После экспертной оценки был составлен набор характеристик, которые рассматривались как дескрипторы: властный, безвольный, прагматичный, нерациональный, действует ради получения выгоды, действует ради идеи, нацеленный на результат, нацеленный на процесс, свободный, обязанный, правонарушитель, законопослушный, неудовлетворенный жизнью, довольный жизнью, импульсивный, сдержанный, безнравственный, совестливый, наглый, скромный, цинич- ный, моралист, эгоистичный, альтруистичный, инициативный, пассивный, азартный, безразличный, склонный к риску, осторожный, справедливый, пристрастный, добрый, злой, закрытый, открытый, берет ответственность на себя, перекладывает ответственность на других.
На первом этапе экспертами были отобраны ролевые позиции в университете, которые далее рассматривались как объекты оценивания. В ходе их отбора мы опирались на представление о том, с кем реально могли бы взаимодействовать обучающиеся первого курса и в отношениях с кем они могли бы ожидать проявления коррупционного поведения.
Были выбраны роли представителей профессорско-преподавательского состава: преподаватель-взяточник; преподаватель, который берет подарки; преподаватель, который принципиально не берет взятки; типичный преподаватель; современный преподаватель; преподаватель, у которого интересно на занятиях; преподаватель профильных дисциплин; преподаватель электива (дисциплины по выбору); преподаватель физической культуры; руководитель практики; заведующий кафедрой; директор института. Важно отметить, что в отношении тех ролей, с которыми студент реально взаимодействовал, он мог представлять конкретного преподавателя, в отношении тех ролей, которые студенту не встречались (например, преподаватель-взяточник), это мог быть воображаемый субъект.
Все перечисленные выше характеристики (дескрипторы) и ролевые позиции (объекты) были внесены в анкету, составленную по принципу семантического дифференциала. Семантический дифференциал — это методика, позволяющая получать оценочное, субъективное отношение человека к реальному или воображаемому объекту, явлению, другому человеку. Для этого необходимо предложенные признаки (дескрипторы) ассоциировать с оцениваемыми объектами. В данном случае — с ролевыми позициями вузовских сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава. Семантический дифференциал — принципиаль- но модифицируемая под задачи исследования методика. Модификация процедуры семантического дифференциала связана с выбором оцениваемых объектов и дескрипторов [18]. Обращение к семантическому дифференциалу в нашем исследовании оправдано тем, что мы стремимся выявить эмоциональное отношение, стереотипы, соци- альную категоризацию, имплицитные теории личности испытуемых по отношению к коррупционному поведению преподавателей в университете [19]. Психосемантический подход позволяет выявить бессознательные ассоциативные связи между объектами. Тем самым нивелируются социально желательные ответы и снижается тревожность по отношению к социально чувствительной теме у участников исследования.
На втором этапе исследования студентам 1-го курса была предложена анкета для соотнесения личностных характеристик по 6-балльной шкале с учетом предложенных объектов (преподаватели разных направлений; руководитель практики; заведующий кафедрой; директор института). Для примера в табл. 1 продемонстрировано проведенное соотнесение объекта: «преподаватель-взяточник» и характеристики личности.
На третьем этапе посредством факторного экспло-раторного анализа в программе Statistica StatSoft (v. 8) проведен анализ полученных данных, в результате чего были выявлены два значимых фактора, описывающих представления о личностных характеристиках преподавателей вуза, потенциально реализующих коррупционное поведение.
Результаты и обсуждение
Полученные факторы в совокупности охватывают 87,6% объяснительной нагрузки, что достаточно для адекватной интерпретации факторной модели (табл. 2, 3).
Первый фактор (78%) включает в себя характеристики: нацеленный на результат, закрытый и инициативный, добрый, данный фактор условно можно назвать «эгоистическая ориентация — социальная ориентация» (табл. 2).
Таблица 1. Пример заполненной анкеты по одному из исследуемых объектов (Table 1. Example of a completed questionnaire for one of the surveyed objects )
|
Минимальный балл 1 |
Преподаватель-взяточник |
Максимальный балл 7 |
|
Властный |
6 |
Безвольный |
|
Прагматичный |
5 |
Нерациональный |
|
Действует ради получения выгоды |
1 |
Действует ради идеи |
|
Нацеленный на результат |
3 |
Нацеленный на процесс |
|
Свободный |
3 |
Обязанный |
|
Правонарушитель |
2 |
Законопослушный |
|
Неудовлетворенный жизнью |
1 |
Довольный жизнью |
|
Импульсивный |
2 |
Сдержанный |
|
Безнравственный |
3 |
Совестливый |
|
Наглый |
4 |
Скромный |
|
Циничный |
5 |
Моралист |
|
Эгоистичный |
2 |
Альтруистичный |
|
Инициативный |
4 |
Пассивный |
|
Азартный |
1 |
Безразличный |
|
Склонный к риску |
1 |
Осторожный |
|
Справедливый |
5 |
Пристрастный |
|
Добрый |
4 |
Злой |
|
Закрытый |
1 |
Открытый |
|
Берет ответственность на себя |
3 |
Перекладывает ответственность на других |
Таблица 2. Фактор 1 «эгоистическая ориентация — социальная ориентация»
(Table 2. Factor 1 «Egoistic orientation – Social orientation»)
|
Дескрипторы |
Фактор 1 |
Объекты |
Фактор 1 |
|
Нацеленный на результат |
0,95 |
Преподаватель-взяточник |
2,68 |
|
Закрытый |
0,94 |
Преподаватель, который берет подарки |
1,09 |
|
Неудовлетворенный жизнью |
0,89 |
— |
— |
|
Эгоистичный |
0,82 |
||
|
Действует ради получения выгоды |
0,80 |
||
|
Прагматичный |
–0,84 |
||
|
Берет ответственность на себя |
–0,86 |
||
|
Добрый |
–0,95 |
Преподаватель, у которого интересно на занятиях |
–0,86 |
|
Инициативный |
–0,98 |
Преподаватель профильных дисциплин |
–0,94 |
Ролевые позиции «преподаватель-взяточник» и «преподаватель, который берет подарки» были наделены такими характеристиками, как нацеленность на результат, закрытость, неудовлетворенность жизнью, эгоистичность и совершение действий ради получения выгоды. Данные характеристики в представлениях обучающихся, скорее, соответствуют стереотипному мнению и не дают конкретных и точных отсылок к сфере высшего образования. Содержание этих личностных характеристик может быть проинтерпретировано как ориентация таких ролей преподавателя на собственную выгоду.
В таблице 2 показано, что на противоположном полюсе первого фактора расположены ролевые позиции «преподаватель, у которого интересно на занятиях» и «преподаватель профильных дисциплин». Им студенты приписывают качества, отражающие просоциальное поведение: инициативность, доброту, прагматичность и готовность брать ответственность на себя за других людей. В данном случае в представлениях студентов был выстроен образ преподавателя, скорее всего, они с ним знакомы (так как указано, что профильные дисциплины, а не элективные курсы), и указанные характеристики говорят больше об ответственности, добропорядочности, а не о склонности к коррупционному поведению.
Второй фактор (описывает 9,6% данных) отражает характеристики личности преподавателя: склонный к риску, азартный и властный, справедливый. Этот фактор условно можно назвать «склонный к риску — склонный к управлению» (табл. 3).
Таблица 3. Фактор 2 «склонный к риску — склонный к управлению»
(Table 3. Factor 2 «Prone to risk — Prone to control» )
|
Дескрипторы |
Фактор 2 |
Объекты |
Фактор 2 |
|
Склонный к риску |
0,86 |
Преподаватель, у которого интересно на занятиях |
2,01 |
|
Азартный |
0,82 |
— |
— |
|
Справедливый |
–0,63 |
Типичный преподаватель |
–1,21 |
|
Властный |
–0,65 |
Преподаватель, который принципиально не берет взятки |
–1,55 |
Таблица 3 показывает, что отрицательный полюс второго фактора описывается такими ролевыми позициями, как «преподаватель, который принципиально не берет взятки» и «типичный преподаватель», положительный полюс — «преподаватель, у которого интересно на занятиях».
«Преподаватель, который принципиально не берет взятки» и «типичный преподаватель», согласно представлениям студентов, справедливый и властный, что точно может отражаться в их представлении как проявление антикоррупционной устойчивости. Таким образом, первокурсники считают, что в вузе типичному преподавателю несвойственно брать взятки.
Противопоставление ролевой позиции «преподаватель, у которого интересно на занятиях» в данном факторе, вероятно, только косвенно может говорить о том, что студенты приписывают преподавателю наличие коррупционных намерений. Мы предполагаем, что «интересность» занятий достигается нетривиальными формами подачи материала, стратегиями поведения, отличными от «типичных» для среднестатистического преподавателя. Соответственно, студенты могут предполагать, что преподаватель, выходящий за рамки типичного, привычного поведения, может быть склонен и к коррупционному поведению. Однако полученный результат может свидетельствовать только о готовности преподавателя предлагать нестандартные решения, что в представлениях студентов ассоциируется со склонностью к риску и азартностью.
Таким образом, результаты факторного анализа позволили выделить ролевые позиции и характеристики, на основании которых были описаны представления студентов-первокурсников об особенностях и личностных качествах преподавателя вуза, потенциально способного на коррупционное поведение.
Выводы
-
1. Интерес к изучению коррупционного поведения или склонности к данному поведению с психологической точки зрения повышается в последние годы. Для сферы высшего образования важно выявить, какие паттерны поведения, характеристики личности преподавателя в представлениях студентов расцениваются как коррупциогенные. Эти представления могут влиять на поведение обучающихся, оказавшихся в ситуации, недостаточно ясной для них, потенциально истолкованной как коррупционное давление. Предложенный метод исследования характеристик личности, реализующей коррупционное поведение, основанный на семантическом дифференциале, позволяет выявить представления обучающихся через описания соотношений ролевых позиций и характеристик личности в контексте коррупционных отношений «преподаватель — студент». Важно отметить, что в рамках настоящего исследования не изучалось собственно коррупционное поведение людей, реально его продемонстрировавших, а оценивались представления тех, кто потенциально может оказаться в условиях коррупционного давления.
-
2. Данные представления носят в большей степени стереотипный характер и не связаны с реальным опытом студентов. В качестве ограничения исследования необходимо отметить специфику выборки по направлению
обучения. В исследовании принимали участие только обучающиеся бакалавриата — направления «Психология», что могло повлиять на результаты исследования, поскольку их целенаправленно обучают самоанализу.
Область применения и перспективы. Выводы настоящего исследования могут быть интересны в организации работы отделов по молодежной политике вузов и проректоров по воспитательной работе в части профилактики конфликтного и коррупционного поведения субъектов образовательного процесса. Результаты могут стать основой для работы с предубеждениями, «обвинительным уклоном» в отношении разных субъектов образовательного процесса в образовательных учреждениях высшего образования.
Полученные результаты являются основанием для дальнейшего изучения представлений у обучающихся вузов о коррупциогенных особенностях личности преподавателя.
Полагаем, что данная работа показала адекватность использования исследовательского подхода, что позволяет на следующих этапах увеличить количество участников, соблюсти гетерогенность респондентов по полу, сравнить представителей разных курсов и направлений обучения. В дальнейшем возможно добавить в качестве объектов оценивания преподавателей разных полов, что позволит выявить, преподавателю какого пола обучающиеся приписывают большую склонность к коррупционному поведению.
Список литературы Особенности и личностные характеристики предполагаемого коррупционного поведения: психосемантический подход
- Byulegenova B., Prasolov V., Sheryazdanova G., Bratanovsky S., Sabirova L. Nepotism in Post-Soviet States: The Quantitative Assessment on Socio-Demographic Factors and the Corruption Perceptions Index. Journal of Ethnic and Cultural Studies. 2024. No. 11(1). Рр. 96-118. https://doi.org/10.29333/ejecs/1814.
- Cernat V. Organizational corruption, test score manipulation, and teacher hiring in Romania. International Journal of Educational Development. 2024. Vol. 105. Рр. 102-120. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev. 2024.
- Беляев А. Корпоративная культура университета: от теории к практике // Высшее образование в России. 2007. № 11. С. 65-71.
- Нестеренко Е. С. Теоретические основы становления социальных институтов // Теоретическая экономика. 2021. № 76(4). С. 27-37.
- Куров С. В. Право и этические нормы в высшем образовании // Право и образование. 2015. № 11. С. 4-14.
- Московичи С. От коллективных представлений к социальным (к истории одного понятия) // Вопросы социологии. 1992. № 1(2). С. 83-95.
- Нурмухаметов Э. А., Нурмухаметова И. Ф., Политика О. И. Истоки коррупционного поведения: психологический аспект // Психология и право. 2019. № 9(4). С. 49-58. https://doi.org/10.17759/psylaw.2019090404.
- Zazar K., Roth S. Political and economic instrumentalisation of science: Towards an extended concept of corruption. Systems Research and Behavioral Science. 2024. No. 1-11. https://doi.org/10.1002/sres.3001.
- Wu Y., Zhu J. When Are People Unhappy? Corruption Experience, Environment, and Life Satisfaction in Mainland China. Journal of Happiness Studies. 2016. No. 17. Pр. 1125-1147.
- Бондаренко Г. И., Берсиров Т. Б., Продиблох Н. Е. Вуз как институциональный агент формирования правосознания // Теория и практика общественного развития. 2018. № 3. С. 8-14.
- Чернышева Е. В. Правосознание в детерминации коррупционного поведения // Психология и право. 2021. Т. 11, № 2. С. 120-131.
- Пинчук А. Н., Тихомиров Д. А. Образ коррупционера в восприятии российской молодежи: применение метода неоконченных предложений // Вестник Института социологии. 2019. № 2. С. 12-27.
- Wysmulek I. Corruption in the public schools of Europe: A cross-national multilevel analysis of education system characteristics. International Journal of Comparative Sociology. 2024. No. 65(1). Рр. 10-38. https://doi.org/10.1177/00207152221096841.
- Simicevic V. Doctor bribes: Romania finds rare success among persisting healthcare corruption across Europe. BMJ. 2024. 384:q307. https://doi.org/10.1136/bmj.q307.
- Anyan F., Andoh-Arthur J., Adjei S. B., Akotia C. S. Mental health problems, interpersonal trust, and socio-cultural correlates of corruption perception in Ghana. Frontiers in Public Health. 2024. No 12. Рр. 126-138. https://doi.org/ 10.3389/fpubh.2024.
- Васильева И. В. Контекстно-зависимый подход как способ преодоления проблем современной психодиагностики // Образование и наука. 2011. № 5. С. 72-83.
- Agbota T. K., Sandaker I., Ree G. Verbal Operants of Corruption: A Study of Avoidance in Corruption Behavior. Behavior and Social. 2015. No. 24. Pр. 141-163.
- Захарова И. В., Стрюкова Г. А. Семантический дифференциал как метод диагностики восприятия учащимися педагога // Психологическая наука и образование. 1999. № 3-4. С. 30-35.
- Петренко В. Ф. Основы психосемантики. СПб., 2005. 320 с.