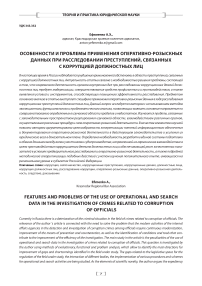Особенности и проблемы применения оперативно-розыскных данных при расследовании преступлений, связанных с коррупцией должностных лиц
Автор: Ефименко А.Э.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 4 (57), 2019 года.
Бесплатный доступ
В настоящее время в России наблюдается ухудшение криминогенной обстановки в области преступлений, связанных с коррупцией должностных лиц. Актуальность статьи связана с необходимостью решения проблемы, состоящей в том, что современная деятельность органов внутренних дел при расследовании коррупционных деяний должностных лиц требует модернизации, совершенствования средств профилактики и противодействия, а также выявления условий и инструментов, способствующих повышению эффективности расследования. Предметом основного анализа в статье выступает специфика применения оперативно-розыскных данных в ходе расследования коррупционных преступлений должностных лиц. Данный вопрос исследуется автором с использованием методов эволюционного, функционального и проблематического анализа, позволяющих выявить основные направления по совершенствованию определенных в изучаемой области пробелов и недостатков. Изучаются пробелы, связанные с законодательным пространством регулирования изучаемой области, взаимодействием различных органов, осуществлением различных процедур и схем оперативно-розыскной деятельности. В качестве элементов научной новизны автором аргументирована целесообразность конкретизации понятий информационного обеспечения и документирования оперативно-розыскной деятельности в действующем законодательстве и усиления их юридического веса в доказательном плане. Определена необходимость разработки единой системы подготовки и обмена данными между всеми участниками судопроизводства, направленной на гармоничное взаимодействие в целях противодействия коррупционным деяниям должностных лиц и обеспечивающей рост качественных показателей в условиях предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельности, а также подробной методической алгоритмизации подобных действий с учетом изучения положительного опыта, имеющегося на региональном уровне в субъектах Российской Федерации.
Коррупция, взяточничество, коррупционные преступления, коррупционные деяния, должностные лица, коррупция должностных лиц, расследование коррупции, оперативно-розыскные данные, оперативно-розыскная деятельность, следствие, доказывание
Короткий адрес: https://sciup.org/14120317
IDR: 14120317 | УДК: 343.352
Текст научной статьи Особенности и проблемы применения оперативно-розыскных данных при расследовании преступлений, связанных с коррупцией должностных лиц
В России в последние годы ведется активная и целенаправленная борьба с коррупционными преступлениями, демонстрирующая особую остроту в сфере государственного управления и деятельности должностных лиц. Однако ее результаты пока нельзя признать удовлетворительными. Эффективная реализация данного направления деятельности крайне осложнена в текущих условиях тем обстоятельством, что должностные лица – коррупционеры демонстрируют значительную вариативность применяемых ими средств ухода от ответственности (как в качественном, так и количественном измерении), что значительно снижает результативность мер противодействия и применяемых средств в целях профилактики и пресечения данного негативного явления.
О достоверности приведенных выше тезисов свидетельствуют актуальные статистические данные, представленные Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом России, согласно которым по состоянию на 2018 год [18] число случаев взяточничества в стране в целом выросло на 10%, по сравнению с аналогичными показателями 2017 года. И хотя за последние 5 лет число направленных в суды коррупционных дел возросло в 1,5 раза, что, на первый взгляд, может быть оценено как положительный показатель, однако при этом нанесенный коррупционерами ущерб также продемонстрировал положительную динамику в 5 раз, как и средний размер взятки, что свидетельствует о явной недостаточности предпринимаемых мер.
Больше всего случаев взяточничества среди должностных лиц на конец 2018 года было выявлено в Москве и Московской, а также Ростовской областях. В 1,1 раза возросло и число выявленных случаев дачи взятки, выявленных за тот же отчетный период. Лидерами в данном случае выступают такие регионы, как Москва и Подмосковье, Краснодарский край.
Согласно данным официальной статистики, чаще других под подозрение в коррупционных преступлениях в 2018 году попадали сотрудники, занимающие различные должности в органах внутренних дел, местном самоуправлении, работающие на военной службе [18]. Также фигурантами дел о коррупции становились должностные лица, осуществляющие деятельность в Министерстве юстиции России, Министерстве образования, в сфере охраны здоровья. [18] В то же время в разрезе анализируемых статистических данных нельзя не отметить еще один важный показатель. Как показывают данные российских исследователей [8, 10], за последние 10 лет из числа должностных лиц, осужденных за получение взятки, к реальным срокам было приговорено не более 30% фигурантов, несмотря на значительное число случаев коррупции и объема следственных мероприятий. Как правило, результатами ведения данных уголовных дел чаще всего является приостановление или продолжительное производство ввиду недостаточности доказательной базы [16, c.3]. Таким образом, с учетом того факта, что даже официальные статистические данные в исследуемой области демонстрируют выраженную негативную тенденцию, а также принимая во внимание то, что большое число преступных деяний остаются не выявленными или не доказанными, а субъекты их совершения не несут уголовного наказания и других мер ответственности, криминогенную обстановку в сфере борьбы с коррупцией в текущих отечественных условиях следует признать по-прежнему напряженной и ухудшающейся.
Как свидетельствуют исследования специалистов последних лет [7, 8, 11], традиционно применяемые криминалистические приемы и организационные формы борьбы с должностной коррупцией уже не приводят к необходимым результатам, что требует их обновления, актуализируя важность совершенствования средств профилактики и противодействия, а также выявления условий и инструментов, способствующих повышению эффективности расследования таких деяний. Данные обоснования определили постановку проблемы исследования в настоящей статье, а также ее актуальность .
С учетом, что мы имеем дело с достаточно комплексной и многоаспектной темой исследования, предметом основного изучения в настоящей статье выступает специфика применения оперативно-розыскных данных при расследовании коррупционных преступлений должностных лиц. Данный вопрос, с методологических позиций, исследуется автором в эволюционном, функциональном и проблематиче- ском ракурсах анализа, позволяющих в совокупности выявить основные направления по совершенствованию систематизированных в изучаемой области пробелов и недостатков.
Одним из ключевых средств в деятельности органов внутренних дел, направленным на противодействие коррупции в должностной сфере, как показывает отечественная практика последних десятилетий, выступает применение результатов оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД) при расследовании преступлений в едином комплексе с процессуальными средствами (выступающими в данном случае в качестве базисных)[16]. Апеллируя к результативности данного средства, А.А.Ларинков, в частности, указывает в качестве его достоинства «строгое соблюдение процедуры получения, документирования и представления таких результатов в органы расследования» [13, c.49]. Однако надо подчеркнуть, что в то же время именно в данной процедуре и ее содержании (точнее отсутствия ее детального представления и пошаговой конкретизации), определяющих ее организационно-правовых основах, частых нарушениях на практике, в отличие от декларативной теории, кроются многие недостатки и сложности применения подобных данных в качестве инструментария.
Как известно, все оперативно-розыскные мероприятия предусматривают документирование противоправных коррупционных преступлений в рамках выявления признаков их совершения и участвующих субъектов, а также получение оперативно-розыскной информации об обстоятельствах совершения. С учетом данных обстоятельств подобные данные представляют высокую ценность для следственных действий, выступая одним из важнейших и активно применяемых инструментов в ходе их осуществления. Однако на практике ситуация не столь однозначна.
Необходимо сделать отступление и отметить, что сложность и проблематичность использования оперативно-розыскных данных в исследуемой области в российских условиях во многом определена историческими причинами как организационного, так и законодательного плана, которые в ходе эволюции данных направлений были унаследованы текущей системой профилактики, пресечения и расследования коррупционных преступлений. В настоящее время еще большое число недостатков, на которых автор еще остановится далее в статье, напрямую коррелируют с неоднозначностью актуальных законодательных основ, регулирующих оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную сферу. Так, в частности, следует указать на фактически полное отсутствие легальной дефиниции механизма получения, документирования, представления и использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость разра- ботки значительного числа ведомственных актов, часто противоречащих базовому законодательству или дублирующих его, как и друг друга. Подобные обстоятельства формируют практику абсолютно различающейся на местах оперативно-розыскной, следственной и судебной деятельности, понижая ее конечную эффективность. [13]
Так, в настоящее время правовую основу использования оперативно-розыскных данных составляет достаточно широкий перечень законодательных актов как федерального, так и ведомственного характера, в частности, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», Приказ МВД России № 776, Приказ Министерства обороны России № 703, Приказ ФСБ России № 509, Приказ ФСО России № 507, Приказ СВР России № 42, Приказ ФСИН России № 535, Приказ ФСКН России № 398 и иные нормативные акты. Уже приведенный перечень документов свидетельствует, что применение оперативно-розыскных данных регулируется разветвленной системой актов, предполагающей необходимость гармонизации как их содержания, так и взаимодействия большого числа государственных органов и ведомств.
Апеллируя еще раз к историческому аспекту, нужно указать на тот факт, что до начала 2000-х годов в уголовно-процессуальном законодательстве нашей страны в целом отсутствовало понятие «результатов ОРД». Оно также не сформулировано сегодня и в рамках положений базового Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (далее Закон № 144-ФЗ) [2]. При этом норма того же законодательного акта, определяющая вопросы информационного обеспечения и документирования ОРД (ст.10), по мнению автора, носит крайне общий и размытый характер, не позволяющий установить как перечень подобных средств, так и алгоритм, необходимость, важность или приоритетность использования в составе другого инструментария, доказательный вес и юридическую силу этого средства. Не намного добавляет ясности и трактовка, приведенная в специализированном законодательстве – Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее УПК РФ) (ст.5) [1], где результаты ОРД определены с использованием понятия «сведения», однако его более расширенная трактовка при этом не приводится. Присутствует лишь апелляция к соответствию подобных сведений, как и процессу их получения, положениям Закона № 144-ФЗ [2]. Данное в содержании Определения от 20.02.2014 года № 286-О Конституционным судом РФ уточнение позволяет заключить, что результаты ОРД приобретают доказательную силу только по факту «закрепления их процессуальным способом, … на основе норм уголовно-процессу- ального закона путем производства следственных и иных процессуальных действий».[3] Подобные обстоятельства и неоднозначность трактовки основополагающих терминов во многом определяют проблематичность возбуждения уголовных дел по коррупционным деяниям должностных лиц и осуществления процедуры доказательства.
По мнению специалистов [7, 11, 12, 15], которое автор во многом разделяет, более широкое и исчерпывающее определение исследуемого понятия было в свое время представлено в утратившей юридическую силу «Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд» (1998) [4], где оно трактовалось через категорию «фактические данные». По мнению автора, в текущих условиях необходимо, чтобы указанный выше термин получил не только бóльшую конкретизацию, но и детализацию в разрезе различных источников с легитимацией их как результирующих источников доказательств. При этом крайне важно в четких легальных формулировках определить их юридический вес и уточнить различные возможности применения «в качестве основы, на которой в уголовном судопроизводстве могут быть сформированы доказательства» [15, c.255].
Пока же следователи демонстрируют достаточно осторожный подход к оперативно-розыскным данным, практически используемым в лучшем случае лишь на уровне косвенных доказательств. Их процессуальная проверка достаточно трудоемка в ресурсном плане (как в плане человеческих, так и временных ресурсов), что соответственно на практике снижает их приоритетность для органов следствия [14, c.7]. Между тем, как показывают исследования специалистов, применение в процессе доказывания оперативно-розыскных данных позволяет во многих случаях не только усилить доказательную базу, но и прогнозировать и решать важные тактические задачи в ходе следствия[12, c.26], что еще раз свидетельствует о важности их уравнивания в юридической силе с другими источниками доказательств, предусмотренным УПК РФ и базовым законом (Закон № 144-ФЗ). В особенности с учетом того, какую проблематичность в российских условиях представляет собой сегодня сбор доказательной базы по делам о коррупции должностных лиц, насколько при этом вариативны их способы ухода от ответственности и какой низкой остается раскрываемость подобных дел, а также назначения по ним реальных уголовных наказаний для фигурантов на фоне прогрессирующего роста числа преступлений в этом направлении.
Надо отметить, что негативно влияет на использование данных ОРД в ходе проведения следствия по коррупционных преступлениям и «отсут- ствие или низкое качество оперативной информации у должностных лиц, уполномоченных на осуществление ОРД, отсутствие регулярного предоставления значимой оперативной информации и ее дальнейшего применения в рамках следствия» [13].
Однако выделяются и другие причины, влияющие на сложности использования оперативно-розыскных данных в ходе следствия по коррупционным преступлениям должностных лиц. В частности, Генеральным прокурором Ю.Я.Чайкой в этой связи уже который год отмечаются такие негативные факторы, как «нарушение правил проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе вследствие незнания закона» [17]. Между тем, ошибки, допускаемые ответственными сотрудниками в ходе документации коррупционных преступных деяний должностных лиц, становятся причиной отказов в возбуждении уголовного дела, число которых, как уже отмечалось в статье ранее в рамках анализа актуальных статистических данных, к сожалению, по-прежнему достаточно велико.
Особые сложности применения оперативнорозыскных данных в ходе следствия обусловлены и распространенностью в их рамках схем с участием посредников, в том числе привлекаемых к сотрудничеству. Это не только значительно усложняет оперативно-розыскные действия в целом, но и их документационную фиксацию, а также сбор необходимой информации, в частности, влияет на ее неоднозначность, противоречивость и недостаточность, несоответствие реальным обстоятельствам. Часто наблюдаются ситуации, когда такой посредник, получая гарантии дальнейшего освобождения от уголовной ответственности, своим поведением сознательно или неосознанно предупреждает коррупционера об опасности, нарушая запланированный ход оперативно-розыскных мероприятий. При этом надо отметить, что в подобных условиях отсутствуют какие-либо однозначные и наиболее рекомендуемые алгоритмы действий. Каждая такая ситуация глубоко индивидуальна. Однако с позиции исследуемой в настоящей статье проблемы здесь важен тот факт, что документирование действий в таких обстоятельствах не должно быть прекращено или минимизировано.Бо-лее того, детальное документирование обстоятельств приобретает в подобных случаях особо важное значение для дальнейшего следствия и результативности ОРД. [9]
Нельзя не упомянуть и проблемы, связанные с попытками должностного лица – коррупционера скрыть улики при задержании (уничтожение, выброс доказательств, порча и т.д.). В связи с этим особую важность приобретают такие действия, как ограничение подвижности подозреваемого и обеспечение при этом как можно более полной и передающей детали видеофиксации ОРД, в ходе которых акцент должен быть сосредоточен на фигурантах. Одновременно в протоколе или акте изъятия должно быть зафиксировано в качестве данных и безусловное соблюдение гарантий прав задержанного с поличным коррупционера – должностного лица в ходе получения взятки. Правильность и полнота оформления данных документов, их составление с участием незаинтересованных лиц гарантирует их доказательную силу, что, в частности, подтверждено содержанием кассационного определения Судебной коллегии по уголовным делам Челябинского областного суда от 26.07.2011 года по делу № 22-5385/2011, где утверждается, что подобные источники «отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ» [5].
В завершение следует еще раз подчеркнуть такую проблему, как отсутствие эффективного взаимодействия и согласованности между сотрудниками оперативно-розыскных и следственных отделов, отсутствие единой правовой позиции по ключевым вопросам. Участие органов предварительного следствия в процессе оперативной проверки данных не должно носить формальный характер или сводиться к минимуму, а наоборот должно проявляться на самых ранних этапах (до появления официального повода к возбуждению дела о коррупции должностного лица). Коллективная работа подобного уровня позволяет «определить наиболее подходящий момент для задержания коррупционера и других субъектов до возбуждения уголовного дела», «установить дальнейшее направление ОРД, наметить конкретные мероприятия для формирования устойчивой доказательной базы» [13, c.27]. В конечном счете, это позволяет обеспечить более эффективные условия для сбора подобных данных и дальнейшую процессуальную возможность их применения в процессе формирования уголовно-процессуальных доказательств по коррупционным делам. В связи с этим как минимум на ведомственных уровнях в настоящее время назрела насущная необходимость разработки и фиксации алгоритма согласования действий и применения оперативно-розыскных данных не только в рамках следствия, но и на всех уровнях судопроизводства в целом по делам о коррупционных деяниях должностных лиц. Значительное содействие в данном вопросе может оказать систематизация и изучение как положительного, так и отрицательного опыта российских регионов, где подобные предложения принимаются на уровне методических рекомендаций.
Подводя итог вышесказанному, автор делает вывод, что активное и полноценное доказательное использование в процессе следствия по коррупционным преступлениям должностных лиц оперативно-розыскных данных возможно лишь при условии решения в ближайшей перспективе обозначенных выше проблем, систематизация и анализ которых, безусловно, не претендуют на исчерпывающий характер ввиду ограниченности объема исследования и объема одной статьи. Важнейшую роль в вопросе их преодоления отдается таким механизмам, как совершенствование и гармонизация различных уровней законодательства по исследуемой проблеме, начиная с устранения неоднозначности терминологического плана и детализации основных понятий, имеющих приоритетное значение для работы с данными ОРД и их использования в ходе следствия и привлечения к ответственности лиц, совершающих коррупционные должностные преступления; а также взаимодействие органов и диссеминация положительного опыта применения оперативно-розыскных данных в ходе следствия по коррупционным делам. Данные вопросы требуют отдельного научного изучения и обоснования. В то же время автор исходит из убеждения, что на современном этапе развития системы российского правосудия расследование коррупционных преступлений должностных лиц с участием лишь следственных органов без теоретически и методически обоснованного и практически подтвердившего свою эффективность, неоднократно апробированного в различных условиях алгоритма взаимодействия с другими участниками судопроизводства, тщательно фиксирующими все детали и мероприятия в ходе осуществляемой деятельности с ее дальнейшей передачей на другие уровни, мало реально и, более того, непродуктивно. Подобного рода взаимодействие, в особенности в информационном плане, по мнению автора, должно исходить с более низких уровней и далее транслироваться на вышестоящие. Таким образом, назрела необходимость научной разработки общей, многоуровневой, комплексной системы получения, подготовки и обмена данными, а также их использования в целях плодотворного и гармоничного, нацеленного на долгосрочные цели взаимодействия по пресечению коррупции должностных лиц, – системы, которая в качественном измерении окажет положительное влияние как на процессы и мероприятия, так и результаты предварительного расследования, так и ОРД по рассматриваемой категории уголовных дел, что, в конечном счете, должно привести к снижению роста преступности в данном направлении. Эта задача носит, безусловно, долговременный характер и не может решаться одномоментно в директивном плане, требуя системного подхода, объединения усилий представителей научного сообщества, специалистов-практиков, общественного обсуждения и анализа перспективного отечественного и зарубежного опыта в данном направлении, в том числе в проблематическом контексте.
Список литературы Особенности и проблемы применения оперативно-розыскных данных при расследовании преступлений, связанных с коррупцией должностных лиц
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 04.11.2019) [Электронный ресурс]// СПС "Консультант Плюс". URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 24.11.2019)
- Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (в ред. от 02.08.2019) [Электронный ресурс]// СПС "Консультант Плюс". URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 24.11.2019)
- Определение Конституционного Суда РФ от 20.02.2014 г. № 286-О [Электронный ресурс]// СПС "Консультант Плюс". URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=383201 (дата обращения: 21.11.2019)
- Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд (утв. Приказом ФСНП РФ № 175, ФСБ РФ № 226, МВД РФ № 336, ФСО РФ № 201, ФПС РФ № 286, СВР РФ № 56 от 13.05.1998 г.) [Электронный ресурс]// СПС "Консультант Плюс". URL: http:// www.consultant.ru/ document/ cons_doc_LAW_20182/ (дата обращения: 21.11.2019)
- Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Челябинского областного суда от 26.07.2011 г. по делу № 22-5385/2011 [Электронный ресурс]// Официальный сайт Челябинского областного суда. URL: http://www.chel-oblsud.ru/index.php?html=bsr&mid=143 (дата обращения: 21.11.2019).