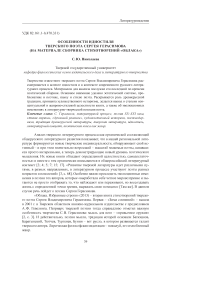Особенности идиостиля тверского поэта Сергея Герасимова (на материале сборника стихотворений "Облака")
Автор: Николаева Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
Творчество известного тверского поэта Сергея Владимировича Герасимова рассматривается в аспекте идиостиля и в контексте современного русского литературного процесса. Материалом для анализа послужил его последний по времени поэтический сборник. Основное внимание уделено эстетической системе, проблематике и поэтике, языку и стилю поэта. Раскрывается роль древнерусской традиции, принципа художественного историзма, делается вывод о степени концептуальной и жанрово-стилевой целостности книги, а также об эволюционных изменениях в литературно-творческой позиции поэта.
С. герасимов, литературный процесс, поэзия xx-xxi века, "тихая лирика", "духовный реализм", художественный историзм, постмодернизм, традиции древнерусской литературы, тверская литература, идиостиль, литературный концепт, поэтическая книга как жанр
Короткий адрес: https://sciup.org/146281501
IDR: 146281501 | УДК: 82.161.1-1(470.331)
Текст научной статьи Особенности идиостиля тверского поэта Сергея Герасимова (на материале сборника стихотворений "Облака")
Анализ тверского литературного процесса как органической составляющей общерусского литературного развития показывает, что в нашей региональной литературе формируются новые творческие индивидуальности, обнаруживают свой истинный – и при этом значительно возросший – масштаб знакомые поэты, казавшиеся просто интересными, а теперь демонстрирующие новый уровень поэтического мышления. Их новые книги обладают определенной целостностью, самодостаточностью и вместе с тем органически вписываются в общероссийский литературный контекст [3; 4; 5; 7; 15; 17]. «Развитие тверской литературы идет различными путями, в разных направлениях, в литературном процессе участвуют поэты разных возрастов и поколений» [3, с. 68]. Особенно важно проследить эволюционные изменения в поэзии тех авторов, которые «выработали себе четкое мировоззрение и пытаются не просто отображать то, что наблюдают или переживают, но воссоздавать жизнь с определенной точки зрения, выражать свою позицию» [Там же]. В данном случае речь пойдет о поэзии Сергея Герасимова.
«Облака. Избранные строки» (2013) – вторая книга стихотворений тверского поэта Сергея Владимировича Герасимова. Первая – «Зима сомнений» – вышла в 2001 г. в Тверском областном книжно-журнальном издательстве с предисловием А. Ф. Гевелинга. Патриарх тверской поэзии тогда справедливо отметил важную особенность творчества С. В. Герасимова: мысль для него – «привычное оружие» [2, с. 3]. И действительно, поэзия мысли, традиции которой основали Батюшков, Баратынский, Тютчев, Тургенев, Бунин – вот русло, в котором развивается талант тверского автора. Лирическая философская медитация – пожалуй, его излюбленный жанр.
Практически все стихи «Зимы сомнений» вошли в новый сборник, но вместе с тем объем книги значительно увеличился, точнее – удвоился, написаны новые произведения, и к заглавию «Облака» присоединен подзаголовок: «Избранные строки». Это значит, сборник носит итоговый характер, является этапным для автора. Отринуто все случайное, оставлено главное, драгоценное, идущее от самого сердца и многократно осмысленное. Правда, следить за движением мысли поэта внимательному читателю было бы легче, если бы автор более системно подошел к датировкам стихотворных текстов. Как почти все тверские поэты, С. В. Герасимов указывает даты создания своих стихотворений крайне редко, и это затрудняет восприятие его творчества. Поэзия – это движение, это история души лирического героя и самого автора, это некий пройденный путь, и даты – вехи на этом пути.
Можно предположить, что книгой «Зима сомнений» С. В. Герасимов когда-то наметил для себя некую перспективу и теперь вышел к читателю с творческим отчетом: вот что у меня получилось… И действительно, читая сборник «Облака», убеждаешься: поэт остался в круге тех идей, тем, образов, сюжетов, мотивов, которые владели им изначально, но постарался углубить их, усилить их художественную сторону, усовершенствовать форму. Он дописывал начатое, исследовал и детализировал найденное и открытое, создавал новые ответвления и продолжения тех сюжетных линий, которые возникли еще в первой книге. Можно сказать, поэт посадил молодое дерево, которое за минувший срок выросло и превратилось в зрелое, высокое древо.
Например, исторический пласт размышлений С. В. Герасимова, представленный диптихом «Прощание» (в него вошли два монолога – Анны Кашинской и Михаила Тверского), в новой книге дополнен стихотворным переложением фрагментов «Хожения за три моря» Афанасия Никитина. И если образы Анны и Михаила достаточно традиционны и при их воссоздании объективно трудно избежать дидактики, утяжеляющей поэтический слог не вполне мотивированным переносом («Что же может еще на земле благородней / Быть, чем смерть во спасение следом идущих»), сложно преодолеть опасность шаблонизации, формульности, этикетно-сти («Лучше душу свою положу, госпожа, / За Христовое стадо, за веру, за Тверь»), избавиться подчас от синтаксической некорректности фразы («И зловещая птица глядит из кустов, / Верещит, заглушая, что молвил Господь») [Там же, с. 28], то монолог, написанный от лица умирающего тверского купца Афанасия Никитина, – образец истинной поэзии. Вероятно, помог текст-первоисточник, обладающий высочайшими художественными достоинствами, но и мастерство тверского поэта здесь бесспорно. Бережно воссоздавая канву ключевых слов «Хожения», С. В. Герасимов нанизывает на эти слова-опоры свою поэтическую строку:
…В Иллаизе – ярмарки пестрота, Речь мудрена у населенья…
Пышна роскошь бар, беднота ж – нага, У смугляночек – ножки босы.
Ловко носят кувшинцы на головах Чаровницы черноволосы … <…> …Пусть жемчужина – южная та страна, Где слоны в золоченом убранстве На широких спинах возят бояр,
Только Русь наша краше, братцы… [Там же, с. 38]
Стих, близкий к народному, краткие прилагательные – энергичные штрихи словесной кисти, лаконичный, экономный синтаксис, неизбитая звукопись помога- ют автору создать многогранное, но при этом невероятно сжатое, концентрированное, панорамное изображение чужой земли и культуры: лирический герой словно внутренним взором охватывает новый мир, который ему довелось увидеть. Уменьшительно-ласкательные формы слов, разговорные слова и выражения позволяют поэту выразить любовь Афанасия Никитина к этому миру, любование и восхищение им, трезвое восприятие и радостное приятие этого мира. Вместе с тем простодушное «братцы» выдает тоску по родине, и мысленный взор тверского купца-путешественника возвращается на Русь.
Дополнены новыми строками циклы стихов о творческом процессе и его перипетиях («Черновики»), о временах года (особенно «новогодний», «мартовский» и «апрельский», «сентябрьский» и «октябрьский» периоды, а кроме того, появился новый – «зимний», особенно трагический, отличный от «новогоднего», радостного, мотив: «Меркнет день над кромкою лесною…»). Расширилась «мысль семейная» («Герасимов!..», «Мячу детства», «Справка», «Курю», «Вот – могила отца…», «Георгию»). Появились новые страницы о братьях наших меньших («Лора», «Кулик», «Привереда», «Приблуда», «Про ужей», «Малыш»). Объем дополнений очень весом, и потому возникает необходимость «вникнуть в суть», как о том просит автор в своем послесловии, попытаться обобщить особенности его творчества.
Прежде всего хочется предостеречь читателя от восприятия поэзии С. В. Герасимова как поэзии пейзажной, «природоведческой», хотя сам он своим эпиграфом к книге провоцирует именно такой путь прочтения: «Дай от всего, Всевышний, злого / Живое чувство уберечь, / Перевести природы слово / На человеческую речь». На самом деле творчество С. В. Герасимова не столько природоведческое (хотя любви к природе у него не отнимешь), сколько человековедческое и, более того, теоцен-тристское, так как в основе системы ценностей автора, его художественной аксиологии – Всевышний, Бог, совесть, душа: «Отец, я знаю, смерти нет…»; «Стыд – судьбы поводырь, мой духовный оплот». Один из устойчивых, повторяющихся образов С. В. Герасимова – свет («доверчивый», «природный, нетронутый», всегда «струящийся» с небес, «Фаворский»), символ высшего смысла бытия человеческого, символ присутствия Бога в этом мире («Не в свете ль том растворены / Любовь, и грусть, и жизни краткость, / И сердца смутная догадка / Перед Творцом своей вины?..» – и вместе с тем символ человеческой живой души, символ одухотворенности и очеловеченности этого мира:
Но свет струится, не иссяк.
Его березы норовят
Поймать стволами и листвою – И отдают – бери! – с лихвою, Пылая с головы до пят.
Безусловно, С. Герасимова следует признать мастером природных зарисовок и картин. Не поворачивается язык сказать «пейзажей», потому что в его стихах минимум описательности. А такие образы, как «мимолетный дождь», «земляничные поляны», «пряные стога», «ромашковый луг», «пьяная прель», «молодильных яблок запах», «солнечный лист», «ветер соловьиный», «бесшабашная пичуга», «уловки ветра» соседствуют с выражениями: «удача-ветреница», «счастливых глаз разлив», «просроченная грусть», «душенька воскресшая», «молитвенный слог», «предзимний озноб», «вселенский звук», «вселенские напасти», «вселенское зло», «чувства вселенской глуби» (кстати, эпитет «вселенский» был излюбленным у Н. Тряпкина и Ю. Кузнецова). Иначе говоря, природные мотивы и образы вписаны в сознание лирического героя, становятся частью его внутреннего мира и «вочеловечиваются». Зачастую они превращаются в развернутые и реализованные метафоры: «Земля, земля, я твой родник – / И этим счастлив без предела! <…> Он все спешит, судьбы дитя, / К большой реке, еще не зная, / Что с шумом радостным, шутя / Он вырывается из рая» [Там же, с. 25]; «За окошком / Медленно, с ленцою / Падал снег, мечтая о пурге. / Тихо-тихо… / И заря лисою / Схоронилась в дальнем сосняке» [Там же, с. 166]; «Но тем обидел зиму и / Шутя довел до слез» [Там же, с. 80].
В целом метафоры в поэзии С. Герасимова отличаются новизной, свежестью, выразительностью: «Струится жизнь иная из земли» [Там же, с. 37], «Где, сбросив снежную броню, / Лесок спешит надеть обновки» [Там же, с. 25], «Зиму стряхивать с плеч / У деревьев учусь» [Там же, с. 84] , «Уснувшим дачникам в деревне / Рассвет кузнечики куют» [Там же, с. 141], «Поэт наедине с самим собой / И со Вселенной всей у изголовья» [Там же, с. 54], «Струится жизнь иная из земли» [Там же, с. 37], «Нас окатив водицею живою, / От засухи душевной отреши» [Там же, с. 124] (о ливне).
Думается, новизна и сила метафорического стиля С. Герасимова в его традиционности, историзме, опоре на определенную литературную традицию. В данном случае – древнерусскую. Так, в строках: «Зависть сеет раздоры на наших полях, / Урожай собирая слезами сирот», – чувствуется ассоциативная связь с древнерусскими историческими и воинскими повестями, в которых говорилось о нестроениях в Русской земле. Но дело не только в той или иной отдельной реминисценции, а в самом стилевом приеме, принципе, которым пользуется поэт. Исследователи древнерусской литературы выделяют метафорически-символический стиль, который возник как результат стремления писателей увидеть и выразить связь мира материального и духовного, «изображать типичное, доведенное до идеала качество объекта», «в художественной форме представить общее, а не иидивидуальное» [1, с. 87]. Именно поэтому они использовали так называемые устойчивые словесные формулы, метафоры-символы, которые соединяли в одно образное целое понятия конкретные, описывающие окружающий мир, и абстрактные, из сферы морали, нравственности, веры, богословия. Например, знаменитый древнерусский писатель-проповедник Кирилл Туровский в своих торжественных «словах» использовал весенний и зимний пейзажи, чтобы показать радость христиан в праздники Рождества или Воскресения Христова, осудить безбожие и ереси. Картины зимнего умирания и весеннего возрождения природы он символически истолковывал как духовное умирание неверующего и возрождение души человека, обратившегося к Богу. Поэтому в сочинениях Кирилла Туровского есть такие выражения, как «зима греховная», «лед неверия», «зима кумирослужения», «земля естества нашего», «бурные ветры» – «грехотворные помыслы», «весна – красная вера Христова», «безбожная зима» [8, с. 287]. Протопоп Аввакум в своем «Житии» тоже уподоблял безбожие лютой зиме. Ужасаясь реформам Никона, он писал: «… видим, яко зима хощет быти; сердце озябло и ноги задрожали»; «Жена, что сотворю? Зима еретическая на дворе. Говорить ли мне или молчать?» [9, с. 346].
Метафоры-символы, созданные с опорой на эту традицию, – сильная сторона стиля С. Герасимова, итог его художественных обобщений, проявление философской и даже нравственно-религиозной направленности творческой мысли. Можно привести такие образцы, как «зима сомнений», «поле сражений судьбы», «судьбы родники», «земля бесконечных сомнений», «засуха душевная», «свечка веры»,
«улов воспоминаний», «болото греховности», «лабиринт злобы», «ночи плен», «щемящая скрипка ветра». Лирический герой С. Герасимова ищет Бога, осуществляет сложнейшую духовную работу, размышляет о смысле жизни, о смерти и бессмертии: «Отец, я знаю, смерти нет…» [2, с. 158].
Конечно, поэт не копирует литературные источники, а делает на их основе собственные художественные обобщения: « Судьбы коварны воды,/ Так изведут, хоть плачь: / Измен водовороты / И мели неудач …» Выводы эти не имеют религиозно-назидательного характера, хотя тема веры, «света Фаворского» как необходимой основы жизни современного русского человека является сквозной в сборнике. Разочарование, несбывшиеся надежды, посрамленная гордыня молодости и переосмысление всей прожитой жизни на пороге «осени» и «зимы» – таков духовный путь, проделанный лирическим героем С. Герасимова: «И стоит человек на сгоревшей листве , / На багряных углях безоглядных стремлений» [Там же, с. 161].
По словам В. А. Редькина, лучшие тверские поэты идут путем крупнейших стихотворцев XX века, которые прокладывают магистральные направления ы русской литературе, – например, Ю. Кузнецова, боровшегося «за сохранность и жизненность национальных идеалов, за чистоту и красоту народной нравственности и эстетики», показывал, что «в мире идет непрекращающаяся борьба добра и зла, борьба сатанинских сил с Богом», что «понятия Неба, Солнца, Звезды несут в себе смыслы, связанные с понятиями Добра, Любви, Справедливости, Бога» [13, с. 100], или с С.Есенина, которому была свойственна погруженность «в национальную русскую мифологическую традицию», в русскую историю [14, с. 90] . К числу таких поэтов, наряду с Г. Степанченко, Н. Капитановым, Л. Гордеевой и другими, следует отнести и С. Герасимова, который тоже «воссоздает духовную реальность, передает подлинность, истинность, осуществимость жизни духа своего лирического героя» [5, с. 72]. Его творчество последних лет тоже следует рассматривать и осмысливать в рамках такого типа творчества, как «духовный реализм» (методологический потенциал этого термина широко и плодотворно разрабатывается В. А. Редькиным и рядом других ученых [11; 12; 13; 14; 16]). Как пишет В. А. Редькин, «для человека верующего инобытие, духовная ипостась бытия не менее, а более реальна, чем видимая нам физическая материя, природный и социальный миры» [11, с. 71]). Этим обусловлен, по-видимому, и тот факт, что социальная проблематика у С. Герасимова приглушена (даже в сравнении с Г. Степанченко или Н. Капитановым), «главные ценности из мира внешнего, социального перемещаются во внутренний мир человека», причем «эти ценности не всегда доступны рациональному сознанию» [Там же, с. 72], они обусловлены влиянием «мощной традиции православного мировосприятия, свойственной русской литературе» в целом, в частности «творческому наследию Шмелёва и Б. Зайцева, В. Шишкова и Н. Гумилева, А. Ахматовой, Н. Тряпкина, В. Крупина и Ю. Кузнецова», ибо «в глубине их строки явно ощутим мерцающий и непостижимый смысл бытия» [Там же, с. 76]).
Неординарно решается в книге С. Герасимова и старая, как мир, проблема поэта и поэзии. Назначение поэта понимается по-пушкински (поэт – пророк, посредник между Богом и людьми), но и по-своему, с сокровенной, смиренной интонацией, без «жгучих глаголов»: «Подмастерьем быть у Бога, / А иного – не дано» [2, с. 102]; «Поэт наедине с самим собой / И со Вселенной всей у изголовья» [Там же, с. 54]. Творческим ориентиром для него становится и образ Бояна, который «аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу». В тверской поэзии этот образ уже использовался, ср. у Н. Тряпкина: «Громовая стрелка! / Владыка Пе- рун! / Для вас эта белка / С Бояновых струн». Но С. Герасимову удается дать свою интерпретацию: «Белкой по стволу / Опять мой взгляд бежит к вершине…» [Там же, с. 119]. Трепет поэтической мысли, ее энергия, ее нерв, ее движение, ее стремление к идеалу, к духовным высотам – вот о чем пишут оба поэта.
В стихотворении «Раздумья Левитана» С. Герасимов контаминирует названия полотен «Над вечным покоем» и «Вечерний звон» и говорит о духовном беспокойстве истинного художника, о непрерывно совершающейся работе его совести: «И лился, лился, не суля покоя, / Из-за реки, где монастырь белеет, / Вечерний вещий колокольный звон» [Там же, с. 140]. Поэт у С. Герасимова – «поденщик совести» [Там же, с. 144].
С. Герасимов разрабатывает свою концепцию творчества, взаимоотношений искусства и жизни. Искусство не может быть простым воспроизведением действительности или искажать действительность в угоду конъюнктуре подобно кривому зеркалу, оно – если настоящее – должно вести читателя «К родникам заблудшей совести / Прочь – от зеркала кривого». Слезы и совесть поэта искупают грехи людей, и поэт не надеется на человеческую благодарность и понимание: «Молчит действительность на это, / Глухонемою притворясь» [Там же, с. 30]. Опять пушкинская тема – тема Эха, но решенная по-своему.
Еще одной интересной чертой стиля С. Герасимова является тонкая работа со звуковым обликом слова. Ярких образцов так много, что можно попытаться систематизировать их. Например, звукопись на сочетаниях вс, св, ст, сп, ск . Эти «свистящие» звукосочетания маркируют у С. Герасимова тревогу, напряжение духа, страх: «Кто сумеет ее от все ленских на пасте й спасти ?», « Соста вы сту чат на сты ках», « С посвист ом да с присвист ом… // Жить в с мятенье вихрист ом», «Тучи, ста вшие вдруг василиск ами, // С олнца ди ск потащили вниз ».
Сочетания звуков твр, рд, тртр, чр, гр, ср, рч, рщ, ств (с обязательным дрожащим р, взрывными д, т, г, п и шипящими ч, щ ) встречаются в тех стихах, где речь идет о сосредоточенности поэта на осмыслении и познании окружающего мира: «За твор ничество с твор чеством – в род стве», «Под таратор щину сорок », « Чар о вн ицы чернов олосы», «По гра фски – гра ч идет», « пр о ср оченная гр у ст ь».
Сочетания зв, зн, зл, дз, сн, дн ,мн, бл, дл, тл, ли, лы, плы, сли, обла, бол, вал, мал (звонкие, плавные, сонорные) помогают выразить ласково-радостное восприятие мира лирическим героем, его любование миром: « Зв е н я н о в и зн ой», « Н ебо в ы лил о в о синн ик / Вс ю дн е вн ую синь », « Сен тябрь, еще жива под полусонным солнцем / От щедрости твоей затворница-душа», « Коль нали в к ою малин ы / Так пьянил закат», «счаст ли вых г ла з раз ли в», « Лис твой с ли цом сли вая сь , пе ли », « Плы вут куда-то обла ка… / Обла скивая наши бол и», «И лился, лился , не суля покоя», «До бле ска выли зав э маль , / За валивалс я у порога», «счас тл ивых гл аз ра зл ив», «пре дз и мн ий о зн об».
Есть и чисто изобразительные и очень традиционные варианты звукописи: «То по полю, то по пыли тропок и дорог», «пьяной прелью дыша» (взрывные твердые глухие губно-губные согласные имитируют топот, шорох, шелест, движение по некоему пути).
Но в основном фоника в текстах С. Герасимова не может быть понята буквально (как в последнем примере), она используется автором для создания внутренней рифмы, созвучия слов в стихе в целом, ради музыкальности, мелодичности, гармоничности стиха.
Есть в книге С. Герасимова и то, что требует дальнейшей работы, в чем поэт пока еще не достиг вершины своего развития. Так, например, социальный аспект проблематики совсем не чужд автору книги, но он словно бы стесняется расширить его. А может быть, просто еще не осмыслил как следует эти проблемы и копит наблюдения для будущих произведений? На страницах сборника встречаются точные зарисовки жизни и характеристики наших современников, которые «от глумленья эфирного пьяны», поэт обращается к ним как к Иванам, родства не помнящим, «отчий край пустившим с молотка» [Там же, с. 56]. Душа нашего поколения «уже не помнит, что распята // Эфирным гнетом, вспышками свобод» [Там же, с. 162]. Вместе с тем современник «духовной жаждою томим». И поэт призывает читателя «надеяться с веком вразрез», «жить с нелепым временем вразрез». Образец здесь – снова Пушкин: «Зачем он стал мне так необходим, / Поэт, поденщик совести? Как смог он / В тот душный век творить, и быть пророком, / И жить, духовной жаждою томим?» [Там же, с. 144].
«Душный век», «нелепое время», «с веком вразрез» – это, конечно же, штампы, банальности. «Душный век» – а породил Пушкина, и не его одного. «Нелепое время» – а в нем жили предки лирического героя С. Герасимова, дед, отец, пращуры, Афанасий Никитин, Михаил Тверской, Анна Кашинская. Да, истинный поэт (художник, ученый) всегда идет «вразрез», но не с веком, а с людскими пороками, завистью, злобой, безверием. «Провозглашать я стал любви / И правды чистые ученья – / В меня все близкие мои / Бросали бешено каменья», – писал Лермонтов. Правда, любовь и вера во все времена сталкиваются с ложью, ненавистью и безверием. С ними же сталкивается и их преодолевает поэт. Дать концепцию своей эпохи, социально-историческую концепцию, не ограничиваясь мимолетным и конъюнктурным «душный век», – это сложная задача. И возможно, она требует работы в других жанровых формах – например, в жанре поэмы.
Если говорить о проблематике и композиции сборника, то можно увидеть, что автор пытался скомпоновать два раздела: «К родникам заблудшей совести…» и «Природный, нетронутый свет…» Как писал А.П. Чехов, «вся энергия художника» должна быть обращена на две силы – «человека и природу» [18]. Так и у С. Герасимова: судя по заглавиям, в первом разделе преимущественное внимание уделяется человеку (и замысел здесь выдержан довольно точно: мы наблюдаем жизненный путь лирического героя от детства к духовной и нравственной зрелости), а во втором разделе должен быть представлен «мир Божий», природа в широком смысле слова. Но нужно признать, что тематически и концептуально второй раздел оказывается несколько более рыхлым, размытым. Над композицией книги – если хотеть сделать нечто целостное, прочно сбитое – надо еще думать. Тем более что опыт создания поэтической книги как жанра в тверской литературе есть [6].
Богатый интертекстуальный слой – еще одна черта идиостиля С. Герасимова. Читателю всегда важно знать, каковы литературные ориентиры писателя, его эстетические и идейные предпочтения. И в сборнике «Облака» встречается целый ряд литературных параллелей, перекличек, прямых и скрытых цитат. Так, например, стихотворение «Когда весенний первый ливень…» [2, с. 86] напоминает одновременно и тютчевское «Люблю грозу в начале мая…», и лермонтовское «Когда волнуется желтеющая нива…» Лермонтовская «Благодарность» («За все, за все тебя благодарю я…») явно слышится в стихотворении С. Герасимова «Двадцать строк женщине» («За все чудачества…») [Там же, с. 92]. Строка «Воображение услужливой рукой…» [Там же, с. 11] воспроизводит интонационный рисунок пушкинского
«Воспоминания» («…Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток…»). Не хочется критиковать С. Герасимова за эти параллели, тем более что и сам Пушкин признавал: «Талант неволен, и его подражание не есть постыдное похищение – признак умственной скудости, но благородная надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые миры, стремясь по следам гения, – или чувство, в смирении своем еще более возвышенное: желание изучить свой образец и дать ему вторичную жизнь» [10, с. 135]. Но тем не менее представляется, что поэзия С. Герасимова более интересна и значительна в других своих образцах, а не там, где берется за основу хрестоматийная школьная строка.
Еще одно направление творческой работы С. Герасимова – это его эксперименты со словом, поиск точного, неизбитого, свежего, сочного русского слова, интересной рифмы. И здесь у него много находок, удач: «Тверца, кровинка Волги, / Утешница моя»; « Одержимый снегопад», «из чудимой страны», « Поилец бочек – нудный водосток», «Весна… / Опять этот день, как картину, обрамит ». Но есть и неудачи. «И одним мы грустим языком» – разве можно грустить или радоваться какими-либо частями бренного тела, если для этого есть душа? «С прослезенными глазами» – глагол «прослезить» (а только от него можно образовать страдательное причастие «прослезенный») ну очень уж малоупотребителен и выглядит в тексте как экзотика. «Свет на счастье раздаря », «И курятник, клетку золотую, / Я птенцам своим не завещу » – здесь явные нарушения грамматики . «В людских сердец смятение / Вливал надежды смех», «Но не давала деревушка эта / Тоске приют и Пушкина строка» – синтаксис этих фраз таков, что прорваться к пониманию смысла текста невозможно. «Эмаль – пурга ль» – эта составная рифма формально хороша, но убивает смысл строки. Слушатель может переспросить на презентации: «А что такое (кто такой) пургаль?» Встречаются у автора и неоправданные переносы, в том числе сделанные ради соблюдения стихотворного метра и рифмы: «…И величье Земли, и проклятье веков, и / Шаг боится ступить: он еще не готов / К постиженью Божественной тайны Голгофы» [2, с. 161].
Для читательского восприятия рифма «веков и – Голгофы» неочевидна, для восприятия слушателя (в транскрипции) «<векофы> – Голгофы» созвучно, но непонятно, а если читать «разборчиво», с хорошей артикуляцией, как того требует настоящий перенос, – рифма исчезнет. Уместить «Голгофу» в стих не получилось. А жаль – стихотворение в целом оригинальное, интересное, содержательное.
Поэзия С. Герасимова – настоящая, подлинная, серьезный результат большой работы. Вместе с тем потенциал ее развития далеко не исчерпан.
Список литературы Особенности идиостиля тверского поэта Сергея Герасимова (на материале сборника стихотворений "Облака")
- Адрианова-Перетц В. П. Очерки поэтического стиля Древней Руси. Л.: Изд-во АН СССР, 1948. 188 с.
- Герасимов С. В. Облака. Избранные строки. Тверь: Тверская обл. тип., 2013. 176 с.
- Николаева С. Ю. «Когда минет злоба дня и настанет будущее…»: новые книги тверских поэтов и литературный процесс // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2016. № 3. С. 68-81.
- Николаева С. Ю. Древнерусские памятники в литературном процессе (от Г. Р. Державина до Ю. П. Кузнецова): Монография / Тверской гос. ун-т. Тверь, 2010. 252 с.
- Николаева С. Ю. Новые тенденции в поэтическом творчестве Николая Капитанова и Владимира Львова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 1. С. 68-79.
- Николаева С. Ю. Поэтическая книга как жанр в творчестве Г. Степанченко // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2013. № 1. С. 88-95.
- Николаева С. Ю., Редькин В. А. Традиции А. А. Блока в поэзии Ю. П. Кузнецова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2016. № 1. С. 68-77.
- Памятники литературы Древней Руси: XII век. Л.: Худож. лит., 1980. С. 704 с.
- Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Кн. 2. Л.: Худож. лит., 1989. 680 с.
- Пушкин А. С. Фракийские элегии. Стихотворения Виктора Теплякова. 1836 // Пушкин А. С. Собр. сочинений: в 10 т. Т. 6. М.: Худож. лит., 1976. С. 134-144.
- Редькин В. А. Духовный реализм как художественный метод современной литературы // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2018. № 1. С. 71-78.
- Редькин В. А. Жанрово-стилевое своеобразие поэзии Василия Федорова. К 100-летию со дня рождения поэта // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2018. № 3. С. 39-45.
- Редькин В. А. Наследие Ю. Кузнецова в творчестве тверских поэтов // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2015. № 1. С. 93-101.
- Редькин В. А. Онтологические проблемы в творчестве Сергея Есенина // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2007. № 14. С. 52-57.
- Редькин В. А. Особенности идиостиля поэзии Михаила Суворова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2019. № 1. С. 51- 61.
- Редькин В. А. «Русская идея» Юрия Кузнецова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2004. № 1. С. 48-68.
- Редькин В. А. Творческая индивидуальность тверской поэтессы Любови Гордеевой // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2013. № 3. С. 86-93.
- Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М.: Наука, 1974-1983.