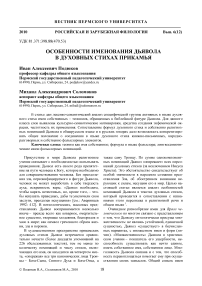Особенности именования дьявола в духовных стихах Прикамья
Автор: Подюков Иван Алексеевич, Соломонов Михаил Александрович
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 6 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье дан лексико-семантический анализ специфической группы активных в языке духовного стиха имен собственных - теонимов, обращенных к библейской фигуре Дьявола. Для данного класса слов выявлены культурно-семиотические мотивировки, средства создания эвфемической окраски, частотность их применения. Сопоставление формул духовного стиха и собственно религиозных номинаций Дьявола в общерусском языке и в русских говорах дало возможность конкретизировать общее положение о соединении в языке духовного стиха книжно-письменных, народно-разговорных и собственно фольклорных элементов.
Теоним как имя собственное, формула в языке фольклора, лингвосемиотические связи фольклорных номинаций
Короткий адрес: https://sciup.org/14728945
IDR: 14728945 | УДК: 81.371:398.88(470.53)
Текст научной статьи Особенности именования дьявола в духовных стихах Прикамья
Присутствие в мире Дьявола религиозное учение связывает с необходимостью испытывать праведников; Дьявол есть своего рода препятствие на пути человека к Богу, которое необходимо для совершенствования человека. Без преодоления зла, персонифицируемого в фигуре Дьявола, человек не может выработать в себе твердость духа, искренность веры. «Дьявол необходим, чтобы карать нечестивых, но, кроме того, – чтобы искушать праведных, дабы те увеличили свои заслуги, преодолев искушения» [см.: Аверинцев 1992: 412]. В нетеологических, массовых представлениях Дьявол воспринимается несколько иначе – прежде всего как коварное, омерзительное существо, творящее злодеяния, беспорядок и хаос в мире; как символ греховного образа жизни, зла и пороков.
В художественном пространстве прикамских духовных стихов Дьявол встречается сравнительно нечасто (более двадцати упоминаний на 226 обследованных текстов), тем не менее по количеству номинаций и числу стихов, включающих его имя, он находится на четвертом месте, «опережая» все три канонических лица Троицы – Бога-Сына, Святого Духа и Бога-Отца, а также саму Троицу. По сумме однокомпонентных номинаций Дьявол «опережает» всех персонажей духовных стихов (за исключением Иисуса Христа). Это обстоятельство свидетельствует об особой значимости в народном сознании представления Зла, об обостренном внимании верующих к силам, несущим его в мир. Целью настоящей статьи является анализ особенностей номинаций Дьявола в текстах духовных стихов, который проводится в сопоставлении с названиями этого персонажа в религиозной речи и общем языке 1.
Очевидное разнообразие имен для Врага человеческого во многом связано с представлением о том, что Дьяволу онтологически присуща множественность: не являясь устойчивой, единичной сущностью, Дьявол «существует» в бесчисленных вариантах, с множеством имен и форм (личин). «Множественность» Дьявола в христианском учении – показатель его ущербности, неспособность существовать как нечто единое, иметь собственное имя, собственное лицо. Мно-голикость Дьявола связана и с тем, что способность перевоплощаться помогает ему при осуществления своих замыслов. Общий список имен
Дьявола увеличивается еще и потому, что, по народным религиозным представлениям, злых духов, демонов много – кроме Дьявола, есть «легион» прислуживающих ему существ ниже рангом, часто способных к его замещению. Прямое именование их невозможно, поэтому при создании имен Дьявола и бесов активно используются разнообразные приемы эвфемизации. Прежде всего это использование в качестве собственного имени-теонима апеллятива, замена имени местоимением.
Множественность номинаций таких персонажей духовных стихов, как Бог, Иисус Христос и Богородица, имеет другую природу – обуславливается особой религиозной риторикой, направленной на восхваление высшего божественного существа [см.: Соломонов 2010: 30-34]. Кроме того, многообразие имен Бога призвано отразить универсальное религиозное представление о его всеобъемлющей сущности.
В наименованиях Дьявола, как и в целом в теонимической лексике, сформировавшейся под влиянием различных мифологий и религий, немало заимствований из древних языков, а также славянских элементов – «христианская теоними-ческая лексика является общим наследием языков восточнославянского мира» [Мусорин 2008: 118]. Вот далеко не исчерпывающийся ряд названий Дьявола: Сатана, Искуситель, Демон, Враг рода человеческого, Люцифер, Мефистофель, Вельзевул, Асмодей, Падший ангел, бес, черная сила, шайтан. Как замечает О.А.Черепанова, такое разнообразие имен складывается в результате существования различных легенд о происхождении Дьявола, контаминации древних религий, наличия табуирования [Черепанова 2005: 95]. Теоним Сатана (родственно слову шайтан) обозначает Дьявола как главного антагониста Бога (восходит к древнесемитскому «сатан» – «противник»). Примечательно, что в русских народных говорах это имя широко варьируется – Сáтан (русские говоры Латвии), Са-танило (новг., костр.), Сатаноúд (арх.), Сатанó (донск.), Сатанúн, Сатанáс (пермск.: Сатанин всё знал на небе, он был вот правая рука, вот он однажды и сказал Богу: «Я ведь всё равно уже всё знаю, сделай меня превыше себя» – д. Пашево, Кишертский район Пермского края). Причины суффиксальной и грамматической «аранжировки» имени различны. В одних случаях так подчеркивается отнесенность слова к лицу мужского пола и его деятельностное начало (слова Сатанин с суффиксом лица -ин, Сатани-ло с суффиксом деятеля -ил(о)). Форма Сатанас, вероятно, есть сохраненное греческое транслитерирование еврейского слова сатан (в языке из- вестно применение слова как названия черной, с кроваво-красными пятнами на крыльях бабочки – за ее мистическую красоту). В других случаях вариант имени заостряет народную мысль о том, что Дьявол имеет многочисленные «подобия» (таково значение, вносимое суффиксом -оид, как в негроид, гуманоид). Любопытно, впрочем, что в народной речи этот латинский суффикс воспринимается как экспрессивный, негативнооценочный (ср. в просторечии: Сашка, что ль? – догадался Прошка. – Он вперед всех из деревни убег! Это такой сатаноид – житья от него не было! – А.Платонов, «Чевенгур»). В духовных стихах также отмечается варьирование – наделение имени женским родом (А налево вы идите, утешайте Сатану. К ней (выделено нами – И.П., М.С.) с скрежащими зубами прочь идите от меня – стих «Мы живем на белом свете и не думам ни о чем», Юрла). Вероятно, представление о женском начале Сатаны обусловлено не только чисто лингвистически (наличием характерного для существительных женского рода окончания), но и устойчивым для разных культур представлением, что именно женщина легко может стать его орудием.
Многие номинации в русском языке исторически возникали как непереводимые имена собственные. Имя Люцифер (из лат. Lucifer «светоносный») – одно из имен Дьявола в позднем христианстве – этимологически значит «несущий свет»; считается, что его ввел Блаженный Иероним Стридонский при осуществлении латинского перевода Священного писания. Эта номинация (в русских версиях также Денница, Светлица) соотносится с христианской легендой не вполне ясного происхождения о том, что Сатана был светлым ангелом, «сыном зари», но, возгордившись, поднял восстание среди подобных ему и был свергнут вместе с восставшими с небес на землю (спал с неба, как молния (Лк 10:18)). Другие, более редкие личные имена Дьявола – Асмо-дей (предп. из др.-евр. Ашмедай «искуситель»), крайне редкое Аполлон, или Аполлион (Лк 10:18) (буквально «губитель; лишающий дыхания»). Примечательно народное название беса, Антихриста (особенно в старообрядческих представлениях) Антий (костр., перм.: Антия на власть уже поставили, беса-то. Но Боушко Антия-то всё равно сильнее – д. Усть-Лог Суксунского района). Имя, вероятно, связано с исполином Антеем, сыном Земли, которого победил Геракл (от греческого слова αντάω, что значит «противостою»), ср. также название «запрещенного» у старообрядцев картофеля перм. антиев хлеб. Возможно в этом случае также вольное превра- щение в имя приставки анти из имени Антихрист (из установок на эвфемичность).
В номинациях Дьявола нередко содержится уподобление его самому Богу. Такова имеющая библейское происхождение номинация («скорректированная» временным ограничителем) Бог века сего (из послания святого апостола Павла коринфянам). В качестве основного языкового инструмента создания оппозиции выступает ряд лексем и номинативных конструкций, одинаково применимых к обоим персонажам, но в контексте представлений о каждом из них имеющих противоположные коннотации. К таким «универсальным» именам относятся существительные Владыка, Отец, местоимения Кто-то, Он – все они могут именовать как Бога, так и Дьявола. Перифраза Он, не знающий закона, базируется на понятии «закон», в религиозной парадигме представляющем (в отличие от беззакония-греха) праведный образ жизни. Дьявол, следовательно, являет собой некоторую аналогию Богу. Нередки характеристики его типа подложный Бог (стих «Слезой, лившейся в Севоне…», Верхокамье), где определение подложный имеет значение ‘являющийся подлогом, фальшивый’. Он называется Отцом , но Отцом лжи (Христос же – Вечный отец ; Сын Божий, которому Бог-Отец отдал власть над миром, «приравнен» по значимости к своему Отцу). Номинации двух антагонистов одним термином родства имеют общий смысловой компонент со значением главенства, превосходства, значительности. В ониме Дьявола Отец лжи заложена информация о нем как о существе, возглавляющем мир, противоположный миру «праведному». Дьявол как отец грешников будет низвергнут вместе с ними « во тму кромешную », в то время как в противовес им «праведные» идут < … > во прекрасный рай к Богу. Аналогично применяются и к Богу, и к Дьяволу номинации Владыка (с конкретизаторами Владыка мой Бог и Владыко мрачных сил ).
Изначально идеализирующий смысл носила, вероятно, номинация Дьявола Князем. В ее основе содержится указание на воинственность Дьявола – словом князь в прошлом называли лицо, совмещавшее жреческую и руководящую функции, по преимуществу, военачальника, предводителя войска. Таким образом, богословское применение к Сатане слова Князь подчеркивает его воинственность. Поскольку в народной речи словом князь эвфемически обозначается жених (а также и болезненный нарыв), можно говорить и о табуистической функции названия. Нередко эта номинация получает уточняющее расширение и превращается в формулу – Князь мира (се- го), Князь, господствующий в воздухе (Еф 2:2), Князь бесовский (Мф 3:4).
Структурообразующими элементами христианского миросозерцания являются противоречия (антиномии), которые представлены в парах Бог – Сатана, Спаситель – Лжеспаситель, Христос – Антихрист и выражают взаимосвязь категорий Добро и Зло. Такого рода номинации актуализированы в современных религиозных воззрениях, поскольку они характеризуют современный мир как лежащий «во зле», управляемый Дьяволом, который направляет человеческие помышления и страсти туда, куда хочет он, а не Бог. На оппозиции «свет – тьма» основывается номинация Дьявола Князь тьмы , где отражены не собственно зрительные ощущения, а древнее осмысление света и тьмы, которые люди считали божествами («У первобытных племен сложилось убеждение, что мрак и холод, враждебные божествам света и тепла, творятся другою могучею силою – нечистого, злого») [Афанасьев 1995: 48]. В противоположность идее чистоты как символа святости ( Пречистая как эпитет Богородицы) для характеристики Дьявола используется мотив нечистоты ( нечистый дух, нечистая сила ). Нечистота – символ зла, она интерпретируется как следствие погружения падшего ангела в материальное, связанное с грязью (ср. евангельский рассказ о вселении бесов в свиней (Мк 5:12-13)).
Праведности Бога противостоит неправедность Дьявола, в номинациях которого активен компонент со значением ‘ложь’, ‘обман’, ‘коварство’: Дьявола называют клеветником, Отцом лжи, лживым духом . Название также поддержано этимологически – слово восходит к греч. Diabolos (букв. ‘клеветник’). Спасителю, источнику доброты противопоставлен стремящийся погубить людей Дьявол, который назван жестоким ( злым ) ангелом, злым духом . Название Дьявола Враг создано по противоположному соотнесению с Друг Христос (в стихе «В Пятницу святую…» Христос называется Спасом, Другом, Братом, нежным Отцом – Ильинский район, Прикамье) . Слово соотносит Дьявола с недругом, который осаждает «вечные врата» души человека (в говорах враг часто также «черт» – новг., томск., перм.). В стихах (стих «Напал дия-вол на меня, враг прелстивой…», Верхокамье) характеристика Враг может быть усилена эпитетом прельстивый (от старого прелесть «обман, обольщение»).
В то время как официальная церковная традиция ставит во главу угла Бога, народный миф отчасти стремится восстановить баланс между двумя полюсами (по народной поговорке Бога люби, но и черта не гневи). Сопряжением образа Дьявола с языческим чертом объясняются представления о Дьяволе как о звероподобном существе с рогами и копытами, покрытом черной шерстью. Черт и Дьявол оказываются функционально близки: и тот и другой вводят людей в грех, насылают болезни (ср. в говорах: сатана новг. «нечистая сила, леший, живущий в болоте» [СРНГ 2002, 36: 150].
Многие из приведенных номинаций Дьявола призваны эвфемически охарактеризовать опасное понятие, заменить смягченным обозначением название пугающего объекта. Создание особых имен (особенно это ощущается в народной речи) мотивируется запретом на прямое называние Дьявола (Сатаны), что связано со стремлением не накликать беду. Отголоски табуирования имени Беса, замены его дублирующими именем, эвфемическими эпитетами и апеллятивами проявлены в названиях типа окаянный , неприязнь , лихновец. Слово окаянный считается заимствованием из старославянского языка, где оно является страдательным причастием от глагола окаяти «проклясть, осудить». Народная этимология связывает это слово с именем Каина, который, согласно Библии, убил своего брата и был проклят Богом.
Отметим некоторые характерные для текстов духовных стихов названия Дьявола. Выступая в качестве посредника между письменной христианской и устной народной культурой, стихи, тем не менее, не достаточно активно используют такие имена книжного происхождения, как Асмо-дей, Вельзевул (Велзеул), Антихрист. Гораздо более частотны описательные номинации. Такова характеристика Дьявола лукавый (производное от старого лука в значении «хитрость, коварство», из осмысления кривого, изогнутого как неправедного). Лукавым в стихах называется Дьявол-змей (…змей лукавый, семиглавной, изрыгал он свою горкую ярость по всеи земли, по вселенной – Верхокамье). Определение может сочетаться со словом Антихрист (Антихрист лукавый – стих о Никоне «Повесть я сию пишу…»). Как лукавый характеризуется и сам мир, который верующим оценивается как погрязший в пороке (Мире лукавый, скорбми исполненный – стих «О горе мне, грешнику сущу…», записано в Октябрьском районе Костромской области). Аналогично кривым называется бес в стихе о Никоне «Повесть я сию пишу…» (Верхокамье). В названии Дьявола Падший символически использован мотив падения, который ассоциативно соотносится со «стоянием» как пребыванием «в вышних»: «падение» есть перемещение в область низменно-материального, в нижний мир, под ко- торым верующими понимается и ад, и просто земля. Падшим в стихах называется и сам грешный мир (ср. в стихе: «Душе моя, умилися, пад-шаго мира удалися»).
Активны в стихе «животные» метафоры, которые подчеркивают глубину падения Дьявола – ниже человеческой природы. Определение Дьявола Змеем ( Змием ) в исследованных текстах духовных стихов встречается 5 раз. «Древний змий, клеветник и враг Божий» назван Сатаною в Новом Завете; в облике змия Сатана обманул Еву и Адама. Несомненно, эта «фигура» Дьявола воспринимается как метафора, обозначающая его обращенность к земле и земному (слово змея этимологически родственно слову земля ), поскольку небесные сферы для него отныне закрыты.
Дьявол в библейских текстах может соотноситься с собакой, волком, медведем, львом, барсом (Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить (1Петр 5:8)). В Апокалипсисе Св. Иоанна Богослова Дьявол представлен как фантастический зверь: … зверь багряный с семью головами и десятью рогами: на рогах его… десять диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него – как у медведя, а пасть у него – как пасть у льва ). Эклектическое соединение в одно черт барса, медведя, льва в этом случае есть способ воплощения абстрактной идеи «звериности» Дьявола как таковой. Гипероним зверь активно применялся и применяется не только для представления Сатаны, но и его «ставленников», в том числе и реальных исторических персонажей (в частности, Наполеона Бонапарта). Слово используется даже для характеристики более абстрактных проявлений «земного лика Сатаны». Так, Cергий Булгаков в «Апокалипсисе Иоанна» сравнивал с апокалиптическим зверем государство: «Зверь… означает государство… зверь государственности тоталитарной, притязающей стать единственно определяющим и исчерпывающим началом в человеческой жизни» [Булгаков 1948: 46-49].
Своеобразная характеристика Дьявола-животного представлена в стихе о Никоне «Повесть я сию пишу» (зап. в Верхокамье): Грозно хлопал он глазами и ослиными ушами поводил… Любопытно, что на триптихе И.Босха «Сад земных наслаждений» черный демон у престола Сатаны также изображен с ослиными ушами. Соотнесение Дьявола с ослом задает негативнооценочное к нему отношение (ср. известное использование ослиных ушей для символизации глупости, например, на шутовском колпаке как образе дурака; дурак же в народной речи нередко соотносится с чертом, ср. смоленское дурак его знает в значении черт его знает).
Отмечаются в стихах и более сложные характеристики Дьявола. Так, достаточно необычная номинация черт несчастной для Дьявола-соблазнителя Адама и Евы представлена в стихе «Жили Адамий и Ева»: Оне сели под кусточек, под кусточек под ракиту, К ним подкрался черт несчастной, черт несчастной, сам злосчастной. Он и стал и вопрошати¸ он и стал и соблазняти на сотонскую на веру (зап. в Юрлинском районе Прикамья). Определение Дьявола-черта «несчастный, злосчастный» с оттенком жалости, соучастия, несомненно, связано с фольклорным, народным восприятием черта как существа, не находящего себе места в этом мире (и поэтому мешающего праведно жить остальным). Вероятно, поэтому и во многих народных сказках черт предстает неудачником, несчастным, вызывающим жалость (заметим, что как несчастный черт нередко характеризуется и в художественной речи – см. рассказ Л.Андреева «Правила добра», стихотворение М.Петровых «О рьяный дьявол»).
Специфической для духовных стихов является номинация Дьявола преисподним вампиром (стих «Повесть я свою пишу…», Верхокамье). Вообще, с образом ада в духовных стихах Дьявол соотносится нечасто, локус его обитания чаще всего – человеческий мир (из устойчивого религиозного представления о приходе Сатаны в мир перед Вторым Пришествием Христа, об уже наступившем Конце времён). Вампир – хтониче-ский персонаж славянской языческой демонологии, оборотень-мертвец, который, выходя из могилы, пьет человеческую кровь, соотносится, как и Сатана, с Тьмой, считается ее порождением.
Имя Дьявола, как и Бога, есть ключевой религиозный символ, который сакрализуется, наделяется особыми онтологическими признаками. Подобно другим символическим образованиям, система именования Дьявола антиномична, строится на оппозиции к системе номинаций Бога (Христа), что отражает дуалистическое восприятие мира носителями религиозного сознания. Наблюдения над использованием имен Дьявола в прикамском духовном стихе показывают, что многие из них являются именами собственными в «ослабленной» степени, поскольку образованы от апеллятивов. Среди них немало «подменных», неподлинных имён, наделенных ярко выраженной эвфемической окраской. Их функция заключается не столько в различении объектов, сколько в их объединении для представления многоликости Зла. В текстах духовных стихов активно используются как однословные име- нования Дьявола, так и двусловные, являющиеся описательными перифразами, а в ряде случаев устойчивыми фразеологизированными формулами.
1 Номинации Дьявола извлечены из различных собраний духовных стихов: сборников «Голуби на часовенке» [Подюков, Хоробрых 2009], «Русские в Коми-пермяцком округе» [Бахматов и др. 2008]; «Духовные стихи Верхокамья [Кому повем печаль мою… 2007]. Использованы также Рукописный сборник добрян-ских духовных стихов, полевые фольклорные материалы по Пермскому краю Центра этнолингвистики Пермского государственного педагогического университета.
Professor of General Linguistics Department
Perm State Pedagogical University
Mikhail A. Solomonov
Post-Graduate Student of General Linguistics Department
Perm State Pedagogical University
Список литературы Особенности именования дьявола в духовных стихах Прикамья
- Аверинцев С.С. Сатана//Мифы народов мира. М.: 1992. Т. 2. С. 412-414.
- Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов: в 3 т. М.: Современный писатель, 1995. Т. 1. 414 с.
- Бахматов А.А. Русские в Коми-Пермяцком округе: обрядность и фольклор. Материалы и исследования/А.А.Бахматов, Т.Г.Голева, И.А.Подюков, А.В.Черных. Пермь: Изд-во «ОТиДО», 2008. 502 с.
- Булгаков Сергий. Апокалипсис Иоанна: Опыт догматического истолкования. Париж, 1948. C. 46-49.
- Кому повем печаль мою… Духовные стихи Верхокамья. Исследования и публикации/под ред. И.В.Поздеевой. М.: Данилов ставропольский мужской монастырь, 2007. 332 с.
- Мусорин А.Ю. Лексические заимствования в области христианской теонимической лексики восточнославянских языков//Компаративистские исследования и кросс-культурный подход в науке и образовании. Новосибирск, 2008. С. 118-120.
- Подюков И.А., Хоробрых С.В. Голуби на часовенке. Сказки и песни деревни Усть-Уролка. Пермь: ООО «Изд-во "Сота"», 2009. 128 с.
- Соломонов М.А. «Многоименность» Богородицы в русских духовных стихах (на материале прикамской традиции)//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 2(8). С. 30-34.
- СРНГ -Словарь русских народных говоров. Вып. 36. СПб.: Наука, 2002. 344 c.
- Черепанова О.А. Культурная память в древнем и новом слове. СПб.: С-Петерб. ун-т, 2005. С. 92-101.